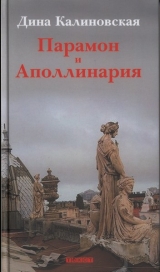
Текст книги "Парамон и Аполлинария"
Автор книги: Дина Калиновская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
РИСУНОК НА ДНЕ
Маленький душный театр считался в городе прогрессивным и новаторским, поскольку его спектакли – авторов современных и тем более местных – отличались от классических приторных оперетт серьезным отношением к идее пьесы, и даже бесхитростная шутка тяготела к многозначительности, шутка-ягодка, например, к философичности, а шутка-лютик – к совершенно несуразным намекам. Но – ах! – Марица! И – ах! ах! – Сильва!
Скудна была бы жизнь города без пламенных чаровниц, без их крашеных перьев, безумных платьев, без слов, которые можно произносить только голосом пространств:
– Граф! Я ждала вас!
Необъяснима сила счастливо-откровенной лживости и томительно-прекрасной ненатуральности и моложавости примадонн.
– Граф! Я прошу вас!
Ах, пыльный бархат занавеса! Ах, неторопливое угасание главной люстры! Уже умолк настраивающийся оркестр, уже трижды постучал дирижер палочкой по краю пульта. И вот уже музыка распростерла шелковые крылья над стареньким театром – началось!.. А вот уже она, особенная пауза перед выходной арией героини. Это мгновенное затишье высекает даже напуганность на лицах всех, кто знает подлинную ценность первого явления примы. И взволнованный шепот! И тщательная подготовленность летучих жестов! Ах, уместность танца после сумрачно-гротескного вмешательства гордости и рока:
– Граф! Оставьте меня!
Какое, в сущности, счастье – попасть на оперетту летом под воскресенье в черном платье на узких бретельках и с кавалером, презирающим обман.
– Что тебе во всем этом нравится? – спрашивал он. Сам он просил у искусства суровой и беспощадной правды о несправедливостях, его душа жаждала разоблачений.
– Ах, все! – отвечала она ненатуральным голосом примадонны.
Они сидели в ложе, она впереди, он во втором ряду за нею. Он пришел в театр в костюме и галстуке, она впервые увидела его в пиджаке.
– Слушай, ты жутко красивый!
Он поморщился, он с неудовольствием принимал ее комплименты его внешности, но все же поддался, перекатил под рукавом круглый, как арбуз, великолепный бицепс, чтобы затем, спохватившись, сжать ее почти детское запястье со значением: не хвали за вздор, я красивое никто – и это непоправимо!
– Начинается! – прошептала она сердито.
Он скосил к ней взгляд растерянности, взгляд упущенного времени и малости предстоящего, взгляд утреннего моря, и невзошедшего солнца, и молочного неба, взгляд незрелости, и печали, и просьбы, и покорности.
– Где сама? – строго спросила она о жене.
– Уехала в Бакуриани к родственникам, – был ответ.
– Ах вот оно что! – с обычной между ними ласковой язвительностью воскликнула тихонько она.
Он пожал плечами. Ничего, мол, особенного, и нечего, мол, язвить. Уехала в Бакуриани, у нее там тетка, обыкновенные дела. Значит, человеку так захотелось. Муж с приятельницей смотрят «Марицу», и в этом нет ничего удивительного, подумаешь, психологические сложности!
– Хочешь посмотреть, как я живу? – шепнул он.
– Сегодня? – спросила она шепотом примадонны и взглянула в полутьме ложи из-под накрашенных ресниц.
– Когда же еще! – шепнул он и окутал большой ладонью ее маленькое голое плечо.
– Марица приехала! Марица приехала! – устремляя лица и взоры в левую кулису, восклицала массовка. Пружинно отжимая шаги от поскрипывающего пола, пронес себя по диагонали сцены красивый, как сам чардаш, управляющий Тасилло, и умопомрачительны были его обтягивающие лосины, и короткие сапожки, и галуны, и осанка, и стан, и профиль.
– Безумец! – прошипела она. – Я не войду в семейный дом, когда жена в отлучке! – И тут наступила та самая пауза, великий момент затаенных дыханий перед выходной арией дивы.
И вот уже завтра, воскресенье, горячий полдень. Атланты на той стороне улицы щурились на солнце и вздыхали. Прохожих не было совсем, весь город в такое воскресенье бывает на пляже. Только часовой из мореходного училища время от времени выходил на улицу, смотрел на безоблачное небо из-под сдвинутой на глаза бескозырки, постукивал прикладом винтовки по тротуару и снова исчезал в прохладном вестибюле училища.
– На пляж бы! – сказала со стремянки Серафима.
– Лишь бы болтать! – ответила снизу Маруся.
К вечеру обещали явиться маляры, до их прихода много было всяческой работы. Серафима под самым потолком отдирала от стен мокрые старые обои, Маруся внизу проделывала то же.
– Ты совершенно напрасно звала тетю Ясю, – сказала Серафима. – Нам тут на два часа возни, не больше.
– Меньше читай, тогда мы успеем, – ответила Маруся, она раздражалась, когда Серафима зачитывалась газетами из нижнего слоя оклейки. – Ты убрала чашку? – И Маруся обернулась, проверила и убедилась, что чашки на виду нет.
Тетя Яся покушалась на последнюю бабушкину чашку, и чашку прятали, если тетю Ясю ждали в гости.
Маруся собрала на полу ворох обоев и понесла охапку во двор, там был общий ящик для мусора.
«По уточненным данным, за вчерашние сутки сбито не пятьдесят шесть, а сто два самолета противника. Двадцать два наших самолета не вернулись на свои базы», – читала Серафима. Газеты были сорок первого года, они не отпускали.
«Театр оперетты, воскресенье днем – „Дороги к счастью“, вечером – „Марица“. Цены на билеты снижены на пятьдесят процентов». Здесь были театральные объявления времен бомбежек и обстрелов.
– Она еще не пришла? – спросила Маруся, вернувшись и отряхиваясь.
– Ее нет.
Когда-то их было полдюжины – с коровой и теленочком, с лошадью и жеребеночком, с гусыней и гусятами, с курицей и цыплятами, с козой и козлятами и эта, что осталась цела, со свиньей и поросятами. Тете Ясе она не давала покоя, чудом уцелевшая небольшая фаянсовая чашка с ручкой бубликом, загнутыми внутрь краями и старательной картинкой на дне.
– Дитя тротуаров! К обеду явится как миленькая! – заворчала Маруся.
Тетя Яся жила с дочерью Нелей возле вокзала, неблизко. Однако тетя Яся трамваем никогда не пользовалась, а ходила пешком, и стоило полюбоваться ею, когда она шла, искательно присогнувшись. Тетя Яся искала деньги. Тетя Яся их находила. Тетя Яся служила раньше когда-то курьером на скудной, конечно, зарплате, и нахождение денег на улице сделалось привычкой ее и призванием. Куда бы она ни направлялась, она видела только землю. И ни одна монета, оброненная, может быть, даже позавчера, не оставалась без владельца, если тут прошла тетя Яся. «Деньги валяются под ногами!» – был ее экономический лозунг, и буквальность его подтверждалась ею чуть ли не на каждом шагу.
Она знала места распространения медных монет и монет никелевых.
Однако бывали и купюры.
Маруся смеялась, Серафима нисколько.
– Дитя тротуаров! – придумала Маруся.
– Ты ничего не понимаешь! – возражала Серафима.
– Лучше бы она научилась зарабатывать как следует! – философствовала Маруся.
– Чем бы тогда она отличалась от тебя?
– Не вижу смысла в том, чтобы кто-нибудь от меня отличался, не вижу резона! Я плохая? – говорила Маруся, и они смеялись.
– Ты молодец у нас! – честно говорила Серафима.
– А что – нет?
– Еще как – да!
Особенно теперь, когда они поменяли квартиру, Маруся имела основания собой гордиться.
– Не читай, давай скорее закончим, вдруг они (маляры) придут раньше, чем собирались! – торопила она и трясла стремянку, на которой читающая Серафима начинала от тряски визжать. – Не читай! Некогда!
– Ииии! – визжала Серафима.
Обмен с шестью промежуточными участниками был выношен Марусей как мечта в течение всех двенадцати послевоенных лет и вот был осуществлен наконец, хотя казался невероятным – никто из участников не был в нем особенно заинтересован, никто, кроме истовой Маруси. Маруся ликовала. Всю убедительность, на которую она была способна, которая, вполне может быть, была ей отпущена на целую жизнь, Маруся вытратила, вероятно, на уговоры партнеров. Все сбережения были израсходованы в поддержку убеждений, и продан бабушкин ковер со слонами и Марусино вдовье обручальное кольцо. И вот они переехали из небольшой, но отдельной квартиры, хорошей, но чужой, в свою довоенную, с соседями, с прежними довоенными соседями. И вот они уже обдирают обои, украсившие жизнь того страшного человека, который не впустил их домой, когда они вернулись из эвакуации осиротевшими. Это была Марусина победа.
– Сейчас я тебе скажу одну вещь, – объявила снизу Маруся, поднятые к Серафиме глаза горели.
– Ну? – сказала Серафима.
– Не нукай.
Маруся прислонила к стене дворовую метлу, ею она смачивала из ведра стены, присела на валик дивана, застеленный, как вся мебель, газетами, стряхнула скорлупки штукатурки, насыпавшиеся на волосы, на чистый ее пробор, на только начавшую седеть голову, положила руки на колени и сказала тихо, прислушиваясь к собственным словам и собственным новым чувствам:
– Эти обои, – сказала она, – мы с папой купили перед самой войной на Привозе против зоосада! Я только сейчас их узнала. Я помню, мы спорили из-за бордюра: папа хотел широкий, а я настояла на золотом.
– Ты шутишь?! – воскликнула Серафима шепотом.
– Нет. Я только сейчас вспомнила. Они пролежали в чулане, и этот их поклеил, когда вселился. – Маруся закусила губу и затрещала пальцами от невозможности отомстить.
– Невероятно!
Как в детстве со шкафа в кровать, как разрешал когда-то папа, двадцатидвухлетняя уже Серафима спрыгнула к матери со стремянки прямо на диван. Зашуршали смятые газеты, застонал могучий диван.
– Невозможно, мама! Год мы здесь живем, а ты только сейчас их узнала?!
Маруся помолчала, видимо сдерживая зазудевшую к затрещине ладонь.
– Нет, – сказала она, помолчав, – это они. Они были бордо, но выгорели.
Обои были душно-розовыми, только в углах и в тех местах, где до этого висели картины, они были в какой-то степени бордо.
Амуры из затекших углов угрожали луками голой электрической лампочке. Амуров звали: Тосик, Лёсик, Гоша, Кеша. Здесь Серафима родилась. Здесь перед сном ее купали в жестяном корыте, и папа разогревал простыню у огня в камине, заворачивал в нее мокрую Серафиму, и носил вокруг стола, и приподнимал к вечерней люстре, и приговаривал: «Доця моя! Доця! Доценько гарненька!..» Нежнее не говорил никто.
– Мама! – прошептала Серафима. – А эти поклеенные газеты – не папины?
Маруся уже работала, уже шваркала тощей метлой, собирала в кучу обойные обрывки. Остановилась, задумалась.
– Вполне может быть, – сказала она. – В нашем доме газеты не выбрасывались. В нашем доме газеты скапливались годами. В нашем чулане был угол для старых газет. Сейчас я тебе скажу – мы выписывали «Медицинскую газету», но и «Правду», и «Черноморскую коммуну». Что тут? Да, «Большевистское знамя» тоже.
– Они, – прошептала Серафима.
Марусина метла упала, стукнулась об пол. Маруся снова затрещала пальцами.
– Естественно, что этот их использовал!.. – сказала она. И вдруг закричала с искаженным лицом, вздела кулаки над плечами: – Вставай! Вставай, я тебе говорю! Что ты разлеглась, как роженица?! Вставай! – кричала она даже тогда, когда Серафима уже взметнулась под потолок, уже заскребла ножом по размокшей штукатурке, счищая неровности. – Вставай!
– Слышишь, там, кажется, снова шумят! – шепнул один атлант другому.
– Ну что ж! – вздохнул товарищ. – Женщины!
Наследники того человека, который не впустил в дом Марусю с детьми, когда они вернулись из эвакуации, при обмене квартирами не только оставили на месте неподъемные вещи покойного дяди – стол и диван, но даже объявили своим условием: возиться не будем. Маруся сокрушенно сжимала слабые вдовьи плечи: что делать, найму дворника, свезет на свалку, новые траты, но что делать!.. Однако только наследники удалились за дверь, чтобы больше никогда не появляться, Маруся водворила дубовый на шарах и орлиных лапах стол из невыгодного для его вида угла на достойную середину, с дивана сбросила застиранные, эффектно жалкие ковровые дорожки, камуфлирующие кожаную добротность, протерла зеркала на отрогах резной его спинки и потребовала аплодисментов.
– Ну? – Она сияла.
– Будем жить, как герцогини! – восторгалась Серафима.
– Мурзинька на нем будет спать, когда вернется, – осадила Маруся Серафимины восторги.
– Пусть Мурзинька!
Мурзинькой назывался брат Сигизмунд, матрос первого года службы.
В диване Серафима нашла клад. Книги.
Читать можно было только по ночам, когда Маруся засыпала, когда умолкало невыключавшееся радио, второе Марусино сердце.
Так Серафима не плакала ни над одной книгой или только над одной, над самой первой своей книгой, над «Гуттаперчевым мальчиком».
– Ты помнишь тетю Надю? – проснулась среди ночи однажды Маруся, а Серафима в слезах читала, и близилось утро, скоро пора было вставать на работу.
– Из Тирасполя? – Были две тети Нади, мамины подруги по гимназии.
– Нет, с улицы Энгельса.
– Ну?
– Не нукай. Она в твоем возрасте запоем читала Шопенгауэра.
– И – что?
– Ничего. Так и не вышла замуж.
Маруся крутнулась к стене, загремела сеткой никелированной кровати и снова заснула.
Мотался фонарь за окном перед мореходным училищем, раскачивал тени улиц. Ветка акации скреблась о стекло фрамуги, ветер из порта залетал в приоткрытые створки окна, в комнате пахло морем и ржавым железом. Сказанные в рупор, невнятные, доносились команды погрузки, раз от раза слышались пляшущие раскаты продвигаемого под кран товарняка.
Они уже почти все и закончили, подготовительные к приходу мастеров работы. Осталось счистить только кусок стены над камином – и все, можно было бы даже удалиться из дома на пляж, все же лето, воскресенье, Маруся могла и отпустить. С намерением побыстрее освободиться Серафима перетащила тяжелую стремянку к камину, взобралась снова и потянула мокрый отпузырившийся бордюр.
«Солдаты Антонеску!» – прочла она с изнанки.
Обрамленная жирной черной полосой, удаленная от газетных колонок широким полем, чтобы не пачкала близким соседством наши горькие сводки с фронта, городской газетой была представлена жителям и защитникам осажденной Одессы румынская листовка.
«Город перед вами, – говорилось в ней, – не только самый крупный порт на Черном море, но и ворота в плодородные степи Украины. Скоро вы сможете получить большие земельные наделы и привезти сюда ваши семьи, вас ждет процветание. Но доступно это будет исключительно тем, кто проявит бесстрашие при штурме. Если же кто-нибудь повернет назад, без жалости и сожаления будет расстрелян. В наступлении за вами всегда будут следовать пулеметы специального отряда. Солдаты! Будьте на вершине вашей судьбы!»
– Ты опять читаешь?! Сейчас время – читать?! – У Маруси глаза становились белыми, когда она злилась.
Читать было – не время.
Маруся перестала размазывать метлой известковую кашу, оцепенела.
– Безумная!
Но – ничего. Вот уже подпрыгнула, как молодая, выдернула из Серафиминых рук свисающую полосу, вот уже сгребла на полу оборванные обои в кучу, приплюснула ногой, замотала в лохматый рулон, в охапке потащила вон, рассыпая по коридору пыль и обрывки.
– Ну, никакого почтения к истории! – Серафима конечно же спустилась со стремянки и, постояв перед зеркалом, отправилась тоже во двор. Они встретились посреди двора на солнышке. – Ну, никакого археологического трепета!
– Безумная, ленивая и наглая! – ответила Маруся, уходя в дом. – Ищешь повод ничего не делать!
Серафима разворошила выброшенную в ящик охапку обоев, аккуратно вырвала листовку.
Из окон по-воскресному пахло горячим компотом, ванилью, где-то жарилась картошка. Три рыжих кота разлеглись на разогретых квадратных плитах дворового мощения перед подвальным окном бабушки Смульской, три черных – перед окном бабушки Замройской. В приямке окна бабушки Гончарук кудахтала привязанная за ногу курица, может быть, собиралась снести яйцо. Уже отцвело абрикосовое дерево, на нем завязались никогда не вызревающие в городе абрикосы – их съедали зелеными. Ласточки выстроили два гнезда под балконом флигеля, то вылетали оттуда, то возвращались. Горлицы слаженно стонали на карнизах под крышами, казалось, пляшут где-то поблизости незримые цыганки: а! а! а!
Как благодарна была Серафима Марусе за то, что она сумела исхитриться и они снова здесь, в этом дворе! Тут не упала бомба, сюда не влетел снаряд, здесь все естественно ветшало само собой – ссыпались потихоньку завитки лепнины на фасаде флигеля с террасой, обламывались круглые балясины террасы, из двух мраморных ваз на акротериях одной уже не было, другая качалась. Но войной их двор не тронуло, даже тополь не сгорел, хотя именно в тополь, в густую его крону однажды, когда Маруся дежурила на крыше, упала зажигательная бомба, застряла между ветвей, но не зажглась, и тополь – вот! – цел и высок, прям, как веретено.
Было только самое начало лета, конец мая. Дворовые кошки еще по-весеннему скреблись о тополиный ствол, раздирая кору. На голой лозе дикого винограда совсем недавно лопнули красные почки, и из каждой одновременно выпростались пять красных шерстистых созданьиц, пять щербатых листочков, как костерик из пяти пламенных языков. В их дружной повадке, в самой идее одновременного рождения угадывалась игра, какая-то уловка для веселья. И вот – так быстро! – это уже густая темная зелень зрелого лета, и понятно, что из одного рождающегося узла на лозе вышло не пять листьев, а один пятерной, и независимость их друг от друга была только кажущейся.
– Все равно уеду куда-нибудь! – буркнула Серафима виноградному дереву. – Я чувствую! Москва!
Серый пыльный ствол завернулся у основания сложной петлей наподобие морского узла, об него тоже, изгибая спину, точили когти дворовые кошки, он сам по-весеннему все еще потягивался, кряхтел, скрипел и сбрасывал сморщенные прошлогодние ягоды, – раздавленные, они оставляли на плитах двора лиловую кляксу, двор казался забрызганным школьными чернилами.
– Здрасьте!
– Привет!
– Ну как?
– Нормально.
В углу двора была сброшена куча угля. Это Жорик Замройский, женатый бабушкин внучек, озаботился топливом на предстоящую зиму после ведь не бесконечного же лета. Хозяин. Вот он вышел из сарая с двумя ведрами, криво кивнул Серафиме, кисло спросил: ну как? Их отношения сложились еще в детском саду, в отпетой средней группе.
– Ах, Жорка, – дразнила его Серафима в школьные времена. – Не хочешь на мне жениться, товарищ называется!
– Комар пусть на тебе женится! – отвечал он, и они смеялись, но доброты в их обоюдной шутке было мало.
«Почему я тебя так не люблю? – казалось, говорила она ему. – Ну, не люблю, хоть убей! С самого детского сада, то есть всю жизнь!»
«А я? Так чтоб ты знала – еще хуже! – казалось, отвечал он. – И что делать?»
Он вдруг надумал вымыться под краном, освежиться, стянул тельняшку, стал плескаться у водопроводной колонки в виде грота с дельфином, стал размазывать на руках и щеках жирную угольную пыль.
– На пляж идешь? – спросил он пригласительно, подсунув под струю затылок и взглядывая на нее снизу сквозь потемневшие от воды ресницы. От его затылка разбрызгивался фонтан.
– Ремонт! – вежливо отказалась она, как будто, не будь ремонта, тут же и составила бы ему компанию.
– А мы пойдем. – Он недавно женился и повсюду говорил «мы».
Он выпрямился, стряхивая с себя капли, растирался ладонями.
Славный парень, добродушен, лицо подсолнухом, брови домиком, спортсмен – гоняет велосипед за команду «Водник», рассчитывая через спортобщество попасть в загранплавание. Никакого зла за ним не числилось, только та история в лагере «Зорька», когда он распустил язык и весь лагерь знал, что в детском саду, в средней предвоенной группе, они с Серафимой играли за шкафом в доктора.
– Жорка! – сказала Серафима ласково. – Мы ведь с тобой знакомы всю жизнь! С детского же сада!
– Ха! – нечисто заулыбался он. – Еще бы! Все друг про друга знаем! – Он натянул на мокрое тело тельняшку, расправил плечи.
– Нет, серьезно! – говорила Серафима. – Нами столько вместе пережито! Помнишь, как мы осколки собирали после отбоя? Помнишь мираж? Ну, кораблик парусный? В парке! Не помнишь? Ты же первый его заметил, мы с тобой шли в паре, ты сказал басом: «Корабль!»
Нет, мираж он не помнил.
– Да ты что! Ну как же, Жорка! – рассердилась Серафима. – Такое не забывается! Нас вели на прогулку, мы шли в одной паре, ты первый увидел на небе мираж и сказал басом: «Корабль!» И все встали на месте, как суслики посреди мостовой, воспитательница чуть с ума не сошла – так мы остекленели! Не помнишь?! Парусник на небе не запомнил?!
Шкаф он помнил.
– Все! – сказала Серафима. – Ужас что с твоей памятью! – Она уже чувствовала, что Маруся накаляется ее отсутствием, собиралась было почитать ему румынскую листовку, но не стала. – Будь на вершине своей судьбы!
– Комариха! – сказал он ей вслед.
– Не захотел на мне жениться, товарищ называется! – обернулась она, уходя в арку подъезда к своему парадному.
Но не пошла домой, а вышла на улицу, чтобы посмотреть, не покажется ли в перспективе улицы хрупкая фигура в юбке по щиколотку, не завидится ли вдали присогнутая к земле рано поседевшая голова вечно ищущей, не идет ли тетя Яся.
Ее не было.
Тетя Яся не делала тайны из мест удачливости. Наоборот. Она научила Серафиму находить деньги, как только Серафима попросила ее об этом.
«Те, что смотрят в небо, имеют шиш!» – первое из правил тети Яси.
И Серафима, уподобившись рыскающей собаке, в первый же день охоты разбогатела – аккуратно сложенная десятка под воротами стадиона, поздно вечером закончился матч; трешка возле кассы под ногами задумавшейся очереди и, наконец, скомканный в шарик рубль, не сразу узнанный, он просто катился перед нею в пыли под легким ветром, как маленькое перекати-поле. Монеты не попадались, монет Серафима не встречала.
«Встречала! – укоризненно инструктировала ее тетя Яся и строго трясла седыми кудряшками. – Но не заметила. Это очень плохо, что ты начала с купюр. Твои глаза не хотят мелочиться, это очень досадно. Кто не имеет внимания к маленькому, может сломать себе шею, когда замахнется на большое».
Серафима инструкциям вняла, и было одно лето, после которого надо было отвыкать от сутулости.
Смертельно вдруг захотелось взглянуть на море, оно было совсем рядом, в четырех домах. Чтобы не быть замеченной из окна Марусей, Серафима прошмыгнула под окнами, прижимаясь к стене, и побежала, болтались следом оборванные ремешки старых босоножек.
«Туда и обратно!»
И сквозь решетку открылся весь залив в весеннем торжестве голубизны и сверкания. Море мерцало под солнцем, и чистый был горизонт. За решеткой согретый солнцем склон был еще по-весеннему влажен, воздух перед Серафимиными глазами дрожал от испарений, и дышали, казалось, крашеные крыши ближних портовых построек, ломко качались трубы канадского сухогруза, прибывшего с зерном. Птицы города слетелись на его разгрузку, стаи перелетали от раскрытых трюмов к засыпным вагонам подогнанного к причалу железнодорожного состава. Белые теплоходы стояли у пассажирской гавани, яхта с треугольным парусом белела на внешнем рейде, белый высился маяк.
И вдруг от Карантинной гавани на недопустимой в порту скорости, петляя от причала к волнорезу и снова к берегу, между судов понесся по воскресной майской глади неказистый, очень черный, грубо раздымившийся буксирный катер. Борта его были приплюснуты, труба заломлена к корме, смоляной дым потянулся за ним, оседал на воду, на белые палубы, не таял, а оставался быть в безветрии, зачернил всю безмятежную акваторию порта, и очень все это было похоже на промчавшийся жгучей откровенности скандал, хотя, конечно, это была какая-то прочистка или продувка, скорее всего – обкатка, как бы объявив белым теплоходам, что он о них думает, а заодно зачадив весь горизонт, буксир скрылся за дальними мысами.
«Бедный! – мысленно воскликнула ему вслед Серафима. – Бедненький! – Она растрогалась человеческим поведением морского тягача. – Несчастная буксирная душа! Конечно, ни одно большое судно не в состоянии выйти из порта без тебя, ни о какой могущественности с их стороны не может быть и речи! Так им и надо, так их! Пусть покашляют! У тебя океанский размах способностей, сразу видно! Тебя недооценивают, мало любят! Но ты же молодец! Но я же вижу – ты лучше всех, самый сильный, самый красивый!»
И Серафима побежала обратно, и до самого дома бежала за ней с дурашливым лаем заскучавшая было на жаре знакомая дворняжка из ближнего к обрыву двора.
– Не пришла тетя Яся? – Сегодня все двери в квартире по случаю ремонта были распахнуты.
– Где ты застряла? – ответила Маруся. – Давай!
– Выбросить и уничтожить – простое дело! – ответила Серафима, разглаживая на столе листовку. – Но спасти и сохранить – это требует терпения, времени и труда.
– Давай, давай, не разговаривай! Умная!
«Обращение горкома и обкома партии к населению. Товарищи! Враг стоит у ворот города. В опасности все, что создано руками нашими. В опасности жизнь наших детей. Пришло время к любым жертвам…»
– Наглая! – крикнула Маруся и выдернула из Серафиминых рук кусок обоев. – Время идет! То она гуляет, то она читает!
С энтузиазмом тридцатых годов Маруся намотала последний рулон и понесла во двор. На обрывке, который Серафима удержала в пальцах, можно было прочитать, что военному трибуналу предан гражданин, нарушивший правила светомаскировки.
Атланты на той стороне улицы щурились под солнцем и улыбались.
– Ну, разогреть жаркое?
Они уже все приготовили к приходу маляров, даже застелили пол и мебель газетами.
– Тетю Ясю надо подождать.
– У нее чутье, не волнуйся, явится минута в минуту. – И Маруся ушла на кухню по длинному их коридору, чтобы вернуться с казанком в тряпках, с казанком той неумирающей формы, которая была изобретена для печи и ухвата.
– Кушай, – говорила Маруся, выбирая для Серафимы самые аппетитные куски из жаркого. – С хлебом, дрянь, перед людьми стыдно – кожа да кости!
От усталости есть не хотелось, но Серафима послушно ела и разглядывала Марусю, нехотя ела и грустно разглядывала родное Марусино лицо – ясный лоб, нос как фарфоровый, тенистые щеки, спокойные легкие губы. Красивее Серафима не встречала лица.
– Ешь! – бурчала Маруся, чувствуя, что Серафима думает о ней. – Ешь, не ковыряйся, посмотри на себя!
– Уродливая? – уточнила Серафима, жуя.
– Не то слово! – ответила Маруся.
– Уродство – хорошая защита во многих случаях, – сказала Серафима.
– Красота – лучшая защита, – возразила мать.
И тут же задумалась, вспоминая:
– Однажды был жуткий дождь, и мне пришлось спрятаться в казарме… Я одна, хорошенькая, как ангел, гимназисточка, сто или двести солдат, и – ничего! Никто даже пальцем не дотронулся!..
Серафима восхитилась:
– Та так нэ бувае!
– Во всяком случае, с тобой все было бы иначе!
– И не спасло бы мое уродство?
– Тебя ничто не спасло бы.
– А тот, кто меня ждет по утрам, развратник?
– Высшей марки. – И, чтобы не рассмеяться, Маруся отмахнулась. – Ну, ешь, не морочь голову!
Какие претенденты на Марусину руку и Марусино благорасположение живали на белом свете, какие красавцы хаживали где-то в ближних и дальних краях с разбитыми некогда сердцами! Какие надписи на обратных сторонах собственных портретов изготовлялись ими на светлую и долгую память коварной, или гордой, или жестокой Марусиньке! Всю коллекцию Маруся хранила в парусиновой сумке из-под противогаза.
– У тебя нет царя в голове – вот что сразу видно каждому, поэтому с тобой не будут церемониться. За тобой нужен глаз да глаз. Кроме того, у тебя абсолютно нет самолюбия, ты никогда не обижаешься, это просто опасно, так нельзя жить! – снова заговорила Маруся, пристально следя, чтобы Серафима ела с хлебом, подсовывала ей куски.
– Я погибшая!
– Почти.
– Самолюбие, мамуля, от маленького сердца.
– А у тебя оно – большое? Не смеши! Получилась какая-то путаница: Неличка должна была родиться у меня!
– А я – у тети Яси, конечно!
– Хороша была бы ваша семейка!
Неля, дочь тети Яси, была на полгода моложе Серафимы. Неля всю жизнь была примером Серафиме. Неля всегда была отличницей. Неля была аккуратной, все вещи у Нели лежали либо параллельно друг другу, либо перпендикулярно. Неля считалась красавицей. Неля была человеком слова и дела. Неля по утрам делала зарядку. Неля была бережлива, у нее уже имелась сберегательная книжка. Неля поступила в Пищевой институт, беспорочной, гладкой была Нелина биография.
– По-моему, Нельку придется убить! – говорила Серафима.
– Это тебя надо убить! – отвечала Маруся. – Неля человек. Неля умница. Вот кто без книги просто жить не может! Она читает всегда!
– Меня как сестру это настораживает, мама, – отвечала Серафима. – Ужасно, если человек боится остаться наедине с собой!..
– Неля интересуется политикой, с ней поговорить – одно удовольствие, – настаивала Маруся, и атланты на той стороне улицы нахмурились под солнцем. – А ты думаешь, что чего-то стоишь. По сравнению с Нелей ты темна, как подвал. Как два подвала. А мне можно верить, ведь я тебе не враг, а мать.
Этот развратник, – продолжала Маруся без всякого перехода, – этот развратник, который торчит под окном каждое утро, с которым ты ходишь на завод, а то, что он развратник, на нем написано черным по белому! – он никогда не бросит ради ленивой и наглой дуры свою жену! Видишь, я все знаю. Компрометировать тебя – да, это ему ничего не стоит. Во дворе мне уже задают вопросы. Вы вместе приходите на завод каждое утро – и что думают, и какие делают там выводы, могу себе представить.
И вдруг Маруся закричала, бросила вилку, сжала кулаками лицо:
– Молчишь?! Гнилая, злая кровь в твоих жилах! Дурацкая кровь твоего папочки! Что он мне подкинул на прощанье! Посмотри на себя в зеркало, урод! Посмотри, не ленись! Не хочешь? Еще бы! Чтоб ему так лежалось в могиле, какая ты хорошая! О, почему я не задушила тебя в колыбели?! Уже тогда было понятно, что за фрукт родился!
Серафима выдержала два опасных момента – несправедливое слово «развратник» и отцовскую безымянную могилу, вероятно братскую. Атланты усмехались: не обращай внимания, пожалей ее, несчастную, пожалей! – и она сказала:
– Неужели, мама, – сказала она, даже улыбнулась, – в пеленочном беспомощном возрасте меня можно было приговорить к смертной казни?
– Беспомощная?! – отозвалась Маруся. – Ты ни секунды не была беспомощной, как только родилась! Она беспомощна! Это все вокруг тебя стали беспомощными, как только ты родилась!
– Мама! Но что может невинный младенец?!
– Невинный младенец способен пить кровь!
– Она так плакала?
– Орала, как зарезанная!
– Несчастный ребенок! Наверно, она хотела кушать, а ей не давали?
Игра действовала, Марусины глаза из белых сделались нормальными, тигриными.
– Ничего у нее не болело, и жрала она точно по норме. Мои дети всегда кушали по часам.
Раз Маруся вспомнила, что детей у нее двое, что есть еще Мурзинька, тихий ее мальчик, значит, успокоилась и вечером будет писать ему письмо.








