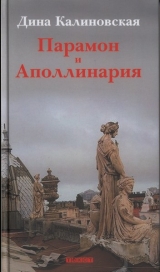
Текст книги "Парамон и Аполлинария"
Автор книги: Дина Калиновская
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
«Ну да, – поддакивала и ему баба Нюша. – Худая баба Клавка, чего и рассуждать! Хужее не придумаешь, весь дом, негодна, на себе тащит, хозяина с должности сгонят, судить ее, бессовесну, при всем народе!»
– Уух… я бы уж!..
«Ну, конешно, Иванушко, конешно, сердешный, покорени их всех геройски, штоб ни одной бабы на всю слободу, а ты сам, да вот Тимка, да магазин бесплатный!» – упивалась их разговором баба Нюша за углом аптеки.
– Вы-то мужики хорошие, – вежливо обратилась она к ним, выйдя наконец из укрытия. – А я иной раз гляжу – топчутся тут как на подбор сероватые, норовят присесть где-нибудь на приступочке, да лучше под стеночкой, да штоб и не дуло. Лица-то плохо бритые, голоса малозвучные, сапоги не чищены, шапки жеваны. Отчего такое? Может, земля у нас для мужчин неполезная?
– Чего? – спросил Иван.
– Вам, может, и незаметно, – бесстрашно продолжала баба Нюша. – А я, буват, смехом умучаюсь вся: сойдутся возле магазина мужиков трое – один немой, другой гогочет противно, у третьего уха нет!
– Ты откуда свалилась, Нюша, сдуй тебя в колодец? – плохо улавливая смысл в ее скороговорке, но почувствовав что-то оскорбительное для себя, удивился мрачный Иван.
– Эдак какой ты, Иван, грубый, – объявила она. – Никогда гладко не говоришь! – И ласково: – Ты, Тимофей Николаевич, рупь у меня просил?
Тимка от неожиданности и вскочил, папироску из уважения спрятал за спину.
– Не могу! – сладко сказала ему. – Потратилась!
И пошла от них мимо горки на мост и по дороге над озером, радуясь, что хорошо поговорила. Теперь можно было попить чай с конфетами и до дежурства подумать на печи о новой крыше сарая и о поросеночке. Она работала в школе-интернате ночной няней, ей к девяти следовало заступить на дежурство.
Дунул ветер – это туча над лесом давала знать о своем приближении. Зарябило озеро, заскрипели липы, понесло по улице листья и пыль. На монастырской горе баба Нюша набрала в ладонь земляники и понесла к себе, но по дороге угостила Марину Капитоновну, молоденькую учительницу. Одна под голыми липами, под грачиными гнездами Марина Капитоновна понуро шуршала красным сапожком в опавших и уже пожухлых листьях, как бы искала что-то.
– Ничего тут не нашаришь, девка, – сказала ей баба Нюша сердито. – А сходи, пока светло, на выпас за льняное поле да собери грибков, которы не поморозило. Маленькие бери, их там навалом, я тебе корзину дам. Чампиёны эти в жарке не хужее осиновых. Наши бабы толку не знают, поганьками их зовя. А у меня пиво есть, и запьем мы твое настроение, и заедим грибками, и запоем песенкой, и вместе потом в интернат пойдем, ты – спать, я – печки топить да мальчиков гонять от девочек.
Дунул ветер, и посыпались сухие сучья, и упало на землю черное пустое грачиное гнездо.
– Пойдем за корзиной, Марина Капитоновна, нехорошо девушке одной в выходной.
– Нет, – отказалась учительница. Ей, оказывается, сегодня обязательно надо телевизор посмотреть.
– Гляди.
И уговаривать не стала. И не только потому, что сказано было достаточно, но и потому, что край ее маленького колкого глаза вдруг был зацеплен каким-то промелькнувшим блистаньем, опасного смысла которого понять она не успела, но почувствовала. И заторопилась, так как сверкнуло оно возле самого ее дома, весной покрашенного голубым. Она добежала до калитки, бросила сумку под забором, сложив руки на животе, уставилась на столб, от которого в дом тянулось электричество. Столб всегда был у нее на подозрении – черный, врытый косо, снизу подгнивший, а главное, слишком близко стоявший к дому. Она простояла долго, ничего не происходило.
За спиной загремели пустые ведра. Она не оглянулась – кроме Шуры-хуторянки, греметь тут было некому.
– Видала? – окликнула та из-за спины.
– Чего? – не оборачиваясь, ответила баба Нюша, думая, что Шура говорит о столбе. Оказалось, не о столбе.
– Весь день тут ходит и ходит. – Шура коромыслом показала на берег, где ходила Марина Капитоновна. – Мечтает, простодырая, что Виктор тут и первый подойдет. А он-то не подойдет, он в городе. Чего ж парню холостому в выходной возле мамки сидеть? – оскорбленно-весело сказала Шура.
Баба Нюша промолчала. А что можно ответить свекрови, у которой невестка сбежала прямо со свадьбы – как была во всем белом!
– Я справку взяла в сельсовете, что не прописана, – говорила Шура. – А прописана. У Виктора в городе пропишусь и зиму у него поживу. Ему квартиру должны дать на заводе, так пускай на двоих дадут, тогда я и обратно подамся, на старости со своей-то печи не слезу. – Шура помолчала, долгим взглядом поискала на берегу учительницу. – Завод его ходила смотреть – стуку там, бряку, запаху!.. Большой завод, – говорила Шура, вынужденная во все времена их соседствования держать инициативу в разговорах, – А она свою глупость до смерти не переплачет.
– Это у вас на хуторе такие понятия, чтобы гордость женскую глупостью считать. – Баба Нюша наконец повернулась к ней строгим лицом. Соседка всего только двадцать лет тому перебралась в слободу из хутора.
– Виктор себе таких сколько хочешь найдет, – робея перед соседкой, сказала Шура.
– Таких? – усмехнулась Нюша. – Это кисель-то твой? – Она строже других осуждала непринципиальное поведение учительницы, но Шуре свое мнение сообщать не собиралась.
– А чего ж, подумаешь! – все так же робко обиделась Шура. – И не кисель, характер имеет. Одного разу схватил самовар горячий да замахнулся, думала – кинет, так обозлился.
– В мать-то?
– В меня, – с достоинством главного свидетеля подтвердила Шура и приняла взгляд, от которого сразу, должно быть, затосковала по родному хутору. – У Ошукиных баран объелся удобрений и околел, – вспомнила новость Шура, морщась под тяжелым коромыслом.
– А тебе и весело, – и тут придралась та, вспомнив о будущем поросеночке.
Председатель проехал обратно и опять поздоровался. Он по пять раз в день мог здороваться с человеком. Немолодой, непьющий, нездоровый, неплохой человек…
А закат тем временем потяжелел, налился, земля тонула в нем, как ложка в клюквенном киселе. Синяя туча широко растянулась по небу, но, как бы обжигаясь закатом, сторонилась его, как бы выжидала, чтобы напылался не торопясь и сам бы пропустил ее в свои горизонты.
Вдруг на столбе тихо треснуло, радостные искры брызнули и посыпались на забор, на поленницу, едва не достигая новой крыши сарая. Шура вскрикнула, не сразу сообразив, что это не опасное явление природы, а обыкновенное повреждение техники.
А баба Нюша подхватила сумку и что было духу уже бежала на площадь. Тимофей, молодец, сидел как сидел с Иваном, никуда, молодец, не делся. Она остановилась на мосту, передохнув, дождалась спокойного дыхания, чтобы не обнаружить перед монтером чрезмерную от него зависимость, и требовательно махнула к себе, как бы зачерпнула его рукой с площади.
– Тимофей Николаи-ич!
Тимка на всю площадь засиял необидчивой своей улыбкой, сразу встал и побежал к ней, бросив мрачно-мечтательного Ивана без извинений и объяснений.
«Ой, скотина недопоенная», – презрительно подумала бабка, когда он предстал перед ней – распахнутый, в розовой рубашке, в съехавшей на ухо шапке, сияющий, уже мысленно лелеющий в кулаке мятый мягонький рублик. Она помолчала, подержала его в надежде и сомнении, наконец, изменив выражение, подобострастно, как полагается с мастерами, сказала:
– Хоть и воскресенье, Тимофей Николаич, хоть и нехорошо тебя всяко беспокоить, да только, видишь ли, на линии авария.
– А чего там? – И улыбка упала с его лица.
– На моем столбе авария, – виновато призналась баба Нюша.
– Провод оборвался? – спросил Тимофей.
– He-а, провод-то висит, – плаксиво, демонстрируя полное свое несчастье, протянула она.
– Искрит? – спросил Тимофей.
– Так и сыпет! – как бы обрадованная его профессиональной проницательностью, подтвердила и закивала она.
– Давно? – спросил Тимофей.
– А кто знает! Днем-то при солнышке незаметно было. А ночью-то как страшно бу-у-дет! – И она с надеждой поглядела на него. – А мне на дежурство в ночь, как без меня лихое стрясется?
– Изолятор, верно, придется менять, – сказал Тимофей и обернулся на магазин, которому пора было закрываться.
– А ты и смени! – обрадовалась простому решению бабка. – Покуда светло – и смени! Бери вот рубль, чтоб веселее тебе идти за инструментом, а у меня – пиво припасено, окуньков отварено, печка натоплена, ты смени изолятор – как хорошо-то бу-у-дет! – И Анна Дмитриевна порылась и достала свеженький упругий рублик.
Тимофей взял, что-то прикинул в уме, похмурился, показывая, что решает задачу, вполне стоящую и рубля и угощения, кивнул и, шаря что-то в кармане, двинул к магазину.
– Ты скоро ли, Тимофей Николаич? – крикнула вдогонку бабка.
– Я быстро, – махнул рублем Тимофей.
Она снова заняла пост у забора, а ветер мотал и дергал провисший провод, со столба, треща, сыпались искры. По озеру бежали мелкие быстрые волны, с тонким хлюпаньем заливали чистый берег, обмывали красные сапожки медленно бредущей к интернату учительницы, докатывались почти до самой бани. Дочки, когда жили дома, напарившись, вот так же выставляли мамку караулить возле столба и по ее знаку, что на улице, мол, никого нет, прыгали в холодное озеро.
– Здоровущи кобылицы, – говорила она им, сердясь и гордясь.
Уже начали слетаться на ночевку в интернат ребята из дальних деревень. Две подружки из шестого класса, обе в синих колготках, попросили поставить велосипеды за сараем, она позволила. И чьих-то троих первоклассников в мотоциклетной коляске провез председатель и снова поздоровался. Она чуть кивнула ему, она не баловала начальство чрезмерной любезностью.
Она подумала на досуге, что земля милая действительно для мужчин здесь неполезная, вот ведь и отец родной хоть и не рыбачил в морозы и лес не корчевал, а легко прослужил егерем у господ в Акулове, был малюсенький, вредный и умер рано, а мама, напротив, еще и сейчас жива, белая и большая.
Тимка словно вынырнул из розового воздуха. Нюша едва успела переменить выражение лица на подходящее для встречи мастера. А он решительно бросил на землю чемодан с инструментом, снял с плеча железные когти, вдел сапоги в стремена, опоясался заодно со столбом ремнем и цепью, полез. Нюша поглазела, как не быстро, но отважно взобрался Тимофей на самый верх, как зачем-то снял шапку и надел ее на верхушку столба, куда весной прилетает долбить красноголовый дятел, но наблюдать за его работой не стала, а поспешила в дом готовить угощение.
Хотела постелить скатерть, но передумала, для мастера не полагается, мастер не гость. Постелила чистенькое глаженое полотенце, принесла из сарая литровую банку пива, принесла кастрюлю соленых волнушек, наложила полную тарелку, но подумала, половину отложила обратно, мастер не гость, слишком щедриться неприлично. Однако луку сладкого, синего порезала к волнушкам, и стакан протерла, и вилку выбрала не кривую и тарелку с каемкой. А радио выключила, мастер не гость, музыка ни к чему. Только что закончила приготовления, а Тимофей уже на пороге.
– Готово, Тимофей Николаич? – почтительно спросила она.
– Осмотр сделал, буду менять изолятор, – ответственно объяснил положение дел Тимка.
– Позвала бы тебя к столу, – сказала она, поймав его взгляд на литровую банку, – да только ведь потемнеет, как станешь работать?
– А потемнеет, мы на столбе лампу повесим, – осенило Тимку. – Хочешь, тё Нюш, я тебе тут свет постоянный сделаю, на столбе-то?
– А почему ж, сделай, хорошо будет, – медленно согласилась она и прикинула в уме, что одной банки может не хватить.
– У меня в сарае лампион как раз и имеется, и кронштейн подберу, – развивал идею Тимка.
Она подумала: «Трех-то банок ему не осилить» – и закивала согласно:
– Повесь, Тимофей Николаич, тебе виднее, как лучше.
– Ты мне налей тогда неполный стаканчик, я побегу за лампионом, чтобы разом все.
Мастера полагается угощать, когда работа сделана, и она не торопилась наливать, но тут в стекла ударил ветер, на столбе бурно заискрило.
– Пей, конечно, Тимофей Николаич, угощайся, пиво крепкое, хорошее, – пригласила она.
Он выпил, поставил стакан на полотенце, расстегнул полупальто, сел посвободнее и заговорил, улыбаясь в самую душу:
– А Клавку я вправду боюсь. И тебе скажу, тё Нюш, и всякому скажу, кому не застыжусь, боюсь ее, как, наоборот, баба должна мужика бояться. Ей-богу, бывает, что иду домой – и дрожу, как озябнутый!
Баба Нюша замкнулась. Сложила на коленях руки, глаза опустила, молчала, давая понять, что рассиживаться и языком чесать не его право, пока дело не сделано, что он мастер – не гость.
– Одного раза так выматюгала – покрошить не оставила! Трезвый был бы, не простил. Дети и те, бывает, косоватенько глянут. Я пока духом не падаю, но до чего дошло, теть Нюша, на велосипед денег у мамки просят, отца будто бы и в доме нет! – удивлял необыкновенной своей жизнью Тимка.
Она только сильнее поджала губы. Тут мигнула и погасла лампочка в доме. Тимка спохватился, запахнулся накрепко, постоял, затем степенно застегнул куцее полупальто на все пуговицы, из которых – даже в сумерках заметила баба Нюша – две были коричневые, а одна голубая.
– Счас за лампионом сбегаю – и светло будет, как в клубе! – сказал он.
– Рубильник дернуть-то не забудь, – сказала она вслед.
Баба Нюша села под окно наблюдать за увенчанным шапкой столбом. Темнело. Закат еще буйствовал, а туча, большая и спокойная, теснила его за Кнышовский лес, куда только один раз в эту осень тракторист согласился на прицепе отвезти слободских баб за волнушками.
«Поди, зацепился языком за кого…» – беспокоилась баба Нюша, ей пора было на дежурство, дети съезжались, за поленницей стояли уже четыре велосипеда.
– Чего это велосипеды у тебя за забором? – спросил Тимка, вернувшись с алюминиевым колпаком.
– В интернате шаловство завелось, Тимофей Николаич, – терпеливо объясняла она. – Звонки сымают друг у дружки или еще какие части, ребята и прячут по дворам кто где.
– А… – понял Тимофей и покосился на пиво.
– Как работу станешь делать, Тимофей Николаич, коли разберет тебя? – урезонила его она и накрыла банку блюдцем.
– До того далеко еще, тё Нюша, не беспокойся, я вполне в стремине. – Тимка сел, лампион положил на колено, полохматил негустые волосы. – Линейному мастеру, тетя Нюш, – заявил он, – всегда надо быть готовому к авариям. Однако воскресенье, теть Нюш… – Он о чем-то подумал, поулыбался самому себе и ей тоже. – Но хоть – оно, все, однако, будет сделано. – И опять о чем-то посомневался, повздыхал, поулыбался. – Потому что я, теть Нюш, тебя вполне уважаю. – Вдруг он разоблачительно-добродушно погрозил ей пальцем: – Колдунья!..
Она промолчала, она знала, что о ней болтают в слободе.
– А я тока боюсь! – улыбаясь, сообщил Тимофей. – Больше Клавки боюсь электричества, а?.. Отколдуй меня, теть Нюш! – Он встал, качнулся, пошел к двери и попросил, оглянувшись в дверях: – Пошепчи!.. – Тимка обреченно махнул рукой. – А!.. Я сейчас на муку иду, на страдание души, тё Нюш!.. Но ты знай, что я тебя не попрекаю… Я – иду. А ты тут ни о чем не думай, живи легко, под музыку. – Он вернулся, выкрутил радио на полную громкость, вышел, и она видела в окно, как он полез.
«Мальчики, поди, носятся во дворе, – дальнозорко разглядывая погасшие окна интерната, думала баба Нюша. – А девочки-то в спальнях сидят, да на кроватях, да с ногами… (Девочки с того бессонного дежурства, когда она за одну ночь удлинила восемь подолов, боялись ее.) Марина-то Капитоновна, ясное дело, в темной библиотеке на темный телевизор не наглядится, – прищурилась баба Нюша и на окошки учительского корпуса и снова неодобрительно подумала о непоследовательном поведении учительницы. – А у директора – гости, керосиновые лампы зажег. Чего ж тогда председатель назад поехал, а не остался? А дружат, а воевали, говорят, вместе!»
На фоне последней закатной полоски, так, что она приходилась Тимке как раз поперек головы, он остановился, достал из кармана бутылку, помотал ею, взбалтывая, и, картинно запрокинув голову, выпил до конца, бросил пустую за забор в мягкую грядку с ноготками, и бутылка не разбилась. Он спокойно вытер губы и полез дальше. Баба Нюша видела, как он долез, как вытащил из-за пояса инструмент, видела, как шлепнулся и заскользил по земле отрезанный провод, как Тимка потянулся за ним рукой, как бы ожидая, что ветер поднимет и вернет ему улизнувший провод, как махнул вдруг безразлично рукой, как упали в траву пассатижи, а Тимка мягко провис на ремне, бросив сзади себя руки, размахав московку, а голову уронил на розовую грудь.
– Убило! – всполошилась баба Нюша и, в темноте нащупывая рукой стол, кровать, затем печку и умывальник, выбежала на крыльцо. – Тимофей Николаич!..
Монтер не оглянулся, а больше кричать баба Нюша не стала, подошла к столбу и прислушалась. С высоты опускалось к ней и опять уходило вверх здоровое хмельное сопенье.
– Эко дело… – прошептала баба Нюша, не зная, что предпринять. – Тимофей Николаи-ич!.. Слезал бы!.. – просительно позвала она, чуть возвысив голос. Александра не выходила, стало быть, уже легла, и лучше было бы не будить ее, чтобы не разнесла по слободе о случившемся. – Мне на дежурство идти, не могу я тут с тобой задерживаться!.. Слезал бы, Тимофей Николаич!.. – обнимая себя от холода, просила она. – Люди увидят! То ли снегирь на ветке, то ли дятел на суку, то ли Нюша, скажут, флаг над домом повесила… Слезал бы, бесстыдник, – раздражаясь постепенно, увещевала она, – засмеют!.. Тебя ж, если луна выйдет, на сколько ж верст видать – ив Узком, и в Лещине, и в Васюках люди за животы похватаются со смеху!.. Слезай, дурень! – И она постучала кулаком по столбу. – Ухахается народ, сорок лет потом еще смеяться будут!.. Гляди! Сейчас пойду за Клавкой, возьмем большую лестницу да достанем тебя палкой!
Тимка спал. И было видно, что ему на столбе спать не холодно и удобно. Широкий брезентовый пояс обнимал его крепко, кошки впились в столб глубоко, ветерок деликатно ворошил белые волосы и обдувал лицо.
Она сложила ладони вокруг рта и снова и снова звала:
– Тимофей Николаич!.. Поясницу простудишь, дурак, радикулит для мужика – погибель!.. – Она подобрала под ногой камешек и кинула в Тимку, но камешек пролетел в стороне, она не умела кидать камни. – А у меня на столе-то пивко для тебя стоит недопитое, али забыл? – льстивым шепотом кричала она ему. – Пиво-то стоит на столе, и еще банку дам… Слышь, пива-то у меня мно-ого!
И в слободе, и в деревнях за озером, и в интернате было темно в окнах. И небо совсем затянулось. В беспросветной ночи только едва-едва светила ей розовая Тимкина рубаха. Потеряв надежду добудиться его, она зашла в дом, в потемках нашарила на гвозде жакет и платок. В доме было тепло, по радио передавали песни. Она, не задерживаясь, вышла, уселась на дровах. И тут ей пришла мысль, что сидением она не поможет Тимке, если тот вдруг во сне засучит ногами и свалится. И тогда она снова вернулась в дом, наскоро попила из чайника, все так же впотьмах нашла под чердачной лестницей грабли и вилы и целый час, ругаясь, разоряла новую крышу сарая и стаскивала солому к столбу. Она наметала под ним хороший стожок, однако показалось – мало, и три большие подушки и две набитые сеном постели тоже улеглись под столбом.
– Тимофей Николаи-ич! – позвала она.
Но Тимке все еще спалось.
Слабо осветилось свечкой окно в учительском корпусе, погорело и снова погасло. Это не могла, но старалась уснуть Марина Капитоновна.
– А я села на ступеньку, – рассказывала баба Нюша, – руки в рукава сунула, да спину прислонила, да стала ждать. А больше делать нечего. И задремала. Как получилось – непонятно, а заснула. Слышу во сне – шуршит, и проснулась. Хоть и тихо шуршит, а на весь мир, даже страшно. Тимка, гляжу, спит, как спал, а радио в доме уже и не играет. Что шуршит-то? То снег сыпал, вот, снегом шуршало! Шшшш!..
– А как же он слез, баба Нюша? – спросила я.
Баба Нюша рассердилась:
– А как – обыкновенно! Да про то неинтересно, слез, чего там!
– Папа наш был малюсенький, говорю, и умер рано. А мама и сейчас жива, белая и большая. Приезжает – распоряжается, чтоб каждый день пол мыть. Я, говорит, у себя в Ленинграде каждый день мою! Ну да, говорю я, вам досуг! А она мне: пока я тут, чтоб мыла, огрыза! И мою, хоть некогда. А бабы здешние – совсем иная картина, сама заметишь. В магазине девки стройные, строгие, в крахмальных халатах, в кружевных наколках. В столовой – крупные да ясноглазые, поворачиваются быстро, поругиваются весело. На ферме – сдобные, бело-розовые!.. На почте женщины серьезные, прически у всех парикмахерские, голоса командирские: «Кириллов! Кириллов! Алевтинка, ты, что ли? Дай-ка Вологду! Вологда? А мне, Вологда, Москву надо! А ждать-то некогда, срочно, срочно! Москва? Министерство? Примите телефонограмму!»








