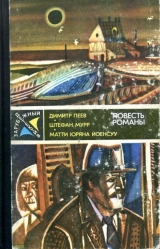
Текст книги "Зарубежный детектив"
Автор книги: Димитр Пеев
Соавторы: Штефан Мурр,Матти Юряна Йоенсуу
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 32 страниц)
– Ну? – спросил Кеттерле.
– А ничего особенного, – ответил Рёпке. – Сейчас сами увидите. Можно начинать?
Свет погас. Только тусклая настольная лампа осталась гореть рядом с проектором. Кеттерле и Хорншу уселись. Рёпке начал давать пояснения.
И хотя необходимо, чтобы руководитель оперативно-технической группы являлся человеком в высшей степени добросовестным, Кеттерле в глубине души нередко проклинал педантизм Рёпке, ведь даже в этом необычном случае тот не мог позволить себе отклониться от раз навсегда установленной схемы.
– Особенность данного дела заключается в том, – обстоятельно начал Рёпке, – что преступление не может быть пока доказано, поскольку не может быть установлена даже точная степень его вероятности, в лучшем случае оно остается всего лишь возможным, к тому же мы располагаем исключительно следом пропавшей без вести, следом, который внезапно обрывается. Начну по порядку. Первое – ручка входной двери. На ручке с внешней стороны имеются отпечатки пальцев фрау Виллемины ван Хенгелер, девушки Хайде, а также полковника Шлиске. Кроме того, имеются отпечатки пальцев некоего четвертого лица, я полагаю, что именно они принадлежат Сандре Робертс, так как точно такие же отпечатки имеются почти на всех ее личных вещах, а также на крышке отделения для перчаток в машине и на ручке дверцы. Странным образом эти отпечатки отсутствуют на рулевом колесе...
– Она просто ездит в перчатках, – проворчал комиссар, нетерпеливо ожидая продолжения.
– Вы полагаете, что и третье лицо тоже ездит в перчатках?
– Какое третье лицо?
Комиссар медленно обернулся и взглянул на Рёпке.
Тот рылся в своих бумагах.
– Во-первых, сумочка, во-вторых, дорожный будильник, в-третьих, губная помада, в-четвертых, пудреница, в-пятых, ключи от автомобиля...
– Что с ними? Да говорите же наконец, Рёпке!
– На всех этих предметах и еще на некоторых других имеются также отпечатки пальцев некоего третьего лица, которое не идентично ни с кем из перечисленных. В машине тоже. Даже на рычаге, которым регулируется положение сиденья. Их нет только на рулевом колесе.
Из темноты послышалось только «угу» и «так-так».
– Это могут быть отпечатки пальцев ее мужа. Проще всего предположить...
– Нет, Кеттерле, это не отпечатки пальцев ее мужа. Мне удалось добыть его отпечатки в бюро прописки. Хотя с тех пор прошло уже шестнадцать лет. Но они ведь не меняются.
На экране появилась сильно увеличенная фотография пересечения линий на указательном пальце человека.
– Это указательный палец Риха Робертса.
Рядом появилась другая увеличенная фотография.
– А это указательный палец третьего лица.
Даже дилетанту бросились бы в глаза различия. Кеттерле попросил Хорншу записать наиболее важные моменты.
– И прежде всего составьте список предметов, на которых найдены отпечатки пальцев, Хорншу.
– И никаких отпечатков на руле. Да вы и сами в это не верите, – сказал Хорншу.
– Н-да, – произнес Кеттерле и обернулся, поскольку входная дверь открылась и в нее проскользнула подвижная фигура начальника полицай-президиума Зибека.
– Я вам не помешаю, господа?
Лицо его было гладким, как у тюленя, и хитрым, как у таксы. Он распространял вокруг себя запах изысканного мужского одеколона и, усевшись, аккуратно расправил элегантную жилетку.
– Очевидно, руль просто вытерли, не так ли? – наклонился он к Кеттерле.
– Тогда были бы вытерты и некоторые другие предметы, – ответил комиссар. – Думаю, Рёпке прав. Третье лицо тоже могло ездить в перчатках, ведь то, что оно водило машину Сандры Робертс, кажется установленным фактом, правда?
– Если только оно не играло ради собственного удовольствия рычагом установки сиденья, – ответил Рёпке. – Дверная ручка изнутри, – продолжил он. – На ней также обнаружены отпечатки...
– Послушайте, Рёпке, – перебил его комиссар Кеттерле, – скоро девять. Может, вы не будете рассказывать нам о каждой извилине на всех ваших двадцати семи предметах...
– Сорока семи, – поправил Рёпке совершенно серьезно. – Мы работали над этим впятером с шести до половины девятого.
– Ну хорошо, на ваших сорока семи предметах. Но зачем так долго о каждом в отдельности? Вы что, не можете обобщить? Ваш доклад мы и так получим для изучения. Конечно, если господин начальник со мною согласен...
Кеттерле обернулся к Зибеку.
– Разумеется, – сказал Зибек. – К делу, комиссар Рёпке.
– Разрешите мне все-таки кратко остановиться на нашей системе расследования дела, – обиженно пробормотал Рёпке. – Мы пронумеровали и сфотографировали каждый отдельный предмет начиная с дверной ручки с внешней стороны под номером один и кончая пепельницей в левой задней дверце в автомашине Сандры Робертс под номером сорок семь. Отпечатки пальцев разных лиц мы обозначали римскими цифрами. Один – это Сандра Робертс, два – полковник Шлиске, три – Виллемина ван Хенгелер, четыре – девушка Хайде, пять – Кадулейт, шесть – третье лицо, семь – старший комиссар Кеттерле, восемь...
Зибек повернулся к Кеттерле.
– Так, – сказал он. – Надеюсь, вы не замешаны в этой истории?
– Увы, – тяжело вздохнул Кеттерле, – так где мой отпечаток, Рёпке?
Послышался шорох бумаг.
– Здесь, на оконной ручке с внутренней стороны, ванная комната, номер восемнадцать.
Проектор щелкнул, и удивленный Кеттерле увидел на экране безупречный отпечаток своего большого правого пальца.
– Кадулейт, – пробормотал он, – я просто забыл про носовой платок, когда закрывал окно. Вы не можете себе этого представить.
– Можем, – сказал Рёпке.
Проектор щелкнул еще раз, и Кадулейт, увеличенный до огромных размеров, уставился через плечо прямо в проекционный зал. Он все еще мыл машину.
– Тут я бы тоже забыл про носовой платок, – сказал Зибек. – Поехали дальше?
Затем последовали снимки из окна ванной комнаты, потом сделанные во дворе, в сарае. Машина, принадлежавшая Сандре Робертс, марка «карман-гиа», стояла с приспущенными передними баллонами, за ней последовала фотография следов на земле под окном.
– Отпечатки пальцев имеются также на оконной ручке и внутри, на оконном стекле, – пояснил Рёпке, и Кеттерле добавил:
– За день до этого Кадулейт разрыхлил почву в саду граблями.
Теперь они двигались по следу от дома к морю. На экране неожиданно появился однообразный и пугающе пустынный пейзаж, топкое песчаное мелководье, и над ним свинцовое небо. Снимки сменяли один другой, и Рёпке пояснял:
– След просматривается на расстоянии восемьсот двенадцать метров с четвертью. Он состоит из тысячи семисот четырнадцати отпечатков. Чтобы дойти до конца, я имею в виду до конца следа, фрау Робертс потребовалось – и это довольно точно – четырнадцать или пятнадцать минут. В общем-то, не вызывает сомнения и то, что отпечатки появились между одиннадцатью и часом ночи.
Аппарат щелкнул снова, и вдруг экран стал похож на шкуру леопарда.
– Инфракрасная съемка на том месте, где кончается след, – объяснил Рёпке и встал с указкой в руке рядом с экраном.
– Здесь внизу на снимке проходит видимый след. Вы видите его контур, точно как в натуре. Вот последний отпечаток.
Кеттерле наклонился вперед и слегка прищурил глаза.
– А?.. – спросил он.
– А пятна – это уплотнение частиц песка от шагов всех, кто проходил здесь перед последним штормом или последним приливом. Не представляется возможным выявить продолжение следа от последнего отпечатка в каком-либо определенном направлении. Вот это пятно можно было бы отнести к искомому следу, и это тоже, – указка передвинулась дальше, – но следующий отпечаток показывает, что человек шел назад. Значит, линия следа не продолжается, она здесь заканчивается. Съемка с высоты двенадцати-пятнадцати метров, возможно, слегка оттенила бы важные детали и помогла бы выявить определенное направление. Но и здесь мы существенно не продвинулись бы, поскольку все равно не смогли бы снимать следы фрагмент за фрагментом бог знает до каких пор, а тот, кто стер след, начиная с этого места, испортил и собаке чутье. Факт налицо. Либо это была она сама, либо кто-нибудь еще. Мне, во всяком случае, кажется, что это была она сама, так как если бы кто-нибудь нес или тащил тело, могу поклясться, мы бы увидели сильное давление на песок на снимке.
Комиссар Рёпке закрыл свою папку и выключил аппарат.
– Но тогда нельзя полностью исключить и того, что она сама в семь часов девять минут приняла адресованную ей телеграмму, так ведь? – обратился Зибек к комиссару. – Что удалось установить в этой связи?
– Фрау ван Хенгелер, когда я разговаривал с ней по телефону, была настолько потрясена, что несколько секунд вообще ничего не могла сказать, а затем попросила прислать все-таки в «Клифтон» полицейского. Она совершенно обезумела и успокоилась лишь, когда я сказал, что полковник в любом случае обеспечит им надежную защиту. Девушка заявила, что не верит ни одному моему слову. Она в то время чистила обувь в подвале и вообще ничего не заметила. Кадулейт работал в саду, а Вилли еще спала. Полковник спросил, не разыгрываю ли я его, заметив, что дело достаточно серьезное. Он поверил мне с трудом и в итоге не сумел найти никакого объяснения. Я попросил сотрудницу телеграфа им позвонить. Сначала к телефону подошла фрау ван Хенгелер, и я велел телеграфистке позвать к телефону Хайде. Таким образом, она услышала голоса обеих женщин из «Клифтона», но не смогла установить идентичность ни одного из них с тем голосом, что отвечал ей утром, ведь было произнесено всего три слова: «Да, у телефона». Таким образом, мы имеем две возможности: либо Робертс действительно в семь часов девять минут находилась у телефона, либо разговор вела одна из тех женщин. И если какая-то из них хочет, именно хочет, ввести нас в заблуждение по неизвестной пока причине, то мы никогда не узнаем, кто сегодня утром действительно произнес в трубку эти три слова: «Да, у телефона». Добавлю еще, что ни одна из женщин не ответила телеграфистке теми же словами. Вилли сказала: «Говорит Виллемина ван Хенгелер, пожалуйста, кто у телефона?», а Хайде спросила просто: «Кто это?»
– В конце концов, приходится учитывать и то, – заметил Хорншу, – что у всех обитателей «Клифтона» было достаточно времени и возможностей уничтожить любые следы, если б кто-то из них и в самом деле имел отношение к этому делу. Но у меня создалось впечатление, что никто не предпринимал ни малейшей попытки что-либо скрыть.
Рёпке включил свет.
– Господа, мы теряемся в предположениях, – сказал Зибек. – Пока что не случилось ничего, кроме исчезновения женщины. При загадочных обстоятельствах, тут уж ничего не поделаешь. А теперь необходимо выяснить, кто дал телеграмму с этим «не выйдет». Робертс уже знает об этой истории?
– Трудно сказать, – пожал плечами Кеттерле. – Родственников извещает местная полиция. В данном случае я ничего не имел против. Меня не привлекают сильные ощущения.
Зибек как раз собирался уйти. Он нервно стряхнул пепел с сигареты.
– Конечно, Ганновер с удовольствием навесит нам это дело, тем более что мы его уже начали. Сами понимаете. Они скажут, что мы уже познакомились с обстоятельствами, лучше знаем местность и так далее. И если вы собираетесь работать над ним и дальше...
Никто из криминалистов и не подозревал в ту минуту, что вопрос, кому вести дело, разрешится в ближайшее время сам собой.
– Я – человек любопытный, – пробурчал Кеттерле.
– Вам интересно, кто третье лицо? – спросил Зибек.
– Нет, – ответил Кеттерле, – интересно, почему все-таки она стерла косметику. Если вы ничего не имеете против, завтра утром я отправлюсь к Робертсу и задам ему парочку вопросов.
Как и каждое утро, сквозь сон она услышала голоса детей. Они что-то там вырезали или раскрашивали. Значит, было уже около семи. Раньше дети не просыпались.
Она нащупала выключатель. В тот же момент до нее донеслось жужжание электробритвы из ванной.
– Поставь чайник, пожалуйста.
Из ванной послышалось ворчание, потом жужжание бритвы прекратилось, и Ханс-Пауль прошаркал в кухню. Звякнула посуда, полилась вода из крана, затем на медленно раскаляющейся конфорке плиты зашипели капли.
И хотя вчера вечером она убрала всю квартиру, сегодня утром снова был кавардак, и вечером будет кавардак, он будет и завтра, и послезавтра, и через два месяца, и через три года. За год она успевала вымыть столько посуды, что, если поставить тарелки друг на друга, они превысили бы Эйфелеву башню, а общую длину сигарет, которые она при этом выкурила, ей вообще представить было страшно. И вот так проходила жизнь.
Да ты просто неряха, думала она, когда с омерзением откидывала каждый день одеяло, чтобы снова вступить в однообразную и нескончаемую будничную суету – и все это ради того, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Ханс-Пауль терпеть не мог, когда она входила в ванную, если он там мылся или брился. Но тогда кому-то из них следовало раньше вставать, или же он сам должен был готовить завтрак. И поскольку ни то, ни другое его не устраивало, приходилось терпеть ее присутствие в тесной ванной комнате.
С тщательностью автомата Ханс-Пауль выбривал места, призванные оттенять овальную черную бороду, на лице его появлялись всевозможные гримасы, когда он подбривал усы. Собственно, так выглядели в момент бритья все мужчины, носившие бороду, но когда это наблюдаешь по утрам ежедневно, месяц за месяцем, год за годом, в конце концов становится противно, и самое ужасное, что и муж становится противным тоже.
Он с явным неудовольствием посторонился, когда она склонилась над раковиной и открыла воду.
Как и каждое утро, в ванной вдруг появились дети, и, как каждое утро, Зигрид пришлось внушать себе, что она не имеет права быть несправедливой ж детям только потому, что домашнее хозяйство отравляет ей жизнь.
– Одевайтесь, – сказала она. – Регина, накрывай на стол, не забудь соль и ложечки для яиц, моя хорошая.
Потом она прошла на кухню и убавила огонь конфорки, на которой грелся чайник. Когда чайник кипел, приходилось каждые полчаса протирать запотевшие стекла. Злость закипела в ней на обратном пути в ванную.
– И борода твоя не помогает, Ханс, – сказала она. – С бородой ты точно так же не преуспеваешь, как и без бороды. Сбрей ты наконец эти заросли, тогда у нас в жизни будет хоть какая-то перемена.
– Талантливых людей, Зигрид, гораздо больше, чем доходных мест. Выходит, ты согласилась бы лучше выйти замуж за непорядочного человека, не разбирающегося в средствах? Вроде твоего отца, например?
Все как обычно, как всегда. Она спокойно ждала продолжения, но его не последовало. Она услышала, что электробритва работает вхолостую, увидела подходящего к ней сзади Ханса-Пауля, и тут случилось то, чего давно уже не случалось.
Зажав жужжащую бритву в правой руке, он обнял ее за плечи.
– Я делаю все, что могу, Зигрид, – сказал он, – а если ты начнешь меня попрекать, ничего хорошего не будет.
Она почувствовала себя почти счастливой, когда он поцеловал ее в шею, но скорее проглотила бы язык, чем признала это.
– Быть может, все еще наладится. Если из затеи с издательством «Эмпедокл» что-нибудь выйдет, а я надеюсь, что выйдет, идея-то блестящая, я куплю тебе посудомоечную машину и гладильную установку. И тогда мы сходим куда-нибудь вместе, на Зюльберг или в рыбный ресторан в порту, хорошо?
Зигрид равнодушно кивнула. Но потом услышала какой-то необычный звук электробритвы и, оглянувшись, увидела только что проделанную прямую бледную полосу в черной бороде, которую она так ненавидела. Словно в их жизни начинался новый этап.
– Ханс, – сказала она, – ты уж не надрывайся особенно, ладно?
А это означало: ты ведь в принципе хороший парень, Ханс.
В первую пору брака она завидовала Эрике. Как бы то ни было, Реймар был уже старшим врачом, когда та с ним познакомилась, а вскоре стал заместителем главного врача. А потом, на следующий год или через год, он с помощью предоставленного тестем кредита открыл собственную практику и начал удалять богатым предпринимателям желудочные опухоли. Однако в финансовом плане дела «Реймаров», как она их всегда называла, тоже обстояли далеко не лучшим образом. Папа́ подбрасывал, правда, Реймарам время от времени кое-какие суммы, так как ничего не имел против самого Реймара. Но Эрика ведь и претензии предъявляла значительно большие, нежели она сама, а кроме того, на них ведь распространялось известное правило: больше доходы – больше и расходы, и на их примере это было видно особенно хорошо. В любом случае Эрика, как бы красиво она ни была одета и даже несмотря на «Фиат-1800», который они недавно приобрели, двадцать пятого числа каждого месяца точно так же сидела без единого пфеннига, как и она сама.
Зигрид умыла лицо, вытерлась, потом достала из шкафа пуловер, который не надевала уже больше года. Уж если Ханс-Пауль сбрил бороду, то и она не отстанет. Пусть и в самом деле в их доме будет хоть какая-то перемена, подумала она.
Она уже сделала детям бутерброды, когда Ханс-Пауль вышел к столу. Он казался каким-то чужим и выглядел мертвенно-бледным. Наверное, просто непривычно видеть его без бороды, подумала она.
– У папа́ был вчера тяжелый день, – сказал он, разбивая яйцо. – Недоварено. – Он укоризненно посмотрел на нее. – Ты же знаешь, я этого не люблю.
– Извини, – пробормотала она.
Надо же, как назло, именно сегодня. Теперь он из протеста отдаст яйцо Петеру, хотя прекрасно знает, что она тревожится, когда дети едят слишком много яиц. Но сегодня, казалось, он слишком был погружен в мысли о папа́.
– Матильда ничего не сможет сделать, случись что-нибудь, а его дражайшая путешествует.
Свою новообретенную тещу Ханс-Пауль называл обычно не иначе, как «дражайшая». Впрочем, в разговоре он обращался к ней просто по имени, в конце концов она была старше его всего на два года и к тому же никогда не зарабатывала на жизнь самостоятельно, в то время как он хотя бы предпринимал подобные попытки.
– Это немыслимо, что она себе позволяет, Зигрид. Ты не можешь этого отрицать. Представь, ты выходишь замуж за мужчину на сорок лет старше, выходишь явно ради наследства, так ты будешь за ним по крайней мере ухаживать, верно?
Медленно, без аппетита, он ковырялся в яйце.
– Иногда это выглядит так, Словно она сознательно решила отравить ему последние радости жизни.
То была обычная тема утренних бесед за завтраком. Зигрид эту болтовню ненавидела, привычное злословие по адресу Сандры Робертс все равно ничего не могло изменить в их жизни. Дочери Риха Робертса, скорее из внутреннего противоречия, заняли со временем более лояльную позицию по отношению к приемной матери, подвергавшейся постоянным и массированным атакам их мужей. Вот почему Зигрид промолчала.
– Какая же она все-таки дрянь, Зигрид, – сказал Ханс-Пауль и отобрал у Петера банку с мармеладом. – Достаточно, Петер. Впрочем, не удивительно, стоит вспомнить ее происхождение. Бедный папа́.
«Бедный папа́» прозвучало весьма неискренне. Зигрид хорошо знала, как надеялся Ханс-Пауль, к примеру, на то, что Рих Робертс оплатит хотя бы счет от зубного врача на сумму в триста пятьдесят марок; к зубному врачу ходила только она, вот почему Ханс-Пауль не желал иметь с этим счетом ничего общего.
– Нужно как-нибудь поговорить с папа́, – сказала она. – Чтоб он провел звонок в комнату Матильды. Впрочем, когда речь заходит о его болезни, он ничего не желает слушать.
– Еще бы, когда у семидесятилетнего старика тридцатилетняя жена, тут уж, хочешь не хочешь, станешь поддерживать видимость молодости и здоровья, – язвительно заметил Ханс-Пауль, – а то того гляди, тебя оставят в дураках.
Он зевнул, прикрыв рот рукой, в которой был нож с куском мармелада.
– Тебе нужно спать по ночам, а не работать, – сказала Зигрид. – Вчера ты лег в четыре, сегодня в два. И выглядишь все хуже.
– Зато проект для издательства «Эмпедокл» готов, Зигрид. Сегодня мы ляжем спать рано и вместе. – Он игриво подмигнул ей, и на его мертвенно-бледном лице это выглядело противоестественной гримасой.
Смешно, как борода меняет человека, подумала она, даже собственного мужа. И тут же вскочила, потому что зазвонил телефон.
Ханс-Пауль услышал из-за двери, как она несколько раз подряд произнесла «да». И положила трубку.
В кухню она вернулась побледневшей.
– Мы должны срочно поехать к папа́, Ханс. Что-то там случилось с Сандрой. Пришли двое из полиции.
– Так, – сказал Ханс-Пауль Брацелес, – так-так, значит, Сандра. – Он помолчал, комкая салфетку, и добавил: – Хорошенькое свинство.
Толен запаздывал. Доктор Брабендер особенно злился по этому поводу, когда намечал что-нибудь на утро вместе с Эрикой. В огромной больнице с, расширенным терапевтическим отделением ночное дежурство отнюдь не было удовольствием. Брабендер ненавидел тускло освещенные длинные коридоры, неумолимое подмигивание светового сигнала над дверьми палат, бесшумную походку дежурных сестер и затрудненное дыхание, тяжелые вздохи, храп, доносившиеся с больничных коек, когда в палаты открывались двери. Реймар Брабендер был человеком стерильной ясности. Он любил дневной свет так же, как любил признание пациентов и восхищение коллег. В сущности, ему это было необходимо.
В данном вопросе характер его не оставлял сомнений. Непременным условием всех его достижений было признание общественности. Он с удовольствием вспомнил про доклад, посвященный новым исследованиям функции селезенки, который сделал позавчера на конгрессе врачей в Бремене. Неуязвимый для критики, безупречно разработанный, основательно подтвержденный экспериментами, доказательный и научный, доклад встречен был аплодисментами и заслужил рекомендацию в печать.
Реймар распахнул дверь в четвертую палату. На второй койке около пяти утра начался кризис. Общее неудовлетворительное состояние коронарной системы. Он велел колоть строфантин. Женщине было семьдесят четыре года. В любой момент возможны были внезапные спазмы.
Сестра вышла ему навстречу.
– Пульс? – спросил он почти неслышно, так как женщина сидела выпрямившись в постели и внимательно смотрела на него.
– Девяносто пять, – озабоченно прошептала сестра, – и очень слабый.
Реймар Брабендер на ходу вставил в уши стетоскоп. Он положил женщине руку на редкие седые волосы и с профессиональной, призванной успокаивать, деловитостью врача спустил ночную рубашку с ее плеч.
Прослушивая, он прикрыл глаза, чтоб не видеть прямо перед собой ее испуганное лицо. Однако пришлось сделать усилие, чтобы не дать отразиться на своем лице тому, что он услышал.
Наконец он отодвинулся, и сестра поправила на больной ночную рубашку.
– Все мы должны когда-то умереть, не правда ли, доктор? – пробормотала женщина, и глаза ее блеснули.
Врач немного подумал, потом улыбнулся:
– Семьдесят четыре – это, конечно, не восемнадцать. Но у вас еще есть время.
– А я выйду отсюда, доктор? – спросила женщина более настойчиво.
Доктор Брабендер положил руки ей на плечи, поднимаясь с края постели.
– Только не сразу и не завтра, фрау Клазен, – ответил он и убрал стетоскоп.
– Я уже не выйду отсюда, доктор. Скажите мне это прямо, – взмолилась женщина.
– Фрау Клазен, и о чем только вы говорите?
Врач сделал вид, что сердится, но не всерьез. Ему было уже сорок пять. Но одному он так и не научился: излучать надежду там, где ее уже не оставалось. Последнее и высшее подтверждение искусства врачевать. Грань, где ремесло перерастает в человечность, в веру, в миф, неизвестно во что.
Он же был интеллигентен, хорошо справлялся со своими обязанностями и мог доходчиво объяснить другим, что от них требовалось.
– Я напишу профессору записку с просьбой посмотреть ее, – сказал он сестре, выходя из палаты. – А Толен пусть еще раз измерит давление и приложит результат.
– Что сказал вам доктор в коридоре? – услышал он голос больной, когда сестра вернулась в палату.
– Я должна присматривать, чтобы вы как можно меньше двигались, – ласково улыбнулась сестра и поправила подушку.
Брабендер прошел до конца коридора, часы над дверью частного отделения показывали двадцать минут девятого, и потому он обрадовался, увидев взбегающего вверх по лестнице Толена. Он передал коллеге все материалы и стянул с себя халат. Потом вымыл руки.
Вытираясь, он выглянул во двор, где стоял его красивый новый автомобиль. Идея принадлежала Эрике. Он вовсе этого не хотел, но возражать ей, когда она заявила, что, проработав шесть лет в должности старшего врача, он может наконец позволить себе не ездить в «фольксвагене», было трудно. Новый автомобиль был еще не оплачен.
– Пока, Толен, – сказал он и вышел из отделения.
Движение на утренних улицах волнами устремлялось к центру города. Поэтому поездка вдоль Альстера отнюдь не была удовольствием, пусть даже и на новом автомобиле. Обычно он предпочитал путь через Шваненвик и Адольфштрассе, чтобы в районе Кругкоппеля свернуть на набережную Альстера. Парковая аллея, где он жил, имела то преимущество, что иногда перед собственным домом можно было найти место для машины. Реймар Брабендер не стал загонять «Фиат-1800» в гараж. Свободный день он хотел использовать с Эрикой для покупок. Ей срочно требовались какие-то новые вещи.
Он удивился, когда она отворила ему дверь уже одетая.
– Я как чувствовала, Рей, – выпалила она, – только, пожалуйста, не волнуйся. С Сандрой что-то произошло. Только что звонил папа́.
На письменном столе Реймара зазвонил телефон.
– Вот опять. Это ужасно.
– Да, – услышал Реймар голос из другой комнаты, – все ясно, Зигрид. Да черт с ним, с вашим аккумулятором. Хорошо, через полчаса. Рею в конце концов тоже нужно позавтракать. Вы знаете подробности? Нет? Мы тоже. Тогда пока.
Реймар прошел в гостиную.
– Он звонил Хансу-Паулю тоже. Зигрид просила, чтобы мы заехали за ними. У них, как всегда, что-то с аккумулятором.
– А что случилось с Сандрой, Эрика? Но сначала успокойся, потом рассказывай. В конце концов, может, ничего плохого и не произошло.
– И все-таки, Рей, я боюсь, что стряслось в самом деле что-то плохое. Двое из полиции уже у папа́ и допрашивают его. Сандра пропала без вести... – Она начала всхлипывать. – Я всегда предполагала нечто подобное, Рей, сразу, как только она появилась в доме. Хоть бы он на ней не женился! Ведь в конце концов он и так мог проводить с ней время. А теперь это затрагивает всех нас.
«Нервная, неуравновешенная, – подумал Реймар, – да она форменная истеричка».
– А когда она пропала, Эрика? – спросил он. – И где?..
– Со вчерашней ночи. Она не вернулась с прогулки. Как это ужасно. Бедный папа́.
– Со вчерашней ночи, – пробормотал Реймар и прикусил губу, – так-так, со вчерашней ночи. А где, неизвестно?
– Где-то на море. Не знаю точно где. Но ведь это не так уж и важно. Что с тобой, Рей?
Он тяжело опустился в глубокое кресло и даже не положил ногу на ногу.
– Я должен тебе кое-что сказать, Эрика, – запинаясь, выдавил он, – до того, как они начнут задавать вопросы. На вчерашнюю ночь у меня нет алиби.
Она в недоумении уставилась на него, и только какое-то время спустя до нее дошло, что он этим хотел сказать.
– Но зачем тебе алиби, Рей, бога ради! Для чего?
Голос у нее стал резким и неприятным.
– Нам всем понадобится алиби, – пробормотал Реймар.
Он утратил свою спокойную уверенность. А уж если говорить правду, он был совершенно не в себе.
– Если полиция узнает о папином завещании, нам всем понадобится алиби. А она об этом узнает. И тогда останется только повеситься.
Комиссар Кеттерле обнаружил на своем письменном столе папку с докладом Рёпке о проведенных им расследованиях по делу Робертс и, кроме того, большой конверт с многочисленными фотографиями.
Вообще-то дел у него и без того хватало, тем не менее он еще раз перелистал все бумаги, высыпал фотографии на стол и начал их разглядывать. Все по очереди. И очень внимательно.
С двумя или тремя он подошел к окну и принялся рассматривать их через увеличительное стекло.
Потом он перевел взгляд вниз на оживленное движение, переливавшееся через площадь Карла Мука, и стал продумывать свой визит к Риху Робертсу, которого его недруги называли «толстяком».
Начало девятого он не счел слишком ранним часом, чтобы позвонить человеку, который в свои семьдесят лет каждое утро ездит верхом, занимается боксом и известен размеренным образом жизни всему городу.
Телефонную трубку сняла какая-то женщина, и Кеттерле понял, что разговаривает с экономкой.
– Квартира сенатора Робертса.
Кеттерле спросил, нельзя ли ему поговорить с господином Робертсом.
– Господин сенатор как раз завтракает. Это очень важно?
– Да, это очень важно, – сказал Кеттерле.
Робертс спокойно завтракал, значит, он все еще ничего не знал о случившемся.
– Тогда я переключу телефон, – сказала экономка, – минутку.
Минутка разрослась по крайней мере в целых две. «Быть может, они все-таки проведут настоящие поиски в этих гиблых песках», – подумал комиссар и взглянул на небо. Оно не было ни лазурным, ни мрачным, на нем не было грозовых туч, не было и прозрачных облаков, предвещающих хорошую погоду. Оно было просто серым. Как обычно в Гамбурге.
В трубке что-то щелкнуло.
– А с кем я говорю, простите? – начала теперь выяснять экономка.
Комиссар расправил плечи. В конце концов речь шла не о его жене.
– Уголовная полиция Гамбурга, комиссар Кеттерле, – резко ответил он.
– Хорошо, минутку.
Хорншу должен был бы теперь позвонить в «Клифтон» и выяснить, как там с погодой, подумал Кеттерле, но в этот момент ответил сенатор Робертс. Было слышно, как он что-то дожевывает.
– Ну? – это прозвучало как вопрос и как приказ.
– Ваша супруга дома? – спросил Кеттерле.
– А кто, собственно, говорит?
– Об этом я уже подробно сообщил вашей домоправительнице. Кеттерле, уголовная полиция.
– Чем могу быть полезен?
– Мне хотелось бы приехать к вам и поговорить, господин сенатор.
– А о чем?
– Лучше, если я скажу вам это при встрече.
– Так. И когда же вы хотите приехать?
– Немедленно.
Сенатор помолчал.
– Хорошо, – сказал он. – Тогда приезжайте немедленно. Вы знаете, где я живу?
– Да, Ратенауштрассе, Альстердорф.
– Точно, – сказал Робертс. – Жду вас.
Комиссар положил телефонную трубку и вызвал Хорншу. Достал из шкафа шляпу и пальто, приоткрыл дверь в канцелярию и крикнул:
– Я у сенатора Робертса, фройляйн Клингс, на случай, если меня будут спрашивать. Но соединяйте только для важных разговоров. Пошли, – кивнул он Хорншу, – едем к Робертсу.
Взяв пальто на руку, он следом за Хорншу покинул кабинет. Лифты были заняты, и они спустились по лестнице.
Обычно комиссар не упускал возможности поболтать с Хорншу о том или ином деле. Но на этот раз он молчал.
Оба знали, что след Сандры Робертс на том пустынном берегу затерялся не только в буквальном смысле.
Не было ни малейшей зацепки, которая могла бы повести дальше. Какая-то чертовщина.








