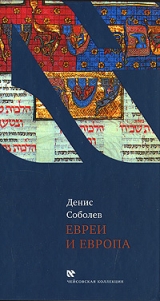
Текст книги "Евреи и Европа"
Автор книги: Денис Соболев
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
Впрочем, в рамках либерального дискурса проблема противоречия между требованиями свободы и равенства, достаточно схематично очерченная выше, оказывается частью более общей проблемы границ индивидуальной свободы. Достаточно очевидно, что требования равенства не являются единственной причиной появления таких границ. Неограниченная свобода одного человека обычно оборачивается несвободой других. Инстинкт разрушения, воля к власти и стремление к превосходству являются неотъемлемой частью человеческой природы, и поэтому существование неограниченных возможностей реализации свободы одного индивидуума обычно приводит к резкому ограничению свободы других. Иначе говоря, если рассмотрение проблемы свободы в чисто философском ключе может ограничиться рассмотрением свободы одного человека, либеральный дискурс вынужден выйти за рамки подобного рассмотрения – и попытаться уравновесить свободу многих. И потому в рамках либерального дискурса свобода неизбежно предстает как самоограничение. На первый взгляд такое самоограничение – внутренний императив либерализма, никак не связанный с идеями «демократии» и общей проблематикой равенства. Однако на самом деле это не совсем так.
Все сказанное основывается на скрытом предположении, что у разных людей есть одинаковые права на реализацию своей свободы. Именно в силу существования таких прав у «других» свобода каждого отдельно взятого человека должна быть ограничена; без существования равных прав на свободу необходимость самоограничения свободы перестает быть очевидной.
В то же время из самого понятия свободы никоим образом не следует равенство прав на ее реализацию. Идея «равенства» привносится здесь из дискурса демократии, оказавшегося тесно переплетенным с идеями либерализма, но либерализм, как таковой, вполне совместим и с другим подходом к той же проблеме. С теоретической точки зрения не менее убедительным может оказаться утверждение, что свободный человек (иначе говоря, человек, не готовый отказаться от своей свободы) не равен несвободному, а свободное общество превосходит общество, основанное на открытом или скрытом рабстве. Впрочем, этот спор гораздо менее теоретический, чем может показаться. На практике он превращается, например, в спор об оправданности ковровых бомбардировок Германии или ядерной бомбардировки Хиросимы. Не вызывает сомнений, что капитуляция Японии могла быть достигнута и иными средствами, хотя в таком случае она, по современным оценкам, стоила бы жизни полумиллиону американских солдат. В рамках дискурсов свободы и равенства подобная дилемма получит, по всей видимости, разную интерпретацию. В том случае, если за основу будет взято равное право всех людей на жизнь, в фокусе внимания окажется тот факт, что при бомбардировке Хиросимы погибли гражданские лица, в то время как при штурме Японии погибли бы солдаты, которых демократическое сознание воспринимает в качестве людей, частично отказавшихся от своего права на жизнь. В противоположном же случае решающим фактором окажется тот факт, что американские солдаты были гражданами свободного мира, подвергшегося агрессии, в то время как Германия и Япония несли миру массовые убийства и рабство. Если акценты будут расставлены таким образом, окажется, что жизнь американца и жизнь японца будут иметь разную цену. На более глубинном, «философском», уровне противоречия между свободой и равенством оказываются еще более значительными. Реализация свободы личности обычно приводит к яркому (а часто и гипертрофированному) выражению индивидуального начала, тогда как проект равенства требует максимального нивелирования особенностей личности в силу того, что эти особенности, как и любые другие различия, могут получить социальную интерпретацию и стать конструктивными элементами в общей картине неравенства и социального унижения. То же верно и на более общем уровне: свобода является понятием, отсылающим к личности в ее неповторимости, в то время как понятие равенства основано на сравнении человеческих единиц внутри коллектива, при котором обнаруженные различия неизбежно воспринимаются в негативном ключе. Не менее глубокой является пропасть между свободой и равенством, если эти термины рассматриваются не с точки зрения противопоставления индивидуального и коллективного, но с позиций проблемы определенности и неопределенности, о которой уже шла речь выше. Как уже говорилось, понятие свободы тесно связано с неопределенностью (как на уровне самого понятия, так и на уровне эмпирической реализации), в то время как равенство основывается на определенности сходства. Действительно, тот или иной поступок не может быть назван свободным, если он определен заранее, в то время как, например, материальное равенство требует, чтобы доходы были определенны и тождественны. Точно так же избирательное равенство требует, чтобы у каждого избирателя был один и только один голос – безотносительно к моральным качествам, интеллекту, уровню образования его обладателя. Иначе говоря, при внимательном рассмотрении оказывается, что свобода и равенство являются категориями, противоположными друг другу на самых базисных уровнях. И поэтому нет ничего удивительного в том, что на этапе становления либерализм и демократия воспринимали друг друга в качестве философских, идеологических и политических антиподов.
И все же растущее понимание того, что для современного западного человека как свобода, так и равенство возможностей являются объективными социальными ценностями, ни от одной из которых он не готов отказаться, поставило со всей остротой проблему синтеза. И если на уровне лозунгов и деклараций проблема была с легкостью разрешена путем создания словесного кентавра «либеральной демократии», на эмпирическом уровне подобный синтез оказался связаным с многочисленными проблемами. На всех этапах истории Нового времени западное общество сталкивалось с конфликтом между требованиями свободы и требованиями равенства и с невозможностью эти требования примирить. В свете сказанного выше, подобное столкновение не является неожиданным: синтез между либерализмом и демократией не может быть достигнут путем механического объединения достоинств свободы с достоинствами равенства. Если такой синтез и может быть реализован, то только благодаря нахождению хрупкого равновесия между двумя противоположными принципами. Более того, к подобному равновесию невозможно прийти механистически, отыскав середину между свободой и равенством, подобно середине между черным и белым. Свобода не противоположна равенству (противоположностью свободы является несвобода; равенства – неравенство); как было показано выше, противоречие между этими терминами находится на более глубинном уровне – уровне тех идей, на которые эти термины опираются. Поиск равновесия между ними может быть уподоблен не поиску середины между черным и белым, но скорее поиску воображаемой «середины», точки «равновесия», между зеленым и разноцветным – при всей очевидной проблематичности подобного поиска.
Этот поиск связан с двумя основными проблемами. Во-первых, следует сказать, что при наличии двух противоположных основополагающих принципов абсолютное равновесие между ними может быть достигнуто только в теории, любая же эмпирическая реальность будет связана с определенным перекосом в ту или иную сторону, с неизбежными потерями либо в плане свободы, либо в плане равенства. Иначе говоря, если теоретик и может рассуждать об идеальном синтезе свободы и равенства, любое фактически существующее общество вынуждено выбирать между «либеральной демократией» и тем, что можно было бы назвать «демократическим либерализмом». Лично мне кажется, что открытость, неопределенность, поиск и личная ответственность, подразумеваемые понятием свободы, предпочтительнее конечности и определенности, которые предполагает равенство как проект; но я прекрасно понимаю, что смысловые акценты можно расставить и иначе. В любом случае, важно помнить, что в точках крайней социальной поляризации свобода и равенство неожиданно оказываются неотделимыми, а либерализм и демократия объединяются в единую цепочку. Так, с одной стороны, угнетение и нищета рождают острое чувство обделенности и социальную зависть, которые, в свою очередь, значительно ограничивают фактические возможности свободного выбора. С другой стороны, резкое ограничение свободы во имя равенства неизбежно требует создания привилегированного аппарата подавления, члены которого оказываются неравными другим членам общества. Впрочем, подобные точки взаимозависимости обнаруживаются в основном в тех случаях, когда общество пытается полностью отказаться либо от принципа равенства, либо от принципа свободы; в процессе же поиска равновесия между этими принципами их внутренние отношения оказываются постоянным дестабилизирующим фактором.
Действительно, если поиск середины между белым и черным возможен с помощью чисто механической процедуры измерения «удаленности» от полюсов, подобная процедура неприменима к поиску равновесия между двумя принципиально разнородными, хотя во многом и исключающими друг друга, принципами; подобный поиск неизбежно требует внешней точки, на которую общество могло бы опереться в случае неустранимого конфликта между требованиями свободы и требованиями равенства. Это утверждение требует более подробных объяснений. Каждое отдельно взятое демократическое общество должно решить, является ли приемлемым достаточно широкий спектр возможных действий, реализующих свободу одного индивидуума за счет увеличения его отличия от другого – в материальном, общественном или интеллектуальном плане: создание завода, научное открытие, избиение прохожего, увеличение своей зарплаты за счет зарплаты подчиненных, написание книги, ограбление банка, проституция, рэкет, многолетняя учеба, торговля компьютерными играми и торговля наркотиками. Из этого списка каждое общество выбирает действия, однозначно приветствуемые (хотя и увеличивающие неравенство), действия, категорически неприемлемые, и, наконец, действия, которые общество не готово одобрить, но также и не считает нужным запрещать. На основе поиска компромисса между свободой и равенством такой выбор сделать невозможно; во всех этих случаях требование реализации индивидуальной свободы противоположно требованию сохранения коллективного равенства.
Чтобы провести водораздел между созданием теории относительности и вымогательством денег у прохожих, необходимо принять во внимание «другого», но «другого» уже не в качестве кирпичика в общем здании равенства как проекта, но в качестве единичного и одушевленного объекта действия, заслуживающего уважения и сопереживания. Иначе говоря, любая попытка разрешить неустранимый конфликт между либерализмом и демократией приводит в область моральной проблематики. Подобный исход является крайне неожиданным; ссылка на моральные принципы уже давно является неприемлемым элементом в дискурсе «либеральной демократии» – по трем причинам. Во-первых, принято думать, что этот дискурс внеморален; будучи цельной и автономной социо-политической конструкцией, он не нуждается во внешних подпорках. Во-вторых, моральный дискурс с его жесткими императивами противоположен как принципу свободы с его пространством принципиальной неопределенности, так и дискурсу равенства, противостоящему попыткам делить людей на «святых» и «негодяев». И в-третьих, любой моральный дискурс требует существования основы, на которой может быть выстроено этическое здание, – само по себе требование «не убий» звучит ничуть не более убедительно, чем «убий». Существование же таких неявленных основ бытия (например, религиозных истин) не только делает философски неравноценными различные реализации индивидуальной свободы, но и ставит различных людей в неравное положение – в зависимости от отношения их существования к смысловым основам бытия мироздания. Иначе говоря, попытка разрешить конфликт между дискурсом свободы и дискурсом равенства приводит к появлению на сцене этического дискурса, чьи основы во многом противоположны основам этих дискурсов.
Суммируя все проблемы, обозначенные выше, следует сказать, что современный либерализм (и «либеральная демократия») ни в коей мере не является (и не может являться) устойчивой формой государственного устройства, созданной с целью сохранения свободы и равенства, изначально данных человеку. Наоборот, современный «демократический» либерализм – это поиск и проект, отсылающий к неэкзистенциальным структурным принципам и полю философской неопределенности, основанный на трех конфликтующих и во многом противоречивых началах. Будучи таковым, либерализм не может иметь своих постоянных догм, в которые его адепты могли бы верить и которые они могли бы защищать, он обречен на падения, поражения и трагедии; но на сегодняшний день это едва ли не единственная форма социальной идеологии, цели которой совпадают с тем, что, на мой взгляд, является одним из высших предназначений человека – быть свободным.
*
В заключение мне бы хотелось сказать несколько слов о либерализме и Израиле. Упреждая самого себя, я рискну начать с вывода; на мой взгляд, оба основных политических лагеря Израиля в одинаковой степени далеки от либеральных ценностей и либерального склада мысли. Несмотря на то что многие израильские политические элиты с легкостью усвоили бесконфликтную либеральную риторику, те идеи, идеологические дискурсы и политические практики, на которых строится израильская политика, достаточно далеки от либеральных. Впрочем, удаленность, как известно, понятие не качественное, а количественное; и степень удаленности от либерального мироощущения может быть разной. На первый взгляд к либералам должен быть ближе так называемый «левый лагерь», поскольку его представители упоминают слова «либерализм» и «демократия» значительно чаще, чем их оппоненты. Однако история «левого лагеря» делает такое предположение достаточно проблематичным. Хорошо известно, что израильские социалистические идеи были привезены из Российской империи; более того, почти все создатели социалистического движения Израиля также приехали из России, были тесно связаны с леворадикальными группировками предреволюционной России и во многом разделяли их идеологию с ее экстремизмом, идеологической нетерпимостью и утопизмом. Именно на этих людей, на их детей и внуков в течение долгого времени опирался и ориентировался «левый лагерь». Именно в этом социально-политическом контексте стало возможным массовое развешивание портретов Сталина в киббуцах или известная легенда об угрозе Бен-Гуриона создать концентрационные лагеря для своих оппонентов слева – из того же социалистического лагеря. Либеральными подобные симпатии и подобное мироощущение назвать сложно.
Однако следующий виток истории «левого лагеря» увел его достаточно далеко от изначальных политических симпатий. Однозначная антиизраильская позиция Советского Союза привела ко все большему дистанцированию израильского общества от просоветских симпатий, коммунистических, а затем и радикально-социалистических идеалов; в результате Мапай (а затем Авода) постепенно преобразовался в партию, провозглашавшую в сфере экономики достаточно стандартные лейбористские лозунги. В принципе, подобная трансформация делала возможной сближение израильских левых с либерализмом; однако следует сразу же отметить, что в большинстве западных стран, где левые некоммунистические движения отказались от традиционно социалистической идеологии и риторики несколько раньше, чем в Израиле, ярко выраженного сближения (и уж тем более объединения) между либерально настроенной частью общества и левыми не произошло. В Англии, например, стремление к защите индивидуальной свободы и другие традиционно-либеральные черты характеризуют скорее консерваторов, нежели лейбористов; эта близость современного английского консерватизма к традиционному либерализму становится особенно заметна в экономической сфере: во всем, что касается отношения к так называемому «свободному рынку». Аналогичным образом современный американский неоконсерватизм является продуктом объединения традиционно-консервативных принципов и либеральных идей и ставит одной из своих основных целей противостояние левым и леворадикальным идеям, преобладающим среди американских «интеллектуалов» и в университетском гуманитарном мире.
Впрочем, в Израиле этот процесс шел менее линейно, чем на Западе, и оказался тесно связан с двумя параллельными процессами. Во-первых, в Израиле появились сотни тысяч выходцев из Азии и Северной Африки; они, и особенно их дети, стали постепенно требовать передела собственности и власти. Это сделало борьбу за сохранение существующей системы управления и частично государственной экономики не столько борьбой за социалистические ценности, уже перенесенные в неопределенное светлое будущее, сколько борьбой за сохранение тех форм власти, которые гарантировали господство «светского левоориентированного ашкеназа». Последний к тому времени превратился из рабочего с киркой в преуспевающего мелкого буржуа, занятого в системе управления, государственных компаниях, армии, университетах, бизнесе и судах – и вполне довольного существующим распределением власти. Именно на этот неповоротливый (а с годами и все более коррумпированный) механизм власти начинает опираться левый лагерь в электоральном смысле – и его политика по необходимости становится все более охранительной. Остается открытым вопрос, в какой степени практическая переориентация левого лагеря с социалистического утопизма на мелкобуржуазный деидеологизированный консерватизм была связана с осознанием идеологами левого лагеря своих изменившихся электоральных нужд; однако общая форма процесса не вызывает сомнений. В любом случае и рудиментарные социалистические лозунги, и стремление сохранить косный и коррумпированный государственный аппарат и воспрепятствовать перераспределению власти не имеют к либерализму ни малейшего отношения. Наконец, следует отметить ту огромную – и увеличивающуюся с годами – роль, которою групповые экономические интересы играют в «реальной политике» левоориентированных правительств.
Третьей компонентой, вокруг которой строится израильский левый лагерь, является стремление к компромиссу с арабами; более того, с годами значение этой компоненты постепенно росло, и часть идеологов левого лагеря стала все чаще называть свой лагерь «лагерем мира». В настоящее время можно часто услышать, что именно это стремление к миру и является главным доказательством либеральной ориентации (а в более радикальной версии и «либеральной сущности») левого лагеря. Однако, на мой взгляд, вопрос, в какой степени стремление к территориальному компромиссу связано с либеральной системой ценностей, не может иметь однозначного универсального ответа; этот ответ зависит от конкретных форм, которые принимает это стремление. Так, например, передача значительных территорий диктаторскому режиму не может рассматриваться как либеральный акт, способствующий индивидуальной свободе. Что же касается Израиля, то, несмотря на то что искреннее желание руководителей левого лагеря заключить мир с арабскими странами и вывести войска с территорий едва ли вызывает сомнения, было бы ошибкой рассматривать это стремление в отрыве от других структурных компонент существования левого лагеря. Следует помнить, что, во-первых, идеологический вакуум, оставленный после исчезновения социалистических утопических идеалов, представлял серьезную опасность для этого лагеря; этот вакуум образовался в самом сердце левого Израиля. Во-вторых, в тот момент, когда потомственные «генетические» избиратели левых партий перестали составлять в Израиле большинство, стало ясно, что левый лагерь нуждается в простой и значимой идее для того, чтобы его победа на выборах стала возможной. Однако, как мне кажется, связь стремления к миру с указанными выше, далеко не либеральными, целями в определенной степени это стремление компрометирует.
Еще более проблематичным оно является на уровне реализации. С самого начала было понятно, что режим Арафата будет жестким и диктаторским; более того, как известно, именно на способность Арафата навести порядок на территориях «без Багаца и Бецелема» (то есть без вмешательства Верховного суда и правозащитных организаций) и рассчитывали архитекторы Осло. Иначе говоря, передача арабского населения территорий под власть Арафата может быть названа прагматически вынужденным актом, но ни в коей мере не либеральным. Точно так же обстоит дело и с эмоциональной атмосферой, возникшей за последние годы в значительной части израильского общества в результате Второй интифады, проигранной Ливанской войны и иранской ядерной угрозы. Повседневный страх, чувство беззащитности и национального унижения значительно уменьшают способность человека к свободному выбору, и поэтому либерально настроенный политик не может и не должен примириться с порождающими их причинами. Разумеется, человека, патрулирующего на военном джипе города, населенные чужим и враждебным народом, трудно назвать свободным; но столь же несвободен и человек, боящийся выйти на улицы своего города или боящийся сесть в автобус. Наконец, выраженное утопическое сознание, проявившееся в вере в возможность радикального перехода к Новому Ближнему Востоку, и крайне низкая степень толерантности по отношению к оппонентам «мирного процесса» также не свидетельствуют о том, что этот процесс был хоть как-то связан с идеалами свободы и либеральными ценностями. Этот факт не может изменить и борьба против «религиозного принуждения» в качестве символа веры. Общим знаменателем для этой борьбы и мирного процесса является вера в то, что свобода может быть реализована в качестве «свободы от» (религиозных евреев или необходимости управлять другим народом), а либерализм соответственно является той формой государственного устройства, которую можно построить по готовому европейскому образцу. На самом же деле, как я старался показать чуть выше, либерализм не является заранее заданной формой, но скорее выбором и проектом, неизбежно обрекающим общество на неопределенность и противоречия, требующим толерантности, реалистичности и осторожности. Все это едва ли совместимо со стремлением решить столетний конфликт за несколько лет.
*
Но в таком случае следует задать вопрос, не является ли носителем либеральных ценностей правый лагерь? Возможно, идеология современного правого Израиля включила в себя либерализм в качестве несущей конструкции, так же как современный англосаксонский неоконсерватизм немыслим без своей либеральной основы. На первый взгляд для подобного вывода есть некоторые основания. В 10-е и начале 20-х годов вокруг Жаботинского объединялись в первую очередь те либерально ориентированные сионисты, которые не были готовы принять в качестве неизбежного дополнения к программе создания еврейского государства чудовищную смесь из социалистической идеологии, агрессивного утопизма сознания, политической нетерпимости и страстных симпатий к леворадикальным группировкам (а затем и к большевистской диктатуре), которая столь часто наполняла умы еврейской молодежи в России и Восточной Европе. Среди особенностей работ Жаботинского бросаются в глаза симпатии к русской культуре, российской государственности и отсутствие веры в физическое, идеологическое или моральное превосходство одной нации над другой. Более того, даже в знаменитых статьях о «железной стене против Востока» Жаботинский выступает не против арабов как народа, но против деспотизма, неприятия перемен и тотальной религиозной регламентации быта, которые, согласно Жаботинскому, свойственны Востоку. Его «железная стена» призвана не только защитить еврейский народ от арабского, но и защитить мир свободы от мира рабства. Аналогичным образом вера Жаботинского в эффективность именно силового решения проблемы арабо-еврейского противостояния объяснялась не мистической ненавистью к арабам, но глубоким пониманием цивилизационных различий между европейскими евреями и палестинскими арабами и закономерности и «неизбежной» ненависти туземных жителей Палестины к еврейским колонистам, несущим чуждые ценности, идеологию и мироощущение. Именно в силу осознания сущностных цивилизационных различий между евреями и арабами Жаботинский и стремился бороться с утопическими надеждами на взаимопонимание, примирение и братство между туземцами и колонизаторами – даже в том случае, если их будут объединять общие экономические интересы. Иначе говоря, в основе силовой концепции Жаботинского лежали традиционно-либеральные идеи: представление о свободе как о высшей ценности, признание инаковости другого и неприятие утопических идей.
С годами либералов среди сторонников Жаботинского становилось все меньше. По мере роста арабского террора силовой подход к вопросу еврейско-арабского противостояния постепенно превратился в центральный символ веры ревизионистского движения. В результате это движение стало привлекать все меньше людей, ориентированных на европейские либеральные ценности, и все больше профессиональных борцов-подпольщиков, со свойственными им нетерпимостью и догматизмом. Постепенно среди тех, кто считал себя сторонниками ревизионистского движения, появились и такие, кто, к ужасу Жаботинского, предлагал называть его «дуче». После смерти Жаботинского процесс делиберализации ревизионистского движения пошел еще быстрее. Так получилось, что в шестидесятые и семидесятые годы бегиновский «Херут», ставший преемником ревизионистов, нашел свою основную аудиторию среди выходцев из восточных общин – среди людей, пришедших с той стороны границы, на которой Жаботинский мечтал построить «железную стену». Для слишком многих из них любовь к свободе, индивидуализм и антиутопизм Жаботинского были непонятными и чуждыми идеями. В соответствии с новыми электоральными нуждами, «Херут» достаточно быстро усвоил риторику еврейской исключительности, коллективного социального протеста, культа традиции и семьи, а часто и полускрытого мессианизма.
На этом история отношений правого лагеря и либеральных идей не закончилась; при формировании блока Ликуд в него вошел не только Херут, но и Либеральная партия, унаследовавшая в значительной степени либеральную традицию, привезенную из донацистской Германии. Но история повторилась. Либеральные «добавки» в идеологии «Ликуда» коснулись экономической сферы – совпав с общим движением страны к свободному рынку и это движение ускорив. В то же время для большинства идеологов и значительной части избирателей «Ликуда» убежденность в необходимости израильского военного присутствия в палестинских городах не являлась результатом трезвой прагматической оценки общего состояния арабо-израильского конфликта и намерений противоположной стороны; для них это присутствие превратилось в способ создания коллективного мифического будущего. Разумеется, в подобной идеологии традиционно-либеральные идеи уже не могли играть заметной роли. Наконец, политический союз с ультраправыми и религиозными партиями все чаще заставлял депутатов «Ликуда» голосовать против законопроектов, стремящихся к увеличению индивидуальной свободы, а скрытое соперничество с этими партиями за голоса избирателей привело к тому, что риторика «Ликуда» стала все больше напоминать риторику его союзников, замешанную на идеях «земли и крови». Стремление к культурному изоляционизму, догматизм и религиозный фундаментализм, бывшие абсолютно неприемлемыми для Жаботинского, давно уже не воспринимаются в качестве таковых «Ликудом» и «национальным лагерем» в целом. Сегодня среди избирателей «Ликуда», формально являющегося не только «движением Жаботинского», но и правопреемником Либеральной партии, большинство, как кажется, составляют те, у которых слово «либерализм» не вызывает никаких мыслей и чувств, кроме надежды на уменьшение тарифов на телефонные разговоры вследствие «либерализации рынка телефонных услуг», и страха перед снижением социального пособия на восьмого ребенка.
На самом деле тот факт, что в Израиле не существует партии, которая бы сознательно отстаивала либеральные ценности и либеральный образ мысли, вполне закономерен. Не следует забывать, что мы живем в эпоху, когда мнения большей части населения любой западной страны являются прямым продуктом деятельности средств массовой информации; в результате разнообразие точек зрения в обществе напрямую зависит от разнообразия средств информации. В то же время Израиль является страной, в которой почти вся ивритоязычная часть населения читает три основные газеты (две из которых неотличимы) и смотрит три крайне похожих телеканала, понимание мира которыми, разработка материала, интерпретация событий и набор программ различаются лишь на уровне мелких деталей, но никак не на уровне эпистемологического поля, в котором они существуют. Очевидно, что либеральные взгляды не могут стать массовыми (а значит, и имеющими электоральный потенциал) в обществе со столь небольшим числом источников массовой информации.
Еще одной проблемой является школа. На фоне катастрофического сокращения эрудиции среднего школьника и растущего уровня насилия в подростковой среде меняющие друг друга министры просвещения из обоих лагерей с удивительным однообразием заявляют, что их целью является «усиление преподавания ценностей», что в переводе с израильского бюрократического означает повышение и так достаточно значительного уровня индоктринации и промывания мозгов. Разумеется, большинство сторонников «преподавания ценностей» скажут, что их целью среди прочего является «преподавание либеральных ценностей», – забывая о том, что либерализм преподать невозможно, как невозможно заставить человека быть свободным. Любое «преподавание ценностей», централизованное навязывание убеждений и жизненного стиля, противоположно свободе выбора, а значит, и либерализму. Трудно спорить с тем, что школа должна дать человеку поведенческую мораль. Возможно, что это даже более важная цель, нежели дать знания. Однако к либерализму эта цель не имеет никакого отношения. Человека можно и нужно научить сочувствию другому, но невозможно научить быть свободным. Свобода требует открытости горизонта, наличия многих путей и возможности из них выбирать. Изучая Библию, школьник должен знать и про то, что многое из сказанного в ней не подтверждается археологическими раскопками, а изучая историю, он должен иметь право сказать: «Я не люблю Рабина и не готов переживать по поводу его смерти больше, чем по поводу смерти любого другого человека». Принудительное насаждение левой догматики столь же несовместимо с либеральными ценностями, как и правой. Впрочем, здесь есть и противоположная крайность: абсолютный ценностный релятивизм, захлестнувший значительную часть израильского интеллектуального мира (и в особенности его сравнительно молодую часть) в последние пятнадцать лет. Однако, вопреки распространенному мнению, либерализм едва ли совместим с верой в равную ценность всех возможностей и путей: с верой в то, что каждый человек вправе выбирать сам, что хорошо и что плохо, что прекрасно и что уродливо. Выбор между возможностями, априорно эквивалентными с ценностной точки зрения, теряет большую часть своей имманентной значимости, и вместе с ним предельно обесценивается понятие свободы, без которого невозможен либерализм. Иначе говоря, свобода как ценность предполагает веру в существование и других ценностей (а возможно, и в наличие их иерархии); подобную же веру предполагает и либерализм как проект.








