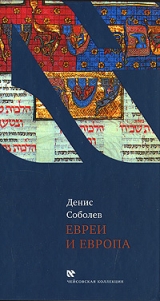
Текст книги "Евреи и Европа"
Автор книги: Денис Соболев
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Еще в 1902 году Арониус собрал около 40 средневековых церковных актов, запрещающих продажу рабов-христиан евреям из опасения, высказанного или подразумеваемого, что евреи обратят своих рабов в иудаизм. Поток подобных документов продолжался до середины XIII века. Хотя каждый из этих актов в отдельности легко отмести как пустую антисемитскую риторику, такой ответ невозможен из-за многочисленности однотипных постановлений, упомянутых выше. Подобные акты появлялись на территории от Франции до Киевской Руси. А это значит, что обращение славянских рабов в иудаизм было широко распространенным явлением. И действительно, в 1229 году архиепископ Робер Эцтергомский жаловался папе на то, что евреи обращают в иудаизм женщин и рабов. В 1267 году, на излете того времени, о котором идет речь, синод Бреслау выражал опасения, что одна из польских провинций, лишь недавно обращенная в христианство, может стать легкой добычей еврейской миссионерской деятельности. Но если обращению рабов-христиан в иудаизм мешали власть, многочисленные усилия и постоянный надзор церкви, то подобные препятствия отсутствовали при переходе в иудаизм тех рабов из западных славян, которые оставались язычниками. И хотя, на мой взгляд, гипотеза Векслера о славянском происхождении всего ашкеназийского еврейства не обоснована, трудно не согласиться с утверждением, что на ранних этапах истории польско-чешского еврейства обращение славянских рабов в иудаизм было одним из важных факторов пополнения еврейских общин.
Таким образом, уже с самого начала своей истории еврейские общины Польши, по всей видимости, не были этнически однородными. Однако речь вряд ли идет о больших общинах. Первые косвенные сведения относительно значительных еврейских общин на территории Польши появляются уже после монгольского нашествия, в 60-е годы XIII века. Папское послание, адресованное, как принято считать, Климентом IV неназванному польскому князю, выражает недовольство по поводу числа и роскоши польских синагог (в одном из городов таких синагог оказалось пять). Он отмечает, что, по имеющимся у него данным, польские синагоги оказались выше церквей, которые в сравнении с ними выглядят достаточно жалко.
Подлинность сведений, изложенных в этом письме, частично подтверждается актом синода Бреслау от 1267 года, принятым под руководством папского легата, кардинала Гвидо. Указанный акт требует резкого разделения между евреями и христианами, с целью защитить последних от еврейского влияния, и запрещает строительство более чем одной синагоги в одном городе. Эти два документа позволяют уточнить сведения о польском еврействе второй половины XIII века. Наличие пяти синагог в одном городе и желание церкви противодействовать умножению синагог в других городах говорят о том, что речь уже не идет о разрозненных еврейских купцах в языческих или христианских поселениях. И хотя по-настоящему большими эти общины назвать все же трудно, незначительными они также не являются. Хотелось бы подчеркнуть, что средневековое представление о «большой общине» было на три порядка меньше современного.
Впрочем, насколько мне известно, нет никаких документов, которые бы могли прояснить, кто именно из евреев перебрался на территорию Польши в рассматриваемый период, и, следовательно, ответ на этот вопрос может быть основан на сопоставлении степени правдоподобности различных ответов. Вполне возможно, что кто-нибудь из евреев Рейна действительно перебрался в Польшу, однако, как уже было сказано, гипотеза о массовом переселении сталкивается со многими трудностями. С подобными трудностями сталкивается и гипотеза о переселении в Польшу евреев Чехии, хотя она и выглядит более правдоподобной. С другой стороны, необходимо подчеркнуть, что центральная и юго-восточная часть средневековой Польши вплотную примыкала к Червонной Руси. И это географическое расположение повышает правдоподобность переселения евреев-хазар на сравнительно спокойную территорию польских княжеств. То, что сопредельные польские земли должны были казаться достаточно привлекательными для хазар русских земель, оказавшихся под властью Орды, едва ли вызывает сомнение. И поэтому нет ничего удивительного в том, что именно Болеславу Стыдливому, князю Малопольши (район Кракова, то есть юго-восток Польши), принадлежит акт 1262 года, запрещающий расселение евреев на территории, принадлежащей одному из монастырей. Наконец, как уже было сказано, первые косвенные сведения о значительных еврейских общинах в Польше появляются в 60-е годы XIII века, и появление этих сведений трудно не связать с общим бегством городского населения Руси с востока на запад в предшествующие два десятилетия в результате монгольского нашествия. Более того, за эти двадцать лет евреи Галицкой Руси тоже успели ощутить всю шаткость своего прифронтового существования – за эти годы различные области Червонной Руси неоднократно становились театром военных действий, сопровождавшихся резней и бесчинствами.
Однако в те же 60-е годы начинается новый этап в этнической истории польского еврейства. В XIII–XIV веках в Польше появляется ряд проеврейских постановлений, первое из которых – это указ князя Барнима I, дающий евреям Западной Померании разрешение жить согласно Магдебургскому праву.
Насколько я знаю, остается не вполне ясным, что именно подразумевалось под Магдебургским правом; в целом ясно, что указ Барнима носил проеврейский характер. За этим указом последовал знаменитый указ князя Центральной Польши Болеслава Благочестивого от 1264 года, который предоставил евреям широкие права. Эти указы, как, впрочем, и общая, достаточно благоприятная социально-экономическая атмосфера Польши того времени, приводят к дальнейшему росту еврейского населения страны. В 1304 году уже упоминается еврейская улица в Кракове, а к середине XIV века появляются упоминания о еврейских общинах почти во всех важных польских городах. Последнее, хотя и связанное с общим расцветом письменной культуры, не может не говорить также об увеличении еврейского присутствия.
Впрочем, природа еврейской эмиграции на территорию Польши вызывает вопросы, а точнее, как и раньше, один вопрос: с запада или с востока? И на этот раз ответ неоднозначен. В течение всего XIII века продолжалось бегство с территории будущей Украины от резни и разрухи. Об этом было уже достаточно много сказано. Позже аннексия Галицкой Руси Польшей в 1340 году не могла не ускорить проникновение евреев Червонной Руси, чье хазарское происхождение не вызывает сомнений, на территорию внутренней Польши. В тот же период польское еврейство могло быть пополнено за счет евреев Венгрии. В XIII веке хазарско-венгерской идиллии наступает конец. Первый, хотя и сравнительно мягкий, антиеврейский акт появляется в 1222 году, а в 1279 году акт синода в городе Буда резко ограничил венгерских евреев в правах, сделал попытку полностью изолировать их от христианского населения и обязал носить опознавательные знаки из красной ткани. Несмотря на то что благодаря сопротивлению королевской власти эти решения часто оставались на бумаге, последующие пятьдесят лет венгерской истории были связаны с постоянным ростом антисемитизма. Последнее же не могло не привести к эмиграции венгерских евреев на территорию сопредельных стран, включая, разумеется, и Польшу. Наконец в 1360 году евреи были полностью, хотя и не навсегда, изгнаны из Венгрии. Нет необходимости подчеркивать, что с географической точки зрения Польша являлась одним из наиболее удобных приютов для изгнанников. Что же касается этнической принадлежности венгерских евреев тех времен, их хазарское происхождение достаточно хорошо документировано.
Тем не менее XIV век вносит существенные коррективы в этнический состав польского еврейства. Несмотря на присоединение Галиции и изгнание хазарских евреев из Венгрии, в Польше увеличивается процентный состав этнических евреев. В конце XIII – начале XIV века евреи впервые появляются в восточной части германских земель; а знаменитый Drang nach Osten, общее движение немцев на восток, увлекает, как предполагают историки, и часть евреев. В их числе могли быть и собственно немецкие евреи, и некоторые из еврейских жителей Франции, изгнанных в 1306 году Филиппом Красивым. Наконец, в середине XIV века антиеврейская резня, сопровождавшая великую чуму, по всей видимости, привела к бегству на восток евреев Восточной Германии. И хотя нет никаких данных о численном соотношении погибших и бежавших, принято считать, что многие из жертв резни достигли Польши. Присутствие западноевропейских евреев было особенно ощутимым в общинах Силезии, области на границе с немецкими землями, которая до середины XIV века принадлежала Польше. В общих чертах появление еврейских эмигрантов с запада на территории Польши в позднее Средневековье можно считать достаточно хорошо документированным.
Наиболее полные данные сохранились в отношении Бреслау. Среди еврейских переселенцев, живших в Бреслау в середине XIV века, большинство было эмигрантами из Чехии и германских земель и только трое – эмигрантами из Руси. Однако на самом деле это ничего не проясняет. Во-первых, потомки евреев, эмигрировавших на запад за век до этого, уже очевидно не считали себя переселенцами, в отличие от переселенцев из германских княжеств XIV века. Во-вторых, община Бреслау того времени была очень немногочисленна и несомненно уступала и Кракову с его еврейской улицей, и Львову с двумя еврейскими кварталами, и тому неназванному польскому городу, где уже век назад было пять синагог. И если даже на границе между польскими и немецкими территориями осело лишь очень немного эмигрантов из германских земель, то нет оснований предполагать, что при продвижении на восток их становилось больше. В то же время общее еврейское население городов Центральной и Восточной Польши было более значительным. Наконец, стоит отметить, что нет ничего удивительного в обилии эмигрантов с запада на самой границе с Чехией и германскими княжествами. Куда интереснее представляется присутствие трех евреев, считавших себя эмигрантами из Руси, – несмотря на значительную удаленность от последней в пространстве и значительную временную дистанцию, отделяющую время, о котором идет речь, от массового бегства на запад русского населения. В более ранние времена и на территории Юго-Восточной Польши соотношение местных уроженцев, эмигрантов с запада и эмигрантов с востока было несомненно иным. И тем не менее, несмотря на различия, было и нечто общее, объединявшее различные польские общины: средневековая Польша стала местом встречи хазарских и этнических евреев. Слившись между собой, эти два потока еврейской эмиграции образовали, при участии западнославянских прозелитов, новую нацию – ашкеназийское еврейство.
*
Осталось свести вместе уже сказанное. К концу XIII века на территории Восточной и Центральной Европы существовало ощутимое еврейское присутствие, преимущественно, а где-то и исключительно хазарского происхождения. Речь идет о территории Южной Белоруссии, Центральной и Западной Украины, Центральной и Восточной Польши, Словакии, Трансильвании, Венгрии и Австрии. И это значит, что – несмотря на то что переселение западноевропейских евреев на восток в более поздние времена представляется достаточно правдоподобным – у истоков восточноевропейских еврейских общин, по всей видимости, стоят именно хазары. Погромы конца XIII–XIV веков пополнили эти общины за счет волн еврейских эмигрантов с запада, и в первую очередь за счет беженцев из немецких княжеств. В то же время аннексия Литвой Киевской Руси и Волыни и аннексия Галицкого княжества Польшей привели к появлению литовского еврейства и ускорили проникновение евреев Червонной Руси на всю территорию Польского королевства. В последующие два века изгнание евреев из Венгрии (в 1360 году) и Литвы (в 1495-м) не могло не пополнить польское еврейство новой волной потомков хазар. Уния Польши и Литвы в 1569 году окончательно объединила две общины и перемешала хазар и этнических евреев. Наконец, волны еврейских беженцев из Волыни, Подолья, Галиции и Малопольши, захлестнувшие еврейские общины Центральной Европы в результате погромов Хмельницкого в середине XVII века, принесли с собой последнюю волну хазарских евреев. Потомки степных кочевников стали называть себя ашкеназами; и в настоящее время уже едва ли возможно сказать, в какой именно степени ашкеназийские евреи происходят от повелителей хазарских степей. Но каким бы ни было соотношение семитской и тюркской крови в венах ашкеназов, в свете аргументов, приведенных выше, сам факт родства вряд ли вызывает сомнения. Становится достаточно ясным, что у истоков еврейских общин Восточной Европы стоят именно хазары.
*
Я дописываю эту главу под недовольное бурчание моего приятеля. Он говорит, что предпочитает происходить от ученых и мучеников Западной Европы, а не от каких-то там восточных кочевников. Что ж, этой возможности он не теряет: судьба евреев Восточной Европы, от кого бы и в какой бы степени они ни произошли, сложится так, что и иссушающей душу учебы, и мученичества, превосходящего стойкость нашего воображения, будет еще вдоволь. Но мою душу согревает мысль, что в нашей крови растворен не только затхлый воздух средневековых городов с их запахом гнили и тесноты, с их взаимной ненавистью и вечным страхом, но и прозрачное дыхание степи, в которую хазары уходили при первых признаках весны, оставляя свои города рабам и торговцам. Это совсем иной образ еврейского бытия – и, как это ни странно, это образ, созвучный тому видению себя и мироздания, который будут искать многие европейские евреи в девятнадцатом и двадцатом веках. И соответственно его смысл находится не только на генеалогическом, но и на метафорическом уровне.
Потому что, как всякая история, Хазария есть не более чем метафора для нашего бытия здесь. Потому что легкий шаг всадника ведет к самому себе, растворенному среди вещей. Потому что нет заповеди выше, чем быть свободным.
Авраам ибн-Эзра[12]12
Авраам ибн-Эзра (1089, Тудела, Испания – 1164,?) – еврейский поэт, грамматик, философ, комментатор Библии, астроном и врач. В 1140 году покинул Испанию. Последующая жизнь Ибн-Эзры прошла в странствиях по Франции, Провансу и Италии. В 1158 году он посетил Лондон. Традиция приписывает ему 108 сочинений.
[Закрыть] как первый европейский еврей
Двусмысленность славы, доставшейся на долю средневековой еврейской поэзии, не может не вызывать сожалений. Речь идет о книгах почитаемых, но редко читаемых. Впрочем, даже на фоне этого ущербного величия образ Ибн-Эзры в таком виде, в каком его донесла до нас традиция, кажется особенно странным, одновременно вызывающим и необъяснимо лишенным индивидуальных черт: в нем нет ни философской надменности и трагического одиночества Ибн-Габироля,[13]13
Шломо бен-Иехуда ибн-Габироль (по-арабски – Ибн-Габируль Абу Айюб Сулейман ибн-Яхья; на латыни – Авицеброн; родился в 1021 или в 1022 году, Малага – умер в 1052–1055 годах, по-видимому, в Валенсии) – еврейский поэт и философ. Писал на иврите (стихи) и арабском (трактаты). Многие религиозные стихи Ибн-Габироля включены в сефардские, ашкеназские и караимские молитвенники.
[Закрыть] ни мощи, спокойного изящества и внутренней цельности Иегуды Галеви. Его имя не вызывает в памяти никакого устойчивого чувственного образа, его портрет – это портрет человека, обращенного к нам спиной, невидимое лицо уходящего странника. Память о его жизни не ассоциируется ни с чем, за исключением разве что постоянного чувства бездомности. Даже его смерть, местом которой разные источники называют Калаорру, Лондон и Рим, носит отчетливый отпечаток пренебрежительного равнодушия, проявленного к нему памятью традиции. Создавая образ Ибн-Эзры, традиция отказала ему в посмертном ореоле героя или мученика, столь важном для литературной славы, – точно так же, как его воображаемому портрету было отказано в любых характерных и, безотносительно к качеству поэзии, узнаваемых чертах – тех самых чертах, из которых обычно и строится образ «поэта». Смерть Ибн-Эзры не окрашена ни в темно-лимонный цвет таинственной розы, выросшей, согласно преданию, на могиле Ибн-Габироля и разоблачившей его убийцу,[14]14
По легенде, Ибн-Габироль был убит. Убийца тайно закопал его и посадил на этом месте розовый куст (по другим вариантам – смоковницу). Цветы на этом кусте (или плоды на смоковнице) появились много ранее срока. Царь приказал разобраться с чудом. В результате было найдено тело убитого поэта и разоблачен его убийца.
[Закрыть] ни в светло-охристый цвет теней, осветивших смерть Иегуды Галеви над мирными и в то же время столь земными белесыми отблесками камней Иерусалима, у ворот которого, как гласит легенда, Галеви был убит.[15]15
Согласно преданию, Иегуда Галеви умер не в Египте, а у стен Иерусалима. Легенда рассказывает, что, достигнув Иерусалима, Галеви упал на колени и начал молиться. В это время его раздавил копытами своего коня арабский всадник.
[Закрыть] Если смерть Ибн-Эзры и может быть названа его «последним творческим актом», то только в смысле ее немифологической единичности, ставшей последним отражением его предельно приватной, почти анонимной, жизни.
И все же Ибн-Эзра представляется фигурой в высшей степени примечательной. Кажущаяся безликость его стихов, провал, разделяющий рассказчика и автора, покрытый низкостелящимся туманом то ли скромности, то ли высокомерия, то ли самопренебрежения, является осознанным созданием надменного и отстраненного ума. Безупречный вкус Ибн-Эзры был непреодолимым препятствием на пути всего того, что его же пристрастный и безжалостный к себе взгляд мог расценить как самолюбование или манерность: ему были одинаково чужды и гордый надорванный голос Ибн-Габироля, и романтические страдания Моше ибн-Эзры,[16]16
Моше бен-Я'аков ибн-Эзра (Абу-Харун; 1055? Гранада – 1135?) – выдающийся еврейский поэт и философ, получил всестороннее еврейское и арабское образование и занимал видное положение в еврейской общине Гранады, был другом и наставником Иегуды Галеви.
[Закрыть] и подчеркнутая гармоничность поэзии Иегуды Галеви. Ни одного из них (за исключением, быть может, Ибн-Габироля) он не мог бы по праву назвать своим учителем, – впрочем, даже подражание габиролевской «Кетер а-малхут»[17]17
«Кетер а-малхут» («Царский венец») – этико-философская поэма Ибн-Габироля, вошедшая в литургию Йом Кипур.
[Закрыть] становится у Ибн-Эзры пищей для отвлеченной игры ума, лишенной какой бы то ни было непосредственности восприятия или упоения чувствами. Отвращение к мелодраматичности, присущее ему с первых строк, написанных еще в юности, с годами превратилось в навязчивую идею, узнаваемый и печальный признак его поэзии. Человек, прошедший от моря до моря чуть ли не всю поднебесную и видевший великие города Европы, Азии и Африки, не нашел в своей жизни ничего достойного не быть забытым. В своем стремлении к подлинности мгновенного ощущения мира он предпочел раствориться в холодном эфире своих стихов, не оставив потомкам ни одной нити, ни одной фальшивой монеты для обязательного подношения Литературе – подношения, которое бы позволило его книгам стать материалом для многозначительных упоминаний и узнаваемых цитат, а его тени – объектом самоотождествления и сентиментального сострадания. Я думаю, что он хотел быть забытым.
Место «Поэта», с его неповторимой биографией и сюжетной самодостаточностью внутренней жизни, в поэзии Ибн-Эзры занял язык – точнее, тот единственный язык, который, согласно еврейской традиции, сохранил в себе и пронес через кровь и хаос истории изначальный образ божественной мысли – язык иврит. В этом смысле, по крайней мере на первый взгляд, Ибн-Эзра следовал традиции. Однако на самом деле это было не совсем так. Его поэтические предшественники, многократно восславившие язык Торы как совершеннейшее средство миротворения, а чуть позже – как образ смыслового саморазвертывания мира, наполняющий хаос мгновенными иерархическими смыслами, были далеки от подлинной веры в сказанное ими о языке. Прославляя иврит на словах, они на практике продолжали видеть в нем не объект поэзии, а средство, пассивное орудие поэтической речи, и использовали его исключительно инструментально. Более того, в средневековой ивритской литературе внутренняя логика языка очень часто приносилась в жертву литературным канонам, заимствованным из других культур – главным образом из арабской. В этом смысле противостояние между двумя великими средневековыми грамматиками – Менахемом бен-Саруком, о котором уже шла речь в предыдущей главе, и Дунашем бен-Лабратом[18]18
Дунаш бен-Лабрат (середина X века) – еврейский поэт и грамматик. Родился в Багдаде, учился у Саадии Гаона. По-видимому, некоторое время жил в Кордове. Есть основание полагать, что он дожил по меньшей мере до 60 лет. Стал известен благодаря упомянутой полемике о значении ряда слов и выражений в иврите, неправильное истолкование которых, по мнению Дунаша бен-Лабрата, вело к ошибкам в вопросах Галахи.
[Закрыть] – достаточно симптоматично. Если школа бен-Сарука была ориентирована на библейский иврит и его словарь «Махберет», составленный самим бен-Саруком, то бен-Лабрат настаивал на необходимости перенесения в ивритскую поэзию правил и норм арабского стихосложения, которое воспринималось в качестве более развитого тематически и более совершенного стилистически. Однако в исторической перспективе попытки школы бен-Сарука «защитить» ивритскую поэзию от механического перенесения норм арабской литературы не увенчались успехом, и достаточно быстро эти нормы – хоть и несколько скорректированные – стали каноническими для ивритской поэзии Золотого века.
Ибн-Эзра был первым, действительно поверившим в метафизическое, а впоследствии и каббалистическое определение языка, поверившим в то, что язык Торы является сущностью мироздания и хранителем смыслов человеческого существования – и поверившим верой, лишенной какого бы то ни было дуализма: не только утверждающей так существование языка, но делающей это признание основой и активным принципом творчества. Насколько мне известно, он был единственным из своих современников, увидевшим в языке самоцель, онтологический статус которой несравненно более высок, чем статус почти всего из того, что язык описывает. Свидетелем этой неутихающей страсти являются не только разнообразные грамматики и грамматические комментарии, написанные Ибн-Эзрой, но и его многочисленные стихи, единственным содержанием которых является язык, облаченный в формы, поражающие воображение и открывающие бесчисленные выразительные и музыкальные возможности. Среди этих странных стихотворных текстов – загадки, фантастические акростихи, трактаты по натурфилософии и астрономии, кулинарные рецепты, комментарии к календарю, язвительные и не всегда уместные шутки, навязчивые дидактические поучения, руководство по игре в шахматы, рекомендации относительно диеты и гигиены и, наконец, казалось бы, совсем бессмысленные тексты и стихи, почти целиком состоящие из аллитераций. Похоже, что Ибн-Эзра исходил из удивительного и нигде им не сформулированного убеждения, что любой предмет является достаточно значимым, чтобы стать частью поэзии, или что все существующее – безразлично и одинаково ничтожно и поэтому может без остатка превратиться в материал его волшебных стихов.
В то же время эта слепая любовь к языку сыграла предательскую роль, наделив Ибн-Эзру безграничной и ни на чем не основанной уверенностью в том, что сила и красота языка достаточны для достижения абсолютно любой цели – в том числе и для написания философских трактатов. Среди многих странностей его книг нет ничего более странного (а возможно, и поучительного), чем картина сдержанного ума, неожиданно подавленного бременем покорного и подражательского философского ученичества – по большей части следующего в русле неоплатонической традиции. Длинные ряды навязчивых банальностей превращают его трактаты в блистательные образцы философской бессмыслицы, обрамленной драгоценной оправой необычного и почти всегда узнаваемого стиля. Был ли холодный и высокомерный разум Ибн-Эзры столь очарован возможностью проникновения в недоступное или ослеплен ореолом, окружавшим освященные традицией источники, – какова бы ни была причина, кажется, что мысль Ибн-Эзры стала пленником его чувств.
Однако есть и другое объяснение. Гораздо более вероятно, что фанатичный и бескорыстный праведник языка, поэт для поэтов, он и здесь сделал язык единственным содержанием своих книг, и, вопреки своему знаменитому скепсису провозглашая целью трудов подлинное познание мира, он искал его не среди тяжеловесных метафизических пирамид, не в лабиринтах силлогизмов и схолий и даже не в мистическом созерцании концентрических кругов божественных эманаций, но в музыке магических сопряжений ивритской речи.
Впрочем, гладкость и кристальная безупречность его речи тоже обманчивы. Осторожный рационализм доказательств соседствует в ней со стилистическими сгустками, смысловыми пустотами и темными провалами мысли, против которых бессилен даже самый хитроумный комментарий и в которых смятение, иррациональность и неясность проступают с болезненной осязаемостью. В его текстах почти за каждым словом внимательному уху открывается нечто вроде тяжелого гула сфер, за стремлением к ясности, непротиворечивости и схоластической стройности проступает беспокойное шевеление хаоса, внутренняя талмудическая раздвоенность и подлинность глубины противоречия выливаются в принятие сознательной антиномичности бытия. Эта двойственность, сочетание иллюзорной прозрачности речи с неразрешимыми темнотами и крайностями иррационализма еще долго будут оставаться одними из самых характерных признаков книг, написанных евреями как на иврите, так и на других языках. В двадцатом веке они особенно и неизбежно узнаваемы.
Еще интереснее двусмысленность религиозных взглядов Ибн-Эзры. Его комментарии к Танаху строго рациональны, что особенно бросается в глаза по контрасту с его эпохой, постепенно склонявшейся в сторону теологических фантазий, мистических видений и каббалистических спекуляций. Более того, последующая традиция – часто с изрядной ноткой неодобрения – отмечала сухость его комментариев и стремление избежать расширительных толкований. Сам Ибн-Эзра пишет: «Позвольте мне разъяснить принцип моих толкований: всякое предложение стоит на своей собственной основе. Если мы можем найти причину для связки разных предложений – мы должны связывать их – насколько это возможно. Если нет, мы должны признать, что виновата ограниченность наших знаний». И все же, несмотря на ярко выраженный рационализм, комментарии Ибн-Эзры являются каноническими. Однако те же самые комментарии через пятьсот лет после смерти Ибн-Эзры будут использованы Спинозой в «Богословско-политическом трактате», как скрытые, хотя и вполне осознанные, доказательства в пользу историчности Торы и соответственно ее небожественного происхождения. Но даже если согласиться с этим толкованием комментариев Ибн-Эзры, подобная интерпретация не способна сделать его экзегетические тексты менее религиозными. Хотя нетрудно заметить, что его вера окрашена в особые, не всегда характерные для его времени цвета. Более того, утомительный и неизобретательный в своих метафизических построениях и нравоучениях, Ибн-Эзра преображается в религиозных стихах. Но в них он больше обращается, чем объясняет, больше сомневается, чем прославляет, больше требует, чем просит. С этой неожиданной требовательностью и еще более неожиданным нахальством Ибн-Эзра напишет в своей знаменитой покаянной молитве: «Я слышал слова моего сердца – Ты же услышь их на небесах». Впрочем, в его стихах отсутствие пиетета компенсируется уверенностью, настойчивостью и подлинностью голоса: похоже, что небеса – единственное место, где он чувствует себя дома.
Что касается всех прочих мест, то, проведя большую часть своей жизни в бродяжничестве (или, в зависимости от точки зрения, в путешествиях или скитаниях), Ибн-Эзра принимал свою бездомность со сдержанным равнодушием и, как это ни странно, с удивительной ясностью и спокойствием духа. Его часто сравнивают с другим Ибн-Эзрой – Моше, тоже поэтом и тоже вечным изгнанником, старшим современником Авраама, полагая, как кажется, что бездомность Ибн-Эзры была уже всецело предрешена этим фатальным совпадением имен. На самом же деле аналогия неудачна. Моше ибн-Эзра, рожденный в благополучной, изобильной, по-восточному чувственной и защищенной горами Гранаде, был в юности разлучен со своей возлюбленной, что и стало причиной его вынужденных странствий, которые он воспринимал как трагическую случайность, разрушившую его жизнь, как чистую единичность обстоятельств и личную несправедливость судьбы. Именно этот ярко выраженный диссонанс между окружавшим его пышным южным счастьем и его печальной участью, в которой он видел незаслуженную насмешку Провидения, явился не только трагическим фоном, но и благодатной почвой для его стихов. Он оставил нам чудесные образцы скорби и плача по несбывшейся жизни, по неразделенной и невоплотившейся любви.
В отличие от него Авраам ибн-Эзра родился на территории Сарагосского эмирата, в Туделе, которая через 22 года после его рождения будет захвачена христианами. А всего лишь за десять лет до этого крестоносцы почти полностью уничтожили многие еврейские общины стран Ашкеназа. Впрочем, по крайней мере в те годы, судьба испанских евреев сложится относительно благополучно. В XI веке на территории Иберийского полуострова еврейские погромы чаще возникали в результате хаоса, в который постепенно погружались мусульманские государства. И все же, пережив все ужасы Реконкисты и, что еще важнее, постепенный крах вечного и незыблемого миропорядка, Ибн-Эзра предпочитал видеть в своей бездомности чистую беспричинность, некую трагическую парадигму бытия, которая для него, в отличие от его предшественника, в значительной степени явилась предметом свободного выбора и уже хотя бы поэтому не допускала сочувствия к себе или сострадания к своей судьбе. Был ли этот свободный выбор бездомности единственно возможным или же предполагал возможность иного существования – этот вопрос, как мне кажется, Ибн-Эзра считал принципиально неразрешимым. Вполне возможно, что у его бесконечных странствий по Европе, Африке и Азии действительно была какая-то причина, но равнодушный к пафосу и глубоко чуждый поэтической позе Ибн-Эзра не только не окружил ее ореолом трагической скорби, но даже не счел достойной упоминания, растворив ее среди строк, забыв или стараясь забыть как одну из случайных подробностей своей жизни.
Эта бездомность, воспринимаемая Ибн-Эзрой как данность, без экзальтации и трагического ореола, оставила свой след буквально на всем, что он писал. Привычность к страданиям он связывал со столь важным для него спокойствием духа и с необходимостью быть правдивым. Отсюда же берут начало его безжалостный скепсис и просветленная легкость стиля. Даже Палестина Ибн-Эзры это не земная и материальная Палестина Иегуды Галеви, предмет тоски по дому, реальная сухая земля, на которой будет восстановлено царство Израиля, – но скорее религиозная или лингвистическая утопия, глубоко личная и малодоступная, хотя и связанная с реальностью. Столь же отстраненно и чуть иронично, как о бездомности, он пишет и о бедности, слишком часто бывшей неотъемлемой частью его жизни. Пожалуй, больше, чем где бы то ни было, подобный взгляд бросается в глаза в его стихотворении о старом плаще, поношенном и дырявом, подобном ситу. Ибн-Эзра пишет о созвездиях, которые можно наблюдать через дыры в плаще, и смеется над глупостью мухи, рискнувшей сесть на столь непрочную основу. Но вдруг в заключение его тон меняется; и все с тем же поразительным самомнением он восклицает: «Господь мой! Замени его на покров славы – хорошо скроенный».
С постоянными странствованиями Ибн-Эзры и подчеркнуто индивидуальным характером его поэтического пространства связана еще одна особенность его книг – болезненное ощущение личного начала, хрупкости и преходящести, воспринимаемых им обычно, хотя и не всегда, тоже без излишней трагической экзальтации. «Поэту», «Философу» или кому бы то ни было с большой буквы Ибн-Эзра противопоставляет принципиальную приватность существования и постоянное осознание преходящести существующего, вечным истинам – единичность переживаний и неповторимость описаний, религиозному экстазу – внимательное и скептическое, окрашенное грустью созерцание вещей. И все же вещам он тоже чужд: в его стихах нет места для плотной и густой материальности мира Иегуды Галеви, его внимательный и пристальный взгляд, задерживаясь на вещах, его окружающих, постоянно соскальзывает с них, повисая в уже не вполне материальном, разреженном воздухе горних сфер. Легко заметить, что, разглядывая вещи, он стремится ощутить их в мгновенной истинности и что, по всей видимости, его целью является их демифологизация, разрушение мифологического коллективизма ради неповторимости единичного существования и конкретного восприятия.








