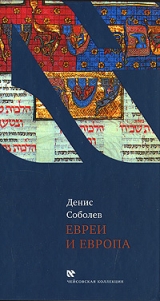
Текст книги "Евреи и Европа"
Автор книги: Денис Соболев
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 23 страниц)
О поэзии существования
Думая и читая о поэзии, я все чаще чувствовал, что существующие теории поэтического – сколь бы убедительными и блестящими ни были те или иные рассуждения – лишь в небольшой степени отражают то, что мне кажется одной из сущностей поэтической речи и поэтического опыта. Более того, мне часто казалось, что речь идет о сущности наиболее значимой. Переводя интуитивное чувство на язык более формальный, я постепенно пришел к выводу, что мы слишком редко спрашиваем об особом когнитивном содержании поэтической речи – о содержании, отличающем ее от других форм речи и письма, необходимом для понимания поэзии и возможной основе ее апологии. Этим особым содержанием является допредикативный, дологический опыт человеческого существования: существование человека в его относительной формальной нерасчлененности. Разумеется, в разные эпохи, в разных культурах и в разных поэтических жанрах подобное содержание занимает разное место. Так, например, в различных экспериментах со сложными и изысканными поэтическими формами, характерных для эпохи Возрождения и Барокко, тема подлинности человеческого существования естественным образом отходит на второй план. И наоборот, в поэзии модернистов она становится центральной, неизбежной, обсессивно значимой. Что же касается еврейско-европейских писателей, то для них эта тема была центральной задолго до эпохи модернизма. Эту обнажающую функцию поэтического в его отношении к существованию можно сравнить с тем, что модернисты, используя традиционно христианскую терминологию, называли «эпифанией»: моментом обнажения истины. В данном случае речь не идет о раскрытии истины и смысла бытия в каком-то высшем, метафизическом смысле, но о самообнажении истины существования в его временности и конечности. Истина существования противопоставлена здесь не намеренной и осознанной лжи, но, скорее, его понятийной и, как правило, идеологизированной репрезентации – и более систематическому «формальному» продумыванию. Впрочем, все это требует гораздо более подробных объяснений.
*
Литература вообще и поэзия в частности принадлежат к тем немногим областям человеческой деятельности, в которых, как кажется, разбираются практически все. Другое дело эстетика, философия литературы или современная литературная теория – это области, которые, как и любые другие науки, являются уделом специалистов. Однако, в отличие от остальных наук, со взглядами которых принято считаться при обсуждении затрагиваемых ими вопросов, литературная теория является едва ли не самым нежеланным гостем в литературном мире. Подобная враждебность с легкостью объяснима. Оправданием нежелания прислушиваться к теоретическим доводам является тот факт, что литература, как и всякое искусство, принадлежит к миру чувств или миру духа и ее сущность постигается только интуитивно. Как всякое искусство, поэзия существует по ту сторону понятий и теорий. Холодное и рациональное расчленение поэтического текста может убить его хрупкую магию, но не способно вывести на поверхность из таинственных глубин слова ускользающую тайну его поэтичности. Так же как холодный анализ может убить любовь, но не способен прояснить ее вечную тайну, анализ поэтического текста способен лишь разрушить его.
Так или почти так станут оправдывать свою враждебность литературной теории многие из ее оппонентов. И то, что на первый взгляд кажется убедительным аргументом, сильнее всего выдает неустойчивость всей постройки; в данном случае – сравнение поэзии с любовью. О надмирной иррациональности любви чаще всего вспоминают именно тогда, когда реальные и более чем земные побуждения оказываются слишком неприглядными. О магии поэзии вспоминают тогда, когда слишком заметными оказываются нищета мысли и низменность намерений, – магия поэзии призвана перевесить ее сомнительную мораль и многочисленные интеллектуальные огрехи. На самом деле упоминание магии является плохим лекарством и от того, и от другого. Более того, любому антропологу – включая антропологов современной городской культуры – известно, что там, где появляются разговоры про магию, следует искать совсем иные мотивы и смыслы. В большинстве случаев под магическими практиками скрыты различные формы социальности и отношений власти. Впрочем, проблематичность разговоров о магии не исчерпывается своей антропологической компонентой.
При ближайшем рассмотрении магия оказывается далеко не небесной гостьей. Всем, кто когда-либо изучал историю, знакома «магическая» способность завораживать, свойственная наиболее отвратительным негодяям, подчинявшим своей воле страны и народы. Нам слишком хорошо знакома магия несвободы, магия коллективного насилия, магия власти. Более того, в своем изначальном смысле магия и означает способность повелевать – властвовать над природой, духами и людьми. Следовательно, она противоположна высшему дару человеческого бытия – дару свободы, которому одинаково чужды и холопство, и власть. Стремление к магии является результатом экзистенциальной уязвимости человека и несвободы, господствующей в истории; прославление магии поэзии оказывается зеркальным отражением несвободы, перенесенным в вымышленный мир желаемого. Иными словами, вместо того, чтобы искупить грехи поэзии, разговоры о магии пятнают поэзию еще больше, вместо того, чтобы вынести ее за пределы истории, они делают поэзию зеркальным отражением истории власти. И поэтому именно магия поэзии, ее власть над умами и делают особенно необходимым анализ сущности поэзии, анализ ее прав на ту власть, которой в нашей культуре она обладает или, по крайней мере, обладала до недавнего времени. Иначе говоря, осознание магической силы поэзии делает необходимым ее оправдание; без такого оправдания поэзия обречена предстать всемирным шарлатаном, графом Калиостро, странствующим по векам и континентам. Из истории же литературы мы знаем, что подобное «оправдание» поэзии, в свою очередь, влечет за собой попытки понять и определить ее сущность.
*
Несмотря на то что существует несколько возможностей определения сущности поэзии и ее апологии, я бы хотел сказать несколько слов только о трех наиболее популярных. Именно на них держится гигантское здание эстетики – и классической, и романтической. Согласно первому из традиционных эстетических подходов, поэзия не акт мысли, а искусство ее выражения. В простейшем случае это означает, что поэзия в любых ее формах сродни рифмованному поздравлению с днем рождения: мысль, высказанная с помощью поэтического языка, оказывается легкой в восприятии и приятной для собеседника. Поэзия является формой душевного комфорта. В этом утверждении часто присутствует изрядная доля истины. Но если оно справедливо, то все претензии поэзии на особою роль в человеческой жизни лишены основания. Впрочем, существует и более сложное понимание поэзии как «искусства выражения». На излете классицизма Александр Поп напишет, что поэзия пересказывает то, что всегда было всем известно, но никогда не было высказано так хорошо. Поэтические строчки, независимо от их содержания, становятся частью языка и коллективной памяти. Поэтому поэзия крайне удобна для кодификации и узаконивания наиболее важных философских и политических догм, выработанных той или иной культурой. «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Иначе говоря, поэзия является чем-то вроде карманного катехизиса той или иной культуры. И хотя подобное заключение отводит поэзии важное место в общей иерархии культуры, оно является прямым отрицанием вневременных, надмирных претензий поэзии: магия поэзии оказывается частью идеологической машины. Поэзия оказывается орудием власти.
Подобное заключение возможно только в том случае, если приведенное выше определение поэзии является единственно возможным. Но на самом деле оно не только не единственно возможное, но даже не очень популярно; я начал с него только потому, что его проблематичность очевидна. Согласно самому распространенному определению поэзии, это искусство слова, это прекрасное, воплощенное в языке. В своих различных формах и инкарнациях определение является столь же привычным, сколь и таинственным. Более того, может быть, именно его таинственностью и определяется его сила. Слово «поэзия», смысл которого в большинстве случаев ясен хотя бы интуитивно, определяется с помощью двух слов, смысл которых не ясен совершенно. Что такое прекрасное? Что такое искусство? Существует ли прекрасное вне искусства? Является ли искусство чем-то большим, чем суммой литературы, живописи, скульптуры, музыки? Ответ возможен, но он и не решает проблему.
Прекрасное – это то, что доставляет удовольствие. Но победа «Бейтара» на чемпионате Израиля, фильм про Шварценеггера – являются ли они прекрасными? В терминах нашей культуры – очевидно, что нет. Если так, в чем их отличие от того, что называется прекрасным? Традиционный ответ на этот вопрос существует, и он известен, по крайней мере, со времен кантовской «Критики способности суждения». Прекрасное – субъективно, но универсально. Субъективно – поскольку не существует образца, шаблона, сравнение с которым позволяет определить степень прекрасности объекта. Универсально – поскольку суждение о прекрасном общеобязательно и выходит за пределы чисто личных оценок. Мой сосед любит пиво «Голдстар» и «Бейтар Иерушалаим»; его жена – женские романы и кожаные кошельки с застежками. Но ни то ни другое не является прекрасным, поскольку достаточно очевидно, что любовь к пиву «Голдстар» и бульварным романам не несет в себе ничего универсального. В отличие от женских романов и кожаных кошельков, красота «Давида» столь же общеобязательна, как и истинность доказанной теоремы. Неспособность ее ощутить объясняется отсутствием эстетического образования, так же как неспособность проследить за доказательством теоремы, объясняется отсутствием образования математического. В обоих случаях речь идет об универсальной компоненте человеческого бытия в этом мире.
Такое понимание прекрасного позволяет дать определение искусства. Искусство – создание эстетических форм – форм, являющихся универсально прекрасными. Скульптор создает их из камня, поэт – из грубого материала повседневности, из бесцветной слякоти человеческого бытия. Вознося этот материал в область красоты, в область совершенства формы, поэт превращает жизнь, которая коротка, в искусство, которое вечно. И потому так же, как бесформенная материальность камня не имеет прямого отношения к скульптуре, содержание поэзии не имеет прямого отношения к поэзии. Содержание, почерпнутое из мутного потока бытия, преходяще, в то время как форма вечна. И в этом смысле поэзия – высшая форма непринадлежности, высшая форма нонконформизма. Будучи равнодушной к миру истории, поэзия в частности и искусство вообще напрямую связаны с вечностью прекрасного: высшим и самым подлинным слоем человеческого бытия. Они уже как бы не принадлежат к мирозданию в его историчности и к истории с ее рабством и кровью.
Достаточно ясно, что вся эта постройка немыслима без постулата универсальности эстетического. В то же время в конце двадцатого века ничто не выглядит столь подозрительным, как разговоры об универсальности. Не только историки культуры, но и представители естественных наук сходятся в понимании ограниченной применимости любой теории и почти любого понятия. Что касается эстетики, то контакт с неевропейскими цивилизациями и этнографические исследования являются на сегодняшний день неопровержимым свидетельством в пользу неуниверсальности эстетического. Со времен появления классической эстетики многое изменилось; и чем шире становился горизонт европейской истории и этнографии, тем больше появлялось примеров того, что разные народы называли прекрасным. И в этой почти бесконечной разноголосице форм нет ничего, что было бы универсальным. То же самое, хотя и с известными оговорками, справедливо и в отношении одних и тех же культур. Несмотря на то что поэмы Вергилия и размышления Марка Аврелия гораздо более созвучны моему взгляду на мир, нежели современная российская или израильская беллетристика, достаточно очевидно, что многое из того, что сравнительно недавно казалось образцом прекрасного, режет слух своей напыщенностью и фальшью. Преувеличенная пластика барокко и романтические позы, по всей видимости, принадлежат именно к этой категории. А это значит, что представление о прекрасном зависит от времени и места. Вполне вероятно, что интуиция прекрасного как таковая, является универсальной составляющей бытия человека в мире, но конкретные воплощения этой интуиции предопределены их культурным контекстом. Проще говоря, то что определенные формы могут доставлять удовольствие, – общечеловеческая черта, но выбор тех форм, которые считаются прекрасными, зависит от конкретной культуры и конкретного времени: ничего общечеловеческого в этом выборе нет.
Для приведенного выше оправдания искусства это понимание имеет катастрофические последствия. Во-первых, все претензии поэта на выражение вечных пластов мироздания оказываются лишенными каких бы то ни было оснований. На это можно возразить, что заключение не так ужасно, как кажется. Общеобязательность внутри ограниченного культурного региона не так уж мало стоит, и способность той или иной книги доставлять удовольствие ее читателям хотя бы в одной стране и на протяжении сравнительно небольшого промежутка времени тоже достойна уважения.
На самом деле это не совсем так. Превращение книги в объект, доставляющий удовольствие определенной группе людей «здесь и сейчас», ставит ее в один ряд с пивом «Голдстар» и женскими романами. Более того, в определенном смысле эти романы предпочтительнее поэм Вергилия и Данте – не только из-за их терапевтического влияния на измученную психику их читательниц, но просто благодаря тому, что число тех, кому может доставить удовольствие Данте, несравненно уступает числу тех, чью душу согревают розовые романы.
И это не единственная проблема. Тот факт, что представление о прекрасном является продуктом определенной культуры, означает его историческую обусловленность: обусловленность историей власти и насилия, обусловленность той историей культуры, которая, как говорил Беньямин, является историей варварства. Эстетический выбор – выбор победителей. То, что первые христиане были вынуждены защищать предполагаемую вульгарность библейского языка, казавшуюся особенно явной в сравнении с безупречным языком Гомера, говорит всего лишь о том, что Рим захватил Иудею, а не наоборот. Эстетический выбор является формой разметки границ господства. Так же как медведь помечает когтями на коре границы своей части леса, государство-победитель распространяет «свои» эстетические формы на подвластных ему землях.
В свете понимания этого тесная связь, которая всегда существовала между обладанием властью и обладанием эстетическим вкусом, приобретает неожиданный смысл. Принято думать, что обладание властью и деньгами позволяет получить широкое образование, включая образование эстетическое, а последнее и делает возможным интуицию прекрасного. В случае отдельного человека – несомненно так; в случае же государств и больших социальных групп ситуация совсем иная. Выбор эстетического канона, выбор прекрасного – одна из прерогатив центра империи и господствующего класса. В Европе до сравнительно недавнего времени именно аристократия определяла невидимую границу между прекрасным и вульгарным. Иначе говоря, эстетический выбор служил средством разметки не только политических, но и социальных границ. И поэтому поэт, если он ставил своей целью создание прекрасного, старательно реализовывал выбор обладающих властью. Вопреки своей воле он был далек от независимости – даже если жил в холодной мансарде и перебивался с хлеба на воду. Такой поэт оказывался невольным конформистом, заложником собственного самообмана. А значит, при ближайшем рассмотрении формально-эстетическая апология искусства, как вечного и свободного, оказывается выстроенной на песке.
*
Существует и другая, не менее популярная возможность определения сущности поэзии и ее оправдания – возможность ее оправдать, не прибегая к терминологии «прекрасного». В наше время эта возможность связана с избирательным применением теории информации к литературным текстам. Сто лет назад в России аналогичный подход был результатом осмысления идей Спенсера и Потебни. С точки зрения сторонников подобного подхода, который в русскоязычном мире часто связывается с Тартуской школой, поэтический текст отличается от обычного в первую очередь благодаря сконцентрированности информации. Во-первых, в этом тексте все значимо по определению. Поэтому даже мельчайшие детали оказываются носителями информации; читательское отношение к тексту делает возможным передачу смысловых оттенков. Во-вторых, повторение фонетических, ритмических и грамматических элементов устанавливает связи между теми элементами текста, которые на первый взгляд не связаны между собой. «На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн». Рифма связывает «волн» и «полн»; полнота моря превращается в полноту мысли, и сквозь мысль, обращенную в будущее, шум волн становится шумом города. В дополнение к этому нарушение конвенций, привычных условностей повседневной речи, которое особенно характерно для различных авангардных течений, создает дополнительный смысловой слой: смысл поэтического текста проявляется благодаря подразумеваемому сравнению с нарушенными правилами. В сумме эти особенности поэзии делают поэтическую речь наиболее концентрированной формой выражения мысли; и в этом ее оправдание.
На мой взгляд, много справедливого и в представлении о связи поэтической речи с особой концентрацией мысли. Любой читатель знает, что одно и то же стихотворение при повторных прочтениях способно раскрывать все новые и новые грани смысла. Тем не менее информационное оправдание поэзии сталкивается с многочисленными проблемами. Во-первых, подобная концепция смешивает информативность в повседневном смысле, которая действительно является достоинством, и представление об информативности как степени непредсказуемости, которое связывается с теорией информации. Если в ответ на вопрос «Какая завтра будет погода?» собеседник замяукает, его ответ будет в высшей степени информативным во втором смысле и абсолютно неинформативным в первом. Боюсь, что поэтическое мяуканье несет в себе ничуть не больше мысли, несмотря на несомненный контраст с нарушенными поэтическими конвенциями.
Вторая, и более серьезная, проблема апологии поэзии, о которой идет речь, это проблема дешифровки. Избыточная информация, бесчисленные смыслы и полутона, сконцентрированные на крайне небольшом пространстве поэтического текста, неизбежно приводят к хаосу – к размыванию цельности мысли. И даже если этого не происходит, не вызывает сомнений, что высокая концентрация мысли на небольшом знаковом пространстве требует от читателя гораздо больше времени и усилий, чем получение той же информации в развернутом и ясном виде: хорошо известно, что почти любой поэтический текст требует нескольких прочтений. Это заключение, в свою очередь, ставит под вопрос «информативное» оправдание поэзии: если разгадывание ребуса не является целью чтения поэзии, то каждая отдельная минута, затраченная на чтение поэтического текста, оказывается менее «информативной», чем то же время, потраченное на восприятие тех же идей во внепоэтической форме. Разумеется, легко возразить, что ничто так не чуждо поэзии, как подобная экономическая терминология, – но это именно та терминология, которой оперируют, сознательно или бессознательно, сторонники оправдания поэтической речи как речи, наделенной высокой информативностью или концентрированным когнитивным содержанием. Их поэзия напоминает мне те пилюли от жажды, которые, как мы знаем из Сент-Экзюпери, экономят пятьдесят три минуты в неделю. Но если это так, то в конечном счете вместе с Маленьким принцем я предпочту пойти к колодцу.
Впрочем, самая серьезная проблема, возникающая при попытке понимания и защиты поэзии как поля повышенной информативности, еще не была названа. Она заключается в том, что информативность как таковая ни в коей мере не способна послужить оправданием поэтической речи. Подобным оправданием может послужить хотя бы относительная ценность полученной информации; газетные сплетни изобилуют информацией, но это вряд ли способно стать оправданием их чтения. И в этом смысле проблема, возникающая на пути «информационного» определения поэзии, является неразрешимой. Строго говоря, никаких греческих богов не существует; поэмы Гомера являются нагромождениями вымыслов. И в конечном счете нет никакой разницы – высказаны ли эти вымыслы в сконцентрированном виде и с изобилием смысловых полутонов, или же они представлены в их первобытной незамысловатой простоте. Их ценность остается нулевой для всех, кроме, пожалуй, историков культуры; но даже для них представления Гомера о мире станут лишь исходным материалом для дальнейшего анализа. Иначе говоря, если для поэзии Гомера невозможно найти других оправданий, кроме сконцентрированного выражения взглядов его кровавого времени, место этой поэзии в мусорной корзине и нигде более.
То же самое можно сказать и о поэзии вообще. Мысль многих знаменитых поэтов часто не выходила за пределы общефилософских банальностей их времени, и компактные поэтические тексты, сколь бы концентрированными они ни были, несомненно уступают развернутым философским трактатам и по глубине, и по степени убедительности. Еще менее выигрышным оказывается сравнение поэтических и научных текстов, поскольку последние, не уступая поэзии в компактности изложения, несомненно превосходят ее в смысле точности. Иначе говоря, оправдание поэзии как смыслового поля повышенной информативности оказывается ничуть не более убедительным, чем оправдание поэзии как компактного катехизиса или окна в вечность. И это, в свою очередь, означает, что все аргументы в пользу поэзии, о которых шла речь выше, оказались выстроены на песке. И поэтому, на первый взгляд, можно было бы и вообще отказаться от попыток понимания сущности поэзии и оправдания ее существования. В таком случае следует сказать, как это часто и делается в наше «постмодернистское» время, что поэзия – всего лишь игра, раскладывание слов по заранее данным правилам, игра в исполнение и нарушение литературных конвенций. Размер и его нарушения, рифма и ее отсутствие, форма сонета и хаос верлибра, высокий поэтический слог и вульгарные просторечья. Это и есть поэзия. Такая игра доставляет удовольствие и, разумеется, не нуждается ни в каких оправданиях. Но понятая таким образом поэзия снова становится случайным развлечением, игровым автоматом, вещью среди вещей.
*
И все-таки мне не хотелось бы следовать по этому легкому пути отрицания, сколь бы искусителен он ни был. Не претендуя на универсальное определение поэзии, я хотел бы сосредоточиться на одной из ее сущностей – на сущности, которая не только указывает на особое когнитивное содержание поэтической речи, но и может послужить пониманию и «апологии» этой речи лучше, чем эстетика или теория информации. Следует начать с того, что так же, как наука и философия, поэзия направлена на мир. Но если это так, то сразу же возникает вопрос: каков особый предмет пристального внимания поэзии; или, пользуясь философскими терминами, какова ее региональная онтология? Мы знаем, что у физики есть свой предмет изучения; свой предмет есть у биологии. Чтобы поэзия не превратилась лишь в тень наук, у нее должен быть свой собственный предмет, предмет, доступный только ей. Но каков же этот предмет? Поэзия рассказывает о человеческих чувствах, но психология понимает эти чувства много лучше нее. Поэзия говорит о природе, но природой занимается зоология и ботаника. Поэты пишут о путешествиях и дальних странах, но географы делают то же самое много точнее. Поэзия может рассказать о иных народах и культурах, но этнография и культурология справляются с этой задачей гораздо удачнее. На все это можно ответить, что, в отличие от научных данных, поэтические описания наглядны и динамичны. Уступая науке в точности, поэзия превосходит их в наглядности. Так что же, поэзия – это средневековая Библия в картинках, иллюстрация из учебника, наука для неграмотных, прообраз научно-популярного фильма? В таком случае ее место в прошлом; не только потому, что видеофильм много нагляднее, но и потому, что, как мы знаем, поэтические описания не отличаются точностью.
И все же у поэзии и литературы вообще может быть свой собственный особый предмет, к которому она обращена, – существование человека в мире, человеческое бытие в его нерасчлененности. Это утверждение требует чуть более подробных объяснений. Человек, существующий в мире, воспринимает себя-сейчас как точку в потоке существования, как неделимость своего бытия среди вещей, как цельность мгновенного предстояния тому, что он ощущает как иное – существующее вне него. Стол у окна, каменные плиты пола, пустая коробка, брошенная на балконе, желтизна пустыни в проеме открытой двери. Все они являются иным, тем, что не есть «я»; но в сумме мое предстояние им, резонирующее среди вещей, и образует то, что я называю своим существованием сейчас. Разумеется, с аналитической точки зрения цельность и неопосредованность этого чувства-существования иллюзорны. Как уже говорилось в предыдущей главе, каждый из объектов внутри горизонта сознания вычленен из потока восприятий благодаря культурно обусловленной сетке интенциональных актов, бессознательно наложенных на континуум восприятий. Впрочем, именно потому, что подобное аналитическое понимание предмета выводит за рамки сознания, оно и не является существенным для понимания того особого когнитивного содержания поэтической речи, о котором идет речь. Это содержание связано с допонятийным – и все же полностью сознательным – чувством своего существования в мире. Следует подчеркнуть, что понятия «мир» и «я» не присутствуют в моем существовании среди вещей; они не являются частью того изначального чувства своего-существования, которое предшествует любой мысли о бытии.
Мир в его цельности проецируется из этой изначальной точки существования здесь и сейчас как необходимое условие и смысловой контекст тех вещей, из которых складывается бытие человека в его временной определенности и пространственной ограниченности. Так, ответ на вопрос о сущности Иудейской пустыни, которую я вижу перед собой, возможен только в контексте: контексте географии Земли, библейской истории, войн Израиля. Эти контексты, в свою очередь, предполагают общую картину мира в его полноте. Иначе говоря, мир за линией горизонта существования здесь и сейчас появляется (или, точнее, – проявляется), когда человеческий взгляд останавливается на этой линии горизонта, когда человек спрашивает себя о том, что вне его: о том, что там; и в этом вопросе слово «там» выступает как отрицание «здесь». Мое существование здесь и сейчас становится миром в его надличностной универсальности; вопрос о бытии – вопросом об устройстве мироздания. Это тот вопрос, на который пытаются ответить ученые и создатели философских систем; и это не праздный вопрос – но ответ на него уже не имеет прямого отношения к подлинности человеческого существования среди вещей. Мироздание в его цельности приходит на смену существованию человека; это другая подлинность – но подлинность, которая достигается как отрицание – или просто исчезновение – предыдущей.
Точно так же появляется «я», появляется человек с его биографической историей. Он не присутствует в момент чистого ощущения «сейчас», его нет в моем предстоянии вещам, он расположен вне моего существования в его мгновенной неповторимости. Только выходя за горизонт своего существования-сейчас, человек превращает «мое» (существование) в «я», он задается вопросом «кто тот, кто существует?». Кто есть тот, кто существует среди вещей, его окружающих? Кто есть сидящий за столом у окна, бросивший пустую коробку у входа, оставивший незапертой дверь на балкон?
Из подлинности существования появляется иная биографическая подлинность «я», с личной историей и неразрешенными проблемами. Чаще всего «я» предстает как рассказ о своей жизни, как повествование, как нарратив, как некая сумма тех полувыдуманных историй о себе и мире, которые мы рассказываем и себе, и другим. Может быть, так предписывают законы нашей культуры; может быть, так происходит, потому что человеческая жизнь действительно имеет начало и конец и этим похожа на дорогу. Но в любом случае попросите человека рассказать о себе или хотя бы о прошедшем дне, и вы услышите бесконечные «и тогда я», «и тогда она», «а я ему». Нет ничего более далекого от постоянно ускользающего существования в его мгновенной подлинности, чем подобные рассказы.
Иначе говоря, при первой же попытке сосредоточить мысленный взгляд на своем существовании оно распадается на «мир» и «я». И поэтому, когда мы задаемся вопросом о существовании человека в мире, мы обычно делим его на вопрос о мире и вопрос о человеке. Мы мысленно отвечаем на вопрос «что есть мир» и рассказываем «историю моей жизни». Но мгновенная подлинность существования в каждый из его моментов оказывается безвозвратно потерянной. Тем не менее это существование не фикция, это то существование, сквозь которое мы существуем в этом мире. Мгновенная остановка мысли позволяет нам ощутить если не свое бытие среди вещей, то, по крайней мере, его ускользание. Оно только что было здесь, и оставшуюся за ним пустоту уже наполняет мысль о нем. Но и пустота, и мысль об ускользнувшем бытии, и мысль о пустоте – тоже формы нашего существования в мире. Мысль гонится за ним, как Ахиллес за черепахой. Но оно недоступно мысли, которая всегда опаздывает. И тем не менее это мгновенное ощущение существования среди вещей можно схватить и сохранить. Эта возможность существует благодаря тому, что схоластики и Бергсон, в отличие от нас, называли интуицией. «Мне холодно. Прозрачная весна / В зеленый пух Петрополь одевает, / Но, как медуза, невская волна / Мне отвращенье легкое внушает». Краткая, почти застывшая интуиция существования становится поэзией.
И поэтому поэзия – это в первую очередь искусство виденья. Искусство виденья мира, который и есть мир человеческого бытия. «Розовые сосны, / До самой верхушки свободные от мохнатой ноши…»; «Тонкий воздух кожи, синие прожилки, / Белый снег, зеленая парча…»; «Дикой кошкой горбится столица, / На мосту патруль стоит…» Видеть течение струи меда и полет ласточки, слышать шаги на мосту и невидимые голоса. Вещи вступают в мир человеческого существования не только сквозь свое присутствие, но и благодаря своему отсутствию. Открывая ящик стола, я не нахожу ключ от балконной двери там, где привык его видеть. Отрицание привлекает мой мысленный взгляд к ключу, которого нет, к самой двери, к запертому балкону, к пустыне за стеклом. И так же, сквозь отрицание, вещи вступают в поэзию. «Не отвязать неприкрепленной лодки, / Не услыхать в меха обутой тени…»; «Не слышно птиц. Бессмертник не цветет, / Прозрачны гривы табуна ночного, / В сухой реке пустой челнок плывет…»; «Я не увижу знаменитой «Федры» / В старинном многоярусном театре, / С прокопченной высокой галереи, / При свете оплывающих свечей»; «С важностью глупой, насупившись, в митре бобровой / Я не стоял под египетским портиком банка, / И над лимонной Невою под хруст сторублевый / Мне никогда, никогда не плясала цыганка».








