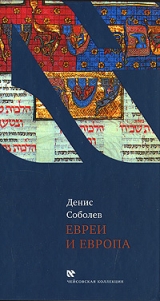
Текст книги "Евреи и Европа"
Автор книги: Денис Соболев
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
VII.Свобода как высшая ценность и как проблема. Индивидуализм. Отчуждение
Еще одна проблема, которая постоянно оказывается в фокусе еврейской мысли, – это проблема свободы. Достижимость и недостижимость, возможность и невозможность свободы постоянно обсуждаются еврейско-европейскими писателями и философами. Впрочем, стремление к внутренней и внешней свободе сталкивается с острым осознанием могущества открытых и скрытых механизмов несвободы, на которых держится практически любое общество. Но в той степени, в которой свобода (или, по крайней мере, внутренняя независимость) достижима, она часто выступает у еврейских авторов одной из высших ценностей, а иногда и ценностью практически абсолютной. Следует подчеркнуть, что с исторической и моральной точек зрения подобное стремление далеко не всегда столь привлекательно, как это может показаться на первый взгляд. Во многих случаях это стремление может представать в качестве радикального и разрушительного идеала утопического освобождения – у Маркса, Беньямина, Лукача или Маркузе, – резко противопоставленного существующему социальному и символическому порядку с его механизмами власти и несвободы. В других своих формах эта традиция (и здесь можно вспомнить кого угодно, от Гейне до Бродского, а в каком-то смысле и Галича) отказывается признать существование иных ценностей (таких, скажем, как нация, государство или утопический идеал), которые были бы выше свободы. В этих случаях еврейско-европейская традиция предстает как традиция подчеркнутого индивидуализма, часто радикального.
*
Существование подобного, достаточно радикального, индивидуализма связано с двумя следствиями. Во-первых, отсечение невидимых нитей коллективных верований и репрезентаций, соединяющих людей друг с другом, обнажает неизбежное одиночество человека. В этом смысле обостренное внимание к проблемам одиночества и отчуждения – обратная сторона сфокусированности на проблеме свободы. Более того, подобное одиночество часто воспринимается как изначальное, подлинное состояние человека, как существование по ту сторону самообмана. Кафка и Сол Беллоу, Пруст и Бродский говорят, хотя и по-разному, об этом последнем одиночестве человека. В тех же случаях, когда речь идет о текстах менее лирических и в большей степени ориентированных на структуры социальности, тема одиночества преломляется как тема отчуждения человека в современном индустриальном и постиндустриальном мире. Эта тема выходит на передний план и в анализе многочисленных аспектов «отчуждения» и у Маркса, и у Вальтера Беньямина, и в теории «ложного сознания», созданной Лукачем, и, разумеется, в работах Франкфуртской школы. В текстах литературоведческих та же самая тема предстает как теория «остранения» у Шкловского и формалистов: отчужденного восприятия мира и его репрезентаций, делающих возможным критический взгляд, высвечивающий истину. Единственным исключением является Мартин Бубер, превративший одиночество человека из последней истины в точку отправления для своей страстной псевдофилософской поэмы «Я и Ты». Впрочем, это исключение только подтверждает правило. Полуосознанная утопичность книги Бубера, ее удаленность от реальных горизонтов человеческого существования в мире, поэтический характер предлагаемого Бубером преодоления отчужденности с легкостью объяснимы сказанным выше. Они объясняются тем фактом, что в еврейской традиции проблема одиночества человека в мире, которую Бубер взялся разрешить, обычно воспринимается как неразрешимая. «Человек одинок, – напишет Бродский через много лет после Бубера, – как мысль, которая забывается».
VIII.Демифологизация языков власти
Вторым следствием радикального индивидуализма и осознанного отчуждения, доминирующих в еврейской мысли, является всепроникающий скепсис, и в первую очередь скепсис политический. За объяснением этого факта не нужно далеко ходить. Осознание собственной непричастности, отчуждения от коллективных идеалов и механизмов власти позволяет критически взглянуть на последние. Еврейская традиция – и здесь можно вспомнить не только Гейне и Галича, упомянутых выше, но Спинозу и Кафку, Маркса и Адорно, Гроссмана и Беллоу, Целана и Бродского – это традиция противостояния власти. Но если традиционная европейская парадигма противостояния власти обычно предполагала политическое противостояние при принадлежности к общей языковой и ценностной вселенной, писатели-евреи обнаруживают крайне отчетливую тенденцию к выходу за пределы культурных областей, облюбованных доминирующей цивилизацией и ее дискурсами: стремясь, как кажется, разорвать связи с нею на уровне гораздо более глубоком, чем собственно политика. Достаточно существенно, что подобная тенденция обнаруживается не только в отношении к диктатурам, но и по отношению к «новому тоталитаризму» постиндустриального западного общества и его «средствам массовой информации», столь рельефно проанализированному Франкфуртской школой и ее преемниками.
И потому, оказавшись вне культурной и ценностной пирамиды, поддерживающей власть как систему, еврейские писатели и мыслители становятся способными на анализ функционирования власти, принципиально отличный от традиционного. В отличие от последнего, в большинстве случаев обращенного на самые заметные материальные проявления власти и несвободы, еврейская традиция построена в первую очередь на противостоянии мифам и языкам власти. Мандельштам и Бродский, Гроссман и Галич являются прекрасными примерами такого противостояния. Более того, не только мифология власти, но и конкретные национальные культуры часто рассматриваются как подобные языки – как скрытое орудие господства и подавления. Такой подход особенно характерен для немецкоязычной ветви еврейской мысли: для антиромантических насмешек Гейне, марксовского сведения культуры к экономическому противостоянию, беньяминовского стремления сорвать ауру священности, существующую вокруг искусства, попыток Адорно выявить метафизический «субъект господства» за кулисами европейской цивилизации.
IX.Обостренное внимание к историчности человеческого бытия
Большинство европейских философов направляли свою мысль на универсальные, внеисторические аспекты бытия человека. Еврейско-европейской мысли, напротив, свойственно внимание к исторической обусловленности человеческого существования. В этой традиции философские акценты перенесены с бытия человека в мире на бытие в истории. Более того, историчность этого существования понимается как одна из сущностей человеческого существования в его конкретности. Этот подход особенно бросается в глаза по контрасту как с традиционными христианскими представлениями, так и с верой просветителей в универсальную, неизменную человеческую природу, на которую лишь «надеваются» исторически обусловленные – но всегда поверхностные – «костюмы», как это происходит в голливудских фильмах. Наконец, в этой традиции либерально-гуманистическому представлению о свободной воле человека противопоставлено понимание того, что человек в огромной степени является пассивным продуктом общества и истории – несвободным, если не слепым, исполнителем ее воли. Это внимание к исторической обусловленности (или, как принято говорить в культурологии, историчности) человеческого бытия характерно для столь разных философских школ, как марксизм (и неомарксизм), с одной стороны, и неокантианская школа Эрнста Кассирера – с другой.
Впрочем, внимание к исторической обусловленности человеческого существования не является универсальной характеристикой еврейской мысли; скорее, это одно из проявлений общего внимания к истории, которое, вне всякого сомнения, характеризует еврейско-европейскую традицию. История перестает быть задником, на фоне которого разыгрываются реальные события, – она становится активным действующим лицом. Но следует отметить, что вышедшая на авансцену история оказывается далека от того, что обычно принято о ней думать. Это не героическая повесть о дерзаниях и свершениях, не миф, цель которого объединить народ, и уж тем более не гегельянское неизбежное движение к совершенству – с Мировым духом на козлах истории. В большинстве случаев история в еврейско-европейской интеллектуальной традиции – это история с маленькой буквы, история крови, страданий и непрекращающегося насилия. Это история варварства, как описал ее Вальтер Беньямин в своих знаменитых «Тезисах об истории». Ученики Беньямина, и в первую очередь современные неоисторицисты, добавят, что история – это не только история самого насилия, но еще и история различных механизмов подавления и власти; это история языков власти и языков насилия. И именно эта история, история как многословная кровавая реальность, выходит на передний план у Галича и Целана, Бродского и Мандельштама, Бабеля и Гроссмана, Деблина и Фейхтвангера, Германа Броха и Нелли Закс.
X. Пересечение культурных границ
Сочетание острого чувства одиночества, осознания собственной непринадлежности, исчезновения героического мифа национальной истории и противостояния языковой монолитности власти часто приводит к желанию вырваться за пределы нормативных культурных регионов, за пределы границ национальных культур. Это стремление может выражаться в попытках культурного посредничества между еврейским и нееврейским миром, как, например, это происходило у Моше Мендельсона и Исаака Бабеля, Германа Броха и Германа Когена. Но то же самое стремление к разрушению культурных границ может проявляться и в попытках объяснить друг другу различные европейские культуры. И здесь наиболее характерные примеры описываемого явления – культурное посредничество Гейне между Германией и Францией или посредничество Бродского между русской и английской культурами. Наконец, то же самое явление может проявляться в стремлении к недостижимому культурному синтезу, к мандельштамовской тоске по воображаемой «мировой культуре», к созданию чисто еврейских фантомов вселенского культурного единства.
XI. «Смысл» как проблема
Как известно, философский поворот, совершенный Гуссерлем, связан с перенесением философских акцентов на понятие смысла в его данности сознанию. Впрочем, это только один из многих примеров, говорящих о центральности проблематики смысла в еврейско-европейской интеллектуальной традиции. Более того, большинство еврейских мыслителей ставят этот вопрос в гораздо более радикальной форме, чем Гуссерль, которого интересуют структуры человеческого (и именно человеческого) сознания. В большинстве же случаев смысл предстает в еврейской мысли как один из главных, «последних» вопросов. Речь идет в первую очередь не о значении того или иного поступка для отдельного человека в очевидной ограниченности его существования и даже не о его историческом или социальном резонансе, а о вне-историческом, метафизическом смысле – смысле с большой буквы. Речь идет о том Законе в «Процессе» Кафки, по которому должен быть судим человек и его поступки. Однако, спрашивая об этом Законе, о смысле человеческого существования, еврейская мысль не перестает подчеркивать невозможность сколь бы то ни было удовлетворительного ответа. В этом отрицании возможности смысла нет ничего удивительного. Если традиционно европейский философский подход построен на представлении о том, что внимательное изучение мира может привести к пониманию смысла человеческого существования и поступков (на представлении о том, что, как принято говорить, смысл, в той или иной степени, «имманентен» материальному миру), еврейская традиция связана с пониманием неприсутствия скрытого смысла в вещах, с признанием его «неимманентности». И тем не менее, как кафкианский Закон, таинственный, недостижимый и все же постоянно присутствующий, – смысл присутствует как вопрос: вопреки своей недостижимости. Именно о нем, раз за разом, с отчаянием и надеждой, спрашивает Кафка. Именно в свете подобной идеи «бесконечности», полностью трансцендентной существующему, пытается увидеть межличностные отношения Левинас. Именно к попыткам найти этот смысл раз за разом – в своем обсессивном сизифовом героизме – возвращается разочарованная мысль Деррида. Иными словами, еврейская традиция выбрала трагический серединный путь: между спокойной уверенностью в возможности ответа на вопрос о смысле человеческого бытия, присущей авторам классического романа, и авангардным, карнавальным пренебрежением к самому вопросу.
XII. Антисимволизм. Аллегорическое мышление. Литература конечности
Еврейско-европейская мысль принципиально антисимволична. Простое сравнение еврейских (Кафка, Пруст, Стайн) и нееврейских (Джойс, Элиот, Йейтс, Тракль, Георге) модернистов убеждает в том, что именно здесь проходит одна из главных линий водораздела между еврейской литературной традицией и другими национальными европейскими культурами. Насколько мне известно, из всех авторов, о которых идет речь, есть только один, чье письмо связано с традицией символизма, – Герман Брох. Впрочем, учитывая юношеское увлечение католицизмом с его всепронизывающей символикой, это исключение не так уж трудно объяснить. Неприятие символизма как метода письма является всего лишь выражением одной из главных особенностей еврейской традиции в европейской цивилизации – ее «аллегорического мышления». В культурологии «аллегорическим мышлением» принято называть представление о неимманентности смысла, о его неприсутствии в материальном мире. Этот термин восходит к книгам Беньямина и появился по контрасту с мышлением символическим. Под символическим мышлением, выходящим далеко за рамки символизма как литературного течения, принято понимать веру в присутствие бесконечного в конечном, веру в то, что сами реалии материального мира способны привести человеческий дух к пониманию вечных духовных миров. Так, например, у Блока любовь к конкретной земной даме становится отражением полноты той любви, которая является одной из трех дочерей небесной мудрости Софии. Подобный взгляд на мироздание чрезвычайно распространен у романтиков, особенно английских и немецких, для которых созерцание красоты природы становится не только бегством от уродливой повседневной реальности, но и опытом познания духовных истин и в конечном счете самого себя как человека. Достаточно ясно, что символическое мышление, вера в присутствие бесконечного в конечном является одной из форм выражения более общей веры в соприродность материального мира и человеческого духа – веры в то, что мир является открытой книгой для человеческой мысли. Подобная вера объединяет и символистов, и романтиков, и немецкий идеализм, и, с известными оговорками, традиционное христианство.
Еврейско-европейская мысль принципиально антисимволична. Она связана с представлением о неимманентности смысла в материальном мире. Здесь необходимо подчеркнуть, что аллегорическое мышление характерно не для всей еврейской цивилизации, а только для рассматриваемого круга явлений. Нет никаких сомнений, что традиционная еврейская жизнь с ее тотальной символизацией повседневной жизни не подпадает под это определение. И тем не менее, в отличие от более традиционных регионов еврейской цивилизации, еврейско-европейская традиция связана с аллегорическим, а не символическим мышлением. Это аллегорическое мышление, как показал Беньямин, может проявлять себя в разных формах. Это и отказ от символизма как техники письма, и прямые указания на разрыв между миром существования и миром смысла. Это и использование материальных предметов в качестве знаков для выражения принципиально несоприродных им идей: нечто подобное тому, что происходит в «Осеннем крике ястреба» Бродского, где ястреб превращается в аллегорию взгляда на мир самого Бродского. Это и те книги, в которых точка смыслового отсчета вынесена за пределы настоящего времени, за пределы наличного существования, в прошлое, которое если и существовало, то в любом случае уже безнадежно невозвратимо. Примером последнего является поздняя поэзия того же Бродского, начиная с «Келомяков».
Наконец, аллегорическое мышление проявляется как чувство «конечности». Если бы смысл присутствовал в вещах, они могли бы говорить о бесконечном – о вечном мире вне себя. Поскольку это не так, они сохраняют свою упругую, упрямую, профанную материальность – отказываясь превращаться в романтические знаки вечного. Наиболее запоминающимся образом это выразила Гертруда Стайн в своей знаменитой строке: «Роза – это роза, это роза, это роза». Роза, символ Девы Марии, мистическая роза «Романа о розе» и роза дантовского рая уже со времен Средневековья стала образцовым символическим мостом, соединяющим конечный мир материальности и вечный мир духовной любви. Голубой цветок Новалиса и роза в «Маленьком принце» – это только две из бесчисленных реинкарнаций символа розы. Но то, что говорит Гертруда Стайн, – это совсем другое. Роза – это не символ любви. Связь между ней и любовью – один из земных человеческих вымыслов. Роза – это всего лишь один из цветков, одно из растений. Роза – это роза, ничего более; роза во всей своей материальности и конечности. И еврейско-европейская литература – это литература конечности. Обращаясь к Мандельштаму, которого он считал своим учителем, Целан напишет: «Я слышал, как поешь ты, о конечное, я видел тебя, Мандельштам… Пело то, что конечно, то, что пребывает».
*
Такова в общих чертах структура еврейской мысли в европейских культурах. И хотя эта схема, разумеется, еще требует дальнейшего уточнения, в общих чертах ее описание окончено. И это значит, что цель, которую я ставил перед собой, почти достигнута. «Но не забудь, – говорит моя подруга, – что ты еще ничего не доказал. Тебе потребуется еще пятьсот страниц, чтобы повторить все, что ты говорил той зимой на лекциях». И это почти правда. Схема, представленная выше, основана на материале лекций, прочитанных мною несколько лет назад в Шокеновском институте: на детальном анализе достаточно широкого круга культурных явлений, сложившихся на границе между еврейским и христианским мирами. В ходе лекций была проанализирована поэзия Генриха Гейне, Осипа Мандельштама, Нелли Закс, Александра Галича, Пауля Целана и Иосифа Бродского; проза Марселя Пруста, Гертруды Стайн, Франца Кафки, Исаака Бабеля, Франца Верфеля, Альфреда Деблина, Леона Фейхтвангера, Германа Броха, Василия Гроссмана и Сола Беллоу; философские идеи Баруха Спинозы, Моше Мендельсона, Германа Когена, Анри Бергсона, Эдмунда Гуссерля, Эрнста Кассирера, Людвига Витгенштейна, Карла Поппера, Льва Шестова, Мартина Бубера и Эммануэля Левинаса; культурологические аспекты теорий Карла Маркса, Зигмунда Фрейда, Эриха Фромма, Вальтера Беньямина, Михаила Гершензона, Дьердя Лукача, Герберта Маркузе, Теодора Адорно и их единомышленников по Франкфуртской школе, структурализм Клода Леви-Строса и Юрия Лотмана, деконструкция Жака Деррида и, тогда еще практически неизвестный в России, неоисторицизм Стивена Гринблатта. Не все имена, упомянутые выше, в равной степени знакомы русскоязычному читателю – и поэтому стоит подчеркнуть, что все эти явления относятся к первому ряду европейской культуры. Относительно чуть менее известных имен скажем, что «поэт Катастрофы» Нелли Закс получила Нобелевскую премию в 1966 году, а Пауль Целан на настоящий момент считается самым значительным европейским поэтом второй половины XX века; что Гертруда Стайн была матерью европейского модернизма, а Сол Беллоу, по мнению многих американских литературоведов, является крупнейшим прозаиком послевоенной Америки. Эдмунд Гуссерль занимает в философии XX века то же место на пересечении всех интеллектуальных путей, которое Кант занимает в веке XIX; а практически неизвестный при жизни Вальтер Беньямин, о котором пойдет речь в следующей главе, превратился на настоящий момент в самого цитируемого теоретика культуры. Наконец, нет такой области в гуманитарных или общественных науках, которая не была бы затронута влиянием структурализма, деконструкции и неоисторицизма.
И поэтому если принять во внимание, что даже для самой лаконичной демонстрации присутствия каждой из двенадцати компонент у каждого из почти сорока названных выше писателей и мыслителей потребуется по крайней мере одна страница, то сумма окажется ненамного меньше мрачных прогнозов моей подруги. Иными словами, в рамках одной главы детальная демонстрация верности изложенных выше взглядов вряд ли возможна. И тем не менее значительную часть сказанного выше легко проверить. Не вдаваясь в подробный анализ всех перечисленных писателей и мыслителей, следует выбрать несколько хорошо известных имен и попытаться применить к ним приведенную выше схему. Затем нужно применить ту же схему к современникам и предшественникам выбранного писателя. Так, выбрав, например, Мандельштама, следует сравнить его с Гумилевым, Ахматовой, Цветаевой и, наконец, с Блоком, Белым и Вячеславом Ивановым. Выбрав Шестова, сравнить его с Соловьевым, Бердяевым, Булгаковым и тем же Вячеславом Ивановым. Выбрав Кафку – сравнить его прозу с прозой Германа Гессе и Томаса Манна или, для полноты исторической перспективы, с романами Гете, едва ли не единственной немецкоязычной прозой XIX века, равновеликой кафкианской. Мой опыт защиты изложенных выше взглядов говорит о том, что нет более простого и надежного способа убедить оппонента, чем подобный мысленный эксперимент. Результаты этих сравнений обычно даже превосходят ожидания.
Наконец, следует сказать несколько слов еще об одном – на этот раз более конкретном – возражении. Внимательный наблюдатель с легкостью заметит, что приблизительно половина имен, упомянутых выше, относится к первой половине двадцатого века. И таким образом, у историка культуры может возникнуть подозрение, что структуры, проанализированные выше, являются общими скорее для литературы и философии эпохи модернизма, нежели еврейско-европейской традиции. Однако это не так; и не только потому, что вторая половина упомянутых имен относится к другим эпохам. Из числа писателей и философов, относящихся к первой половине века, тоже далеко не все были модернистами. Наконец, что же касается собственно модернистов, то мысленный эксперимент, предложенный выше, может развеять последние неясности и подозрения. Действительно, анализируя Т. С. Элиота или Эзру Паунда, Германа Гессе или Томаса Манна, историк культуры не найдет в их текстах ни антиэстетицизма, ни лингвистического скептицизма, ни аллегорического мышления, ни обращенности к проблематике времени в ее экзистенциальном ключе, ни размышлений о скрытых механизмах власти – всего того, без чего тексты Кафки или Беньямина просто немыслимы. Даже у Джойса – автора, пожалуй, наиболее близкого к еврейско-европейской традиции, – бросаются в глаза и вера в эстетическое творчество в качестве абсолютной ценностной категории, и всепроникающий символизм, и относительное равнодушие к проблеме власти, и грандиозный миф циклического времени, спроецированный на повседневность.
Впрочем, не следует переоценивать универсальность приведенной выше схемы. Этой схемой описывается не структура еврейской мысли вообще, во всем ее разнообразии от раннебиблейских времен до современной израильской литературы, а только ограниченный набор явлений, возникших на стыке между еврейским и христианским мирами. Как уже говорилось, речь идет об авторах с двойным культурным гражданством. Более того, не все писатели и мыслители еврейского происхождения, существовавшие в рамках европейских культур, подпадают под эту схему. Так, например, поэзия и проза Пастернака, вне всякого сомнения, не вписываются в приведенную выше схему и поэтому, по всей видимости, не принадлежат к еврейской цивилизации. Наконец, как уже было сказано, не все двенадцать признаков характерны для всех перечисленных культурных явлений. Спиноза выстроил одну из самых стройных метафизических систем; Гейне был, как кажется, равнодушен к проблеме времени; лингвистический скептицизм отсутствует у Пруста и Мандельштама; Брох писал в рамках символической традиции; мистицизм Нелли Закс предполагает, хотя и с серьезными оговорками, имманентность смысла в материальном мире; и, наконец, Бабель, чья «Конармия» несомненно укладывается в приведенную схему, в «Одесских рассказах» занимался сознательной эстетизацией уголовного мира Молдаванки.
С другой стороны, определенное количество нееврейских писателей и философов достаточно хорошо описывается этой схемой. Так, проза и эссеистика позднего Толстого и философия раннего (довоенного) Хайдеггера хорошо в нее укладываются. И тем не менее все это не опровергает приведенную теорию. В своей знаменитой статье «Часы и облака» Карл Поппер очерчивает два полюса предсказуемости явлений: абсолютную предопределенность хода часов и абсолютную случайность форм облаков. На полпути между ними лежит та степень точности, которая доступна гуманитарным наукам; и из невозможности найти универсальные законы культуры не следует утверждение об облакоподобной, ни с чем не сравнимой уникальности каждого культурного явления. Соответственно из неприменимости описанной теории к абсолютно всем европейским евреям не следует ее ошибочность. Любая последовательная попытка применить схему еврейской традиции к другим национальным культурам в Европе может легко в этом убедить. Несмотря на существование нееврейских писателей, укладывающихся в эту схему, и на ее неполную применимость к еврейским, количество еврейско-европейских писателей, укладывающихся (или почти укладывающихся) в эту схему, многократно превышает то небольшое количество нееврейских писателей, которые в той или иной степени подпадают под описанную схему.
*
В заключение осталось сказать, что теория, очерченная выше, ставит перед ученым несколько дополнительных проблем, требующих анализа. Первая – уже упоминавшаяся проблема биографической близости тех или иных писателей к еврейскому миру. И если сама по себе эта близость еще недостаточна для оценки их принадлежности к еврейско-европейской традиции, то она в значительной степени дополняет картину в том случае, если эта принадлежность уже установлена. Так, например, ни страсть Кафки к бродячему идишистскому театру, ни близкая дружба с его труппой, ни его сионизм, ни даже тот факт, что объем тетрадей с упражнениями по ивриту, оставленных им после смерти, был приблизительно равен объему его рукописей, не могут ничего сказать о культурной принадлежности написанных им книг. Но в том случае, если культурная принадлежность книг Кафки уже установлена, эти факты добавляют к общей картине несколько важных штрихов. То же самое относится и к беньяминовскому изучению Каббалы или классическому еврейскому образованию, полученному Спинозой.
Вторая, сходная с первой, проблема – еврейская тематика. Идентифицировав еврейско-европейскую традицию на уровне форм мысли, ученый должен спросить себя, не проявляется ли принадлежность к еврейской мыслительной традиции и на уровне выбора материала? Иными словами, тематические элементы, которые сами по себе недостаточны для решения вопроса о принадлежности или непринадлежности писателя к той или иной традиции, могут стать важными деталями в том случае, когда принадлежность к еврейской мысли уже установлена. Характерным примером такой детали является неоконченный исторический роман Гейне «Рабби из Бахраха», родившийся как не слишком удачная попытка подражания Вальтеру Скотту. И если Вальтер Скотт писал об истории своей страны, истории Британии, Гейне выбирает в качестве своей истории не историю становления немецкой культуры, а историю разгромленной еврейской общины– историю кровавых наветов и погромов. Многочисленные стихотворения, так или иначе связанные с еврейской тематикой, от «Донны Клары» до «Иегуды бен-Галеви», дополняют картину.
Следующая задача, которая оказывается на повестке дня, связана с проверкой применимости теории к культурным явлениям, сходным с теми, на материале которых эта теория была разработана. Здесь в первую очередь речь идет о тех, кого принято называть писателями второго ряда. Впрочем, на мой взгляд, и в этом случае не следует ожидать абсолютной применимости теории; более того, количество отклонений от описанной выше схемы, как кажется, должно вырасти. Писателей второго ряда часто отличает несамостоятельность мысли, ярко выраженная зависимость от предшественников и склонность воспроизводить фигуры речи и мыслительные ходы, уже опробованные в прошлом. И поэтому их книги могут оказаться построенными на многочисленных клише, взятых из практики тех национальных литератур, в рамках которых эти люди писали. Но с другой стороны, подобная несамостоятельность не является универсальной. И следовательно, нет ничего удивительного в том, что не только мои единомышленники, но даже оппоненты часто говорили мне, что моя схема очень хорошо работает для широкого круга писателей второго ряда, от Ильи Эренбурга до Леонида Аронзона, от Стефана Цвейга до Макса Брода. К сожалению, то, что я о них знаю, недостаточно для подтверждения или опровержения подобных утверждений. Аналогичным образом следует попытаться применить вышеуказанную схему к тому, что было создано евреями вне литературы, философии и теории культуры. И здесь в первую очередь речь идет о тех областях гуманитарных и общественных наук, которые примыкают к философии и культурологии: о лингвистике, историографии, социологии и политологии. Научные революции, связанные в социологии с появлением «социологизма» Эмиля Дюркгейма и «формальной социологией» Георга Зиммеля, в историографии – со «школой анналов» Марка Блока, в антропологии – с Марселем Моссом и, наконец, в языкознании с «генеративной лингвистикой» Ноама Хомского, должны стать материалом детального анализа. Историк культуры должен попытаться выделить базисные принципы, лежащие в основе теорий перечисленных ученых, и соотнести их с описанной выше схемой. И несмотря на то, что подобный анализ неизбежно оказывается за рамками этой главы, то, что я знаю об этих ученых, свидетельствует, как мне кажется, в пользу продуктивности этого подхода.
Следующая группа вопросов, которые оказываются на повестке дня, связана с соотношением той традиции в еврейской цивилизации, о которой шла речь выше, с другими традициями: с библейской и постбиблейской литературой, с талмудическими аксиологическими поисками, с высоким Средневековьем, с литературой на идише и, наконец, с современной израильской культурой. Сравнение идишистской и израильской литератур с еврейской традицией в европейской цивилизации представляет особый интерес. Как я уже говорил, последняя является пограничной областью, сложившейся на стыке между еврейским и христианским мирами и расположенной с точки зрения материала на европейской культурной территории. Что же касается литературы на идише и израильской литературы, то они также являются пограничными явлениями на стыке между еврейским и христианским (или постхристианским) мирами, но расположенными на еврейской культурной территории. И потому в силу пограничного характера всех трех традиций можно предположить, что очерченная схема окажется во многом применима и к последним двум. С другой стороны, из-за разницы в культурном расположении возможность простого перенесения теории на другие традиции представляется маловероятной. И действительно, даже беглый взгляд на поэзию Бялика и прозу Агнона убеждает, что, например, антисимволизм не является характерной чертой израильской литературы – по крайней мере, на этапе ее становления.








