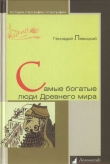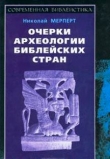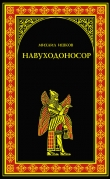Текст книги "Навуходоносор II, царь Вавилонский"
Автор книги: Даниель Арно
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Царь пожелал вновь увеличить население Вавилонии и получить по возможности квалифицированных работников. Когда ремесленников в Вавилон привели из Сиппара, это было лишь временное решение. Сельских рабочих повсюду, вплоть до Сузианы, сдавали внаем храмы. Проблема в некоторой степени потеряла остроту, но не была решена.
После 605 года Навуходоносор стал принуждать селиться в «стране Шумера и Аккада» иудеев, финикийцев, сирийцев и египтян. В 597 году вавилонский царь вывел в свою страну из Иудеи от семи до десяти тысяч жителей (в библейских источниках цифры расходятся); десять лет спустя прибавились еще 829 человек, а в 582/581 году – 745. По другим областям империи цифр у нас нет. В тех документах, которыми мы располагаем, углядеть этих иноплеменников нелегко: они говорили по-арамейски, а значит, писали на непрочных материалах, так что их собственные архивы погибли. О них неизвестно почти ничего – ни кто они были, ни что думали.
Но не все переселялись принудительно – кое-кто ехал по своей воле, привлеченный процветанием Вавилонии. Таковы, безусловно, были специалисты из-за пределов империи: уроженцы Египта, Ионии, Киликии, Иранского нагорья; они, очевидно, соблазнялись высоким жалованьем. Должно быть, и часть выходцев из самой империи, трудившихся рядом с ними, приехала добровольно. Каково было их соотношение? Этого узнать никак нельзя. В действительности иностранцы, откуда бы они ни были родом, делились на две сильно различавшиеся группы: представители первой были прямо связаны с царской властью и жили обособленно во дворце или в военных лагерях, большинство же было рассеяно по всей стране далеко от царских очей.
Дворец использовал иностранных специалистов в очень большом количестве. Им доверяли полностью: охраной у властей на местах служили египетские гвардейцы, а ведь у Вавилонии никогда не было дружественных отношений с их родиной. Больше всего среди переселенцев было плотников и лодочников, что вовсе не случайно: этим мастерам лучше платили, иначе говоря, именно в них Вавилония испытывала самую большую потребность. Те и другие были родом из Средиземноморья: лодочники – главным образом из Тира (таких упомянуто более девяноста), Египта (вдвое меньше), Аскалона, Махазена и Сапона. Небольшие артели плотников (от трех до восьми человек) приходили из Финикии (Арвада и Библоса) и Ионии. Где они работали – на стройках или на верфях, – источники не считают нужным указывать. Из Иудеи были приведены «кузнецы» и «скобари». Как Иеремия, так и автор Четвертой книги Царств понимали: победителей интересовали рабочие, умевшие обращаться с металлом; в Вавилонии его не выплавляли, и у местных жителей было мало случаев упражняться в этом искусстве. Аскалон давал певчих, из Египта пришел обезьяний вожатый, лошадей же доверяли конюхам из Мидии.
Особую категорию иностранцев составляли греческие наемники на службе Навуходоносора. В том, что они были, нет ничего удивительного: солдаты удачи поступали на службу к тому, кто больше платил. В то же самое время их использовали и фараоны. Что-либо сказать о них нам очень трудно: армия Навуходоносора в истории VI века играла важнейшую роль, но тексты не сообщают про нее ни единым намеком. Тем более неизвестен процент ионийцев в общем числе воинов. Мы не можем даже узнать, находились ли они по окончании кампании на месте – в одном из гарнизонов империи, размещались на квартирах в самой Вавилонии или увольнялись. Так или иначе, в бою именно они были главной силой. Свидетельствует о том поэт Алкей Митиленский, который сочинил стихи в честь своего брата Антименида:
Главным подвигом Антименида стала победа в Аскалоне над великаном,
Чей единый был дрот
Мерою пять локтей.
Навуходоносор не просто брал невавилонян к себе на службу, гражданскую или военную. Царь изменил состав населения Вавилонии, расселяя среди него жителей империи. Впрочем, иностранцы были уже хорошо знакомы с местными жителями и легко приживались среди них. Уже много веков на юге страны обитали полукочевые племена; во времена Навуходоносора они стали почти совсем оседлыми; эти арабы и халдеи приняли активное участие в войне против ассирийской власти. Но с VI века в Вавилонии селились и вновь прибывшие чужеземцы. Очевидно, их было много, но мы лишь по именам можем признать их отдельных представителей. Впрочем, некоторые для удобства меняли и имена, так что на деле их было больше, чем представляется по документам.
В Вавилонии жили и компактные группы пришельцев; Навуходоносор не видел в их существовании ничего дурного. Эти люди сохраняли свой изначальный юридический статус и оставались свободными, если были таковыми до прибытия в Месопотамию. Разумеется, они сохраняли также свой язык, обычаи, письменность и религию. Так, арабы в Вавилонии по-прежнему пользовались алфавитом, принятым у них в стране – в Ятрибе и к югу от Теймы; то же можно сказать и о финикийцах. Однако, несомненно, всем им для сношения с внешним миром служил арамейский язык. Естественно, они заводили новые поселения рядом с вавилонскими деревнями. Там они вели тот же образ жизни, что и местные уроженцы, и те не проявляли к ним никакой враждебности. Не конфликтовали с пришельцами и образованные люди. Скажем, писцы ставили перед именами иностранных богов (например, египетских Амона, Гора, Исиды) значок, отмечающий бога в клинописи, как будто речь шла о их собственных божествах, то есть признавали их пусть чужими, но всё же богами.
Самыми заметными народностями Вавилонии при Навуходоносоре были четыре: евреи, арабы, египтяне и финикийцы. Среди их представителей были ремесленники, но большинство занималось земледелием. Государь соблаговолял выделять переселенцам самые «благодатные» области – по крайней мере так утверждает предание. Больше всего царь селил их вокруг Ниппура, где они восстановили поля, разоренные ассиро-вавилонской войной при жизни предыдущего поколения. Но мы встречаем их также и на севере Вавилонии, и в Уре, и в Уруке, причем основанные ими поселки получали названия на их родных языках.
Эти общины были официально признаны и имели самоуправление из «советов» или «старейшин». Выбираемый их членами представитель служил посредником между соотечественниками и вавилонской властью, защищая их интересы.
Таким образом, демографическую проблему удалось решить хотя бы отчасти. Но, кроме того, подданные империи должны были поставлять средства существования царю, дворцу и всем коренным и новым жителям Нижнего Двуречья.
Собственные доходы государства были не очень велики. Прежде всего царские вотчины составляли довольно небольшую долю сельскохозяйственных угодий и не пользовались никакими привилегиями: у них был тот же статус, что у земель храмовых или частных. Царь сдавал их в аренду и в этом смысле вел себя так же, как любое частное лицо; он торговал и давал деньги в рост, не освобождая себя от соблюдения общих правил. При дворе жил начальник царских купцов; судя по имени (Ганун), он был финикийцем. Несомненно, Навуходоносор пользовался его услугами, чтобы вести торговлю на средиземноморском побережье; тем самым он вступал в конкуренцию с частными дельцами.
С вавилонян царь получал налог – «десятину». Несмотря на ясность происхождения названия, налог, возможно, не исчислялся именно этим процентом с дохода. Он взимался с продуктов земледелия и скотоводства, но не касался финансовых сделок. Им облагались физические лица и храмы. Пошлины – таможенные, мостовые и ввозные (на водных путях) – также поступали к царю если не прямо, то косвенно. На самом деле мы не знаем о вавилонской налоговой системе почти ничего; есть лишь сведения, как определялся размер налога: незадолго до жатвы зерновых или сбора фиников по селам ездила комиссия из представителей заинтересованных сторон и оценивала будущие поступления. Это было удобно и сборщикам, и плательщикам; так же определялись отношения между частными собственниками (в том числе храмовым начальством) и работниками. Но вдобавок вавилонский государь имел право использовать рабочее время своих подданных: то была трудовая повинность. Существовали также некоторые особые обязательства перед ним: так, «Дом неба»[31]31
Эанна (шумер.).
[Закрыть] в Уруке, наряду с другими поставщиками, отправлял снедь к царскому столу; происхождение этой обязанности неизвестно. Царь, со своей стороны, платил десятину храмам и был их неутомимым благодетелем. Для кого в конечном счете это было более прибыльно – для государства или жрецов? Из документов создается впечатление, что выгоды от таких взаимных обязательств получали именно религиозные служители; но мы не располагаем сводными статистическими данными, чтобы утверждать это однозначно.
Большую долю средств доставляла вавилонской власти империя. В «западных землях», над которыми Навуходоносор осуществлял политическое господство, он видел только источник доходов. Он получал их, не давая взамен ничего. Впрочем, одно доброе дело для них он всё же делал: при жизни двух поколений центральная вавилонская власть обеспечивала безопасность на дорогах; таким образом она способствовала становлению обширного рынка от Загроса и Сузианы до Средиземного моря с востока на запад и от Тавра до Аравийской пустыни и острова Бахрейн с севера на юг.
Следует четко различать военную добычу и дань. Та и другая собирались в одном месте. Но первая символически отмечала одержанную победу и, кроме того, безотлагательно возмещала расходы, понесенные во время кампании. Надо сказать, что взимание добычи с побежденного было принято повсеместно. Вавилоняне отправили в свою столицу из Иудеи сокровища храма Яхве и дворца Иехонии. Разграблению подвергся Аскалон, как и Кедар в Аравии. Нет сомнения (хотя источники ничего не говорят об этом), что победители подобрали египетское оружие, брошенное на Хаматской равнине в 604 году. Забирать можно было всё.
Когда царь Вавилонский со свитой и армией путешествовал по землям империи, все участники вояжа питались за счет местных жителей, благодаря чему разъезды обходились намного дешевле; таким образом, несколько месяцев в году империя кормила его. Это условие соблюдалось, когда Навуходоносор вступил в Тир; те же порядки действовали во время войн, которые он вел до самой египетской границы.
Военная добыча по природе своей была экстраординарной. А вот на дань в качестве источника пополнения казны Навуходоносор мог рассчитывать: это по определению был регулярный доход. Ее должны были платить все цари территорий, входивших в империю. Ежегодно отправляя дань в Вавилон, они, во-первых, исполняли свои финансовые обязательства, во-вторых, публично свидетельствовали верность Навуходоносору. В своей последней надписи вавилонский владыка объявляет о желании взять «дань тяжкую от царей вселенной, правящих над всеми племенами». И в самом деле государь – по крайней мере в начале своего царствования – лично взимал дань по империи, получая вместе с ней и знаки почтения от данников; так было в Сирии в первый год его правления. Вавилонская власть строго требовала регулярной уплаты, означавшей, что дела на присоединенных территориях в порядке. При недоимке виновный оставался должен всю сумму дани целиком.
Общий объем дани нам неизвестен. Тяжка или легка она была для жителей империи? Мы не в состоянии подсчитать бюджет царств, подчинявшихся вавилонянам, а значит, и абсолютную величину его части, взимаемой в качестве дани. В любом случае налагалась она по одному простому правилу: вавилоняне требовали привозить всяческие товары, которые в их стране не производились, зато поставлялись теми или иными областями империи. Их не интересовали скот и продукты земледелия (кроме вина) – всё это было и в Вавилонии; если вавилоняне их и брали, то для потребления на месте.
Писцы Навуходоносора делили страну на три большие части: «море», «горы» и «страны» (надо понимать – равнины). Каждая из них давала Вавилонии нечто свое. «Данью моря» была, несомненно, рыба; вместе с ней, возможно, присылались и кораллы, которые использовались в прикладном искусстве, фармакологии и магических ритуалах. Из Загроса (впрочем, точно это неизвестно) поступало «горное масло»; что оно собой представляло, не уточнялось. Можно думать, что это масло было более качественным благодаря тому, что горная вода лучше вавилонской, вечно заиленной[32]32
Более вероятно, что речь идет о нефти, которая добывалась в горах Загроса и использовалась для заправки глиняных светильников, а также в медицине. По достаточно обоснованным предположениям ученых, слово «нефть» происходит от аккадского «напту», что означает «горючий».
[Закрыть]. Винодельческих районов мы знаем восемь. Все они находились в предгорьях Загроса и Тавра, от Диялы на юге до Арпада на севере и еще дальше, в Средиземноморской Сирии. Из долины Среднего Евфрата прибывало «сладкое вино». К сожалению, вавилоняне не объясняли, какой именно напиток они имели в виду.
Остальная империя поставляла золото, серебро и «камни дорогой цены и очень большой ценности». То был не строительный камень – вавилоняне сооружали свои постройки из глиняных кирпичей и тем довольствовались. Но Навуходоносору был нужен материал для изготовления статуй, эталонов веса, печатей, украшений (например, ожерелий): гематит, корналин[33]33
Кррналин – полудрагоценный камень, разновидность халцедона оранжево-красных оттенков. Известен также под названиями карнеол, сардер, сердолик. (Прим. ред.)
[Закрыть], хрусталь и т. п. Лазурит в этот список не входит, а между тем то был самый любимый камень вавилонян; но его привозили издалека – с территории нынешнего Афганистана, лежащей за их географическим горизонтом, и прежде чем к ним попасть, он проходил через целый ряд неизвестных им посредников. Вавилонянам приходилось покупать его; так же приобретали они железо в Киликии и квасцы в Египте. Последние служили для дубления, окраски тканей, а иногда их применяли и фармацевты.
Особой статьей была кедровая древесина. На азиатском Ближнем Востоке к этому дереву питали настоящую страсть, живую и постоянную, по меньшей мере с конца III тысячелетия. Ни одно сколько-нибудь важное здание – дворец или большой храм – без использования кедрового дерева возвести было невозможно. Для остальных построек годились тополь и олива в западных областях, а в Нижнем Междуречье применялись пальмовые стволы.
Но кедр не просто давал древесину превосходного качества. Это дерево восхищало людей своим видом; в вавилонской символике его рубка считалась, с одной стороны, дурным делом, но вместе с тем – героическим подвигом. Начиная со II тысячелетия эту мысль разнес по странам Средиземноморья «Эпос о Гильгамеше». В четвертой песне поэмы ее заглавный герой со спутником решают пойти в «Лес кедровый», чтобы стяжать «вечную славу». Лес сторожило некое полубожественное существо[34]34
Хумбаба.
[Закрыть]; с виду это было чудовище, но сердце его было чистым и праведным. Когда два искателя приключений стали рубить деревья единого удальства ради, страж попытался удержать их от такого нечестивого поступка. Он был убит, но Гильгамеша поразила кара богов: с тех пор его преследовала неудача за неудачей. Чтобы избавиться от неприятной двусмысленности и оправдать рубку кедров, вавилоняне настаивали, что их древесина предназначена для самых благородных построек, и в качестве неоспоримого довода ссылались на высокие помыслы: лес приносился в жертву славе страны, а еще того лучше – богов.
Так, Навуходоносор в надписи из Вади-Брисса утверждает, что он «собственными руками срубил могучие кедры, леса гор Ливанских», что должно было произвести сильное впечатление на народы империи. Но в то же время царь руководствовался в своих поступках и практическими мотивами: он хотел облегчить доступ к местам добычи леса. Навуходоносор так описал это достижение гражданских инженеров – единственное предприятие, осуществленное им не в Вавилонии: «Я раздвинул крепкие горы и разбил скалы, чтобы открыть проходы: устроил дорогу для кедров». За этой похвальбой, возможно, стояло решение реальной проблемы. Кедры росли на западном горном хребте, от Амануса до северных окрестностей Тира. Эти места были легкодоступны, и, насколько нам известно, в VI веке леса еще не были истреблены даже на небольших высотах. Навуходоносор думал прежде всего об экономике и политике. Вырубка хвойных деревьев до того была делом приморских городов, в первую очередь Тира. Получив возможность самому посылать лесорубов на восточные склоны гор, Навуходоносор переставал зависеть от них. Кто конкретно руководил порубками? Употребляемые в надписях выражения позволяют предполагать, что эти работы могли быть организованы непосредственно центральной властью, а иногда поставки древесины осуществлялись местными царями. Но обе системы могли существовать одновременно: горцы и лесорубы, подчиненные царской администрации, могли работать на разных делянках. Для больших построек царствования Навуходоносора (а позднее и во времена Набонида) требовалось много бревен. Вавилонские архитекторы не использовали для поддержки потолка столбов или колонн, так что балки шли от стены до стены, и именно от их длины зависела площадь помещения. Набонид утверждал, что на перекрытия храма бога-солнца в Сиппаре употребил 1 015 кедров. Но в другом месте он говорил об использовании пяти тысяч бревен, а еще в одной надписи упоминал даже шесть тысяч стволов. Эти сведения остаются единичными, они явно не слишком точны, но всё же дают примерное представление о порядке цифр. Жизнь вавилонской деревни к VI веку немногим изменилась с конца неолита: в технике не происходило заметного прогресса. Лошадей на территориях «Благодатного полумесяца» стали использовать в начале II тысячелетия, но применяли в основном в войске – для колесниц и кавалерии. Лишь в царствование Ашшурбанипала у крестьян появился новый рабочий скот – одногорбые верблюды. До тех пор они обитали лишь на Аравийском полуострове; царь решил ввезти их в Ассирию. Оттуда верблюды стали распространяться до устьев Тигра и Евфрата, но, кажется, довольно медленно. Единственным механизмом, облегчавшим тяжелейший труд подъема воды для полива, оставался шадуф – рычаг с ведром на одном конце и противовесом на другом, подвижно укрепленный на столбе, изготовленном из ствола пальмы. К счастью, большинство каналов было устроено в насыпях выше уровня почвы: для того чтобы вода потекла на поля, достаточно было открыть заслонку. Впрочем, понемногу всё шире распространялись металлы: в начале II тысячелетия – бронза, в конце – железо, но оно даже при Навуходоносоре использовалось мало. Во всех своих вавилонских постройках он, судя по надписям, применил железо лишь один раз – для изготовления решетки, которая закрывала вход в канал, называвшийся «Истинно приносящий процветание»[35]35
Паллукат (аккад.).
[Закрыть], отведенный от Евфрата (благодаря ей никто не мог проникнуть в канал и добраться от реки до города). Скромный масштаб применения металлов порождал парадоксальную ситуацию: они привозились издалека – из Анатолии, с Кипра, из Египта, а между тем стоили в Вавилонии довольно дешево, поскольку спрос на них был невелик. В текстах всегда специально указывается, что такое-то орудие изготовлено из железа. Это указание имеет смысл лишь в том случае, если все остальные железными не были. Но даже при невысокой цене железных сошников для мотыг только богатые землевладельцы снаряжали ими своих рабочих. Остальные пользовались примитивными инструментами из пальмовых стволов (дерева на вавилонской равнине почти не было); единственным аргументом в пользу такого инвентаря была его большая дешевизна.
Освоение залежных земель в VI веке велось без общего плана и, во всяком случае, оставалось инициативой землевладельцев. Они получали от арендаторов треть урожая. Порядок платы за использование заброшенных земель был другой: в первый год арендатор не платил ничего, во второй – условленную часть, а всю сумму по контракту начинал платить лишь на третий год. Проводило ли и государство на своих землях ту же политику? Никаких подтверждений этому мы не имеем.
Питались вавилоняне так же, как их предки, а может быть, даже несколько хуже: площади, засеянные полбой, уменьшались в пользу площадей под ячмень, который лучше переносит засоленную почву. Прежде всего людям служила финиковая пальма. В пищу шли горох, чеснок, кресс-салат и кунжутное масло. Вавилоняне употребляли рыбу, птицу и мелких грызунов, иногда – мясо домашних животных. Как бы то ни было, все жители Месопотамии существовали примерно в одинаковых условиях, и образ их жизни не сильно разнился. Большие и малые дома не отличались по архитектуре: разным было только число помещений, но не их декор, которого почти и не было. Все они строились исключительно из глиняных кирпичей, а покрывались тростниковыми циновками.
Установление мира в Вавилонии и по всей империи, вне всякого сомнения, благоприятствовало развитию экономики; очень сомнительно, чтобы Навуходоносор сознательно этого добивался, но факт налицо. Он удостоверяется числом обнаруженных экономических и юридических текстов (контракты и сделки с недвижимостью обязательно фиксировались письменно). Сейчас известно около 1 800 документов этого рода, относящихся к временам Навуходоносора; это вдвое превышает число подобных актов, дошедших до нас от царствования его отца. Не говоря уже о том, что продолжительность их пребывания на престоле была разной, переменилась также внутренняя и внешняя обстановка. И всё же количество сохранившихся глиняных табличек довольно показательно, как и тот факт, что они связаны со всеми городами Вавилонии. Очевидно, подобные тексты записывались и на коже; но в какой пропорции использовались эти материалы для письма, мы сегодня не представляем.
Процветание распространялось на всё общество. Размеры состояний не были одинаковыми, но наследство, которое целиком оставалось в семье, у самых богатых и самых бедных различалось лишь количественно, а не качественно. Из поколения в поколение богатство то росло, то иссякало. У одного завещателя наследство с 575 до 520 года увеличилось: перед смертью он владел тремя домами, тремя участками для застройки, полями и скотом. То был всего лишь зажиточный владелец недвижимости: он богател, продавая, покупая и обменивая ее. Он ссужал деньгами и торговые компании, не вступая в них сам, но специально денежным оборотом не занимался – тогда не знали такой профессии, как банкир. Лишь ради важных клиентов он иногда пускал капитал в оборот. Так поступали многие его современники, хотя и в более скромных масштабах – по мере своих возможностей.
Нововведением VI века были коммандитные товарищества, участие в которых позволяло замужним женщинам размещать свои средства и участвовать в делах. Вообще говоря, они поощряли предприимчивость; в них вкладывались подчас значительные суммы, эквивалентные стоимости нескольких килограммов серебра. Вкладчики получали большую прибыль – от 20 до 50 процентов. Иногда такие товарищества существовали несколько десятков лет. Они инвестировали средства в местное производство: пивоварение, изготовление пальмового вина, сельское хозяйство, скотоводство; главное, эти компании являлись очень удобной юридической рамкой для торговли: у купцов, вступивших в товарищество, были деньги, чтобы вести дела по всей Вавилонии, а самые предприимчивые распространяли поле своей деятельности на весь Ближний Восток.
Обмен между разными областями империи, а также с зарубежными странами был, без всякого сомнения, очень скромен как по экономическому размаху, так и по социальной значимости. В распоряжении государства уже и так была иноземная продукция, которую оно получало в виде военной добычи (от случая к случаю) и дани (достаточно регулярно). С дальней торговлей имели дело – и в качестве купцов, и в качестве клиентов – лишь немногие частные лица. Основную массу жителей Двуречья она не интересовала; к примеру, повседневную одежду ткали женщины в своих домах. Кругозор вавилонских крестьян был неширок, внешний мир ничего для них не значил.
С тех давних пор, как «Благодатный полумесяц» объединили ассирийцы, основные внешнеторговые пути не менялись. При Навуходоносоре независимые вавилонские купцы частично импортировали то, что царь велел доставлять для себя. В Египте они закупали квасцы, лен-сырец и льняные ткани, папирус, слоновую кость. В Сирию и Финикию отправлялись за синей эмалью (дешевой заменой лазурита), пурпурными одеждами (славились тирские, с разноцветной вышивкой), деревом; с тамошними медом и вином конкурировали хмельные напитки из восточных и северных предгорий. Кипр продавал медь – так было всегда, с начала II тысячелетия. Кипрское железо конкурировало с киликийским и добытым в Ливанских горах. Для производства бронзы требовалось олово; откуда оно привозилось в ту пору, точно неизвестно; возможно, с Иранского нагорья или из Восточной Анатолии. Торговля с Западной Аравией началась незадолго до описываемой эпохи. Свидетельства есть только о связях между Уруком и Теймой; кажется, дорога, проходившая по северу Аравийского полуострова, была очень оживленной. Караваны везли в Месопотамию серебро. При Навуходоносоре еще не знали ладана; он получил распространение лишь поколение спустя и стал главным богатством Аравии. Для обрядовых курений пользовались обычно кедровой, сосновой, еловой или можжевеловой смолой, которую собирали в лесах на севере и западе империи.
Все привозные товары, попадавшие на рынок, как и дань, взимавшаяся царем, были предметами роскоши. В Вавилонии их или вовсе не было, как слоновой кости, или они были малодоступны, как лен. Объем импорта при Навуходоносоре мы оценить не можем, так как не располагаем источниками. Немногим позже, в середине столетия, некий купец привозил в Ур ежегодно примерно 300 килограммов меди, 148 килограммов железа, 14 килограммов олова, 115 килограммов квасцов и 25 килограммов лазурита. Добавим сюда еще два «кувшина» красок неизвестного объема и около 150 литров смолы. Цифры указаны точные, но относиться к ним надо всё же с осторожностью: они даны только за два года деятельности, а каковы были объемы поставок до и после столь краткого отрезка времени? Обычным или исключительным был масштаб деятельности этого купца? Какими бы ни были ответы, о том, как вавилоняне занимались большой торговлей, нам не известно вообще ничего. Однако о том, какие иноземные товары чаще всего продавались в «стране» и каковы были их доли в структуре импорта, мы всё-таки можем судить.
Вавилонское общество не любило потрясений; при Навуходоносоре оно их и не знало. Его стабильность ничем не нарушалась. В конечном счете причиной тому была, видимо, его однородность. По крайней мере именно так клинописные тексты изображают существование оседлых жителей. Как строилась жизнь полукочевых племен, мы совсем не представляем, если только их культура не была общей с тем народом, среди которого они жили (они поселились там слишком давно, чтобы ничему не научиться у соседей). Напряженность между одними и другими снималась в большой мере благодаря представлениям вавилонян о человеческой природе. Они всегда видели в ней две стороны: рабочую силу и собственно человеческую личность. Рабочая сила ценилась в соответствии с рыночными законами спроса и предложения: если ее было много, она теряла цену, если же на рынке ее становилось меньше, она в цене росла; так оно и было при Навуходоносоре. Человеческая личность могла быть слабой, но оставалась при этом неустранимой. Соотношение этих двух частей человеческой природы было различным у разных людей и определяло их положение в обществе. На вершине иерархии находился государь: его человеческое достоинство достигало наивысшей степени; бедняк, стоявший внизу, оставался личностью, но ценили его главным образом по тому, какой он работник. Законы в Месопотамии не предполагали никакого деления жителей на классы, касты и тому подобные социальные группы. Жизненные удачи и неудачи зависели от самого человека. Ремесленники не объединялись в какие-либо профессиональные кланы – разве что представители каждой профессии прибегали к защите своего покровителя – бога или богини.
Вавилонянам казалось нелепостью, если человек жил обособленно от себе подобных. Каждый находился в составе некоторой общности – прежде всего семьи, над которой стояли село или городской квартал. В этих пределах и проходила человеческая жизнь. Как гласило изречение, «кровь есть кровь, другой есть другой, а что снаружи, то снаружи». Такое положение вещей существенно ограничивало возможность внешнего воздействия, даже со стороны самого государя, несмотря на весь его личный или официальный авторитет. Если всё шло своим чередом, вавилонянин повиновался только обычаю, который он унаследовал от отцов, дедов и прадедов. Обычай был неоспорим и управлял всей жизнью людей от рождения до смерти: не только такими делами, которые мы бы сочли подлежащими правовому регулированию (собственность и ее переход из рук в руки), но и распределением воды из каналов, отношениями мужчин и женщин, родителей и детей. Поэтому общество VI века было весьма открытым. Семейная переписка показывает нам примеры свободных и непринужденных отношений – как ссор и перебранок, так и семейной любви.
Всякий человек в Вавилонии – как, впрочем, на территории всего «Благодатного полумесяца» – относился к одной из двух социальных категорий – являлся либо свободным, либо рабом. Его положение не зависело от того, был он местным уроженцем или мигрантом. Свободные – как местные, так и переселенцы, – как правило, несли трудовую повинность; от нее освобождались только жители больших городов. Но хотя статус обеих групп был одинаков, различие между ними всё же существовало: невавилоняне, естественно, не участвовали в выборных собраниях и не исполняли никаких обязанностей, связанных с политикой.
Зато противоположность между рабским состоянием и свободой приводит современного человека в недоумение. «Человек – тень бога, раб – тень человека», – говорили в Вавилоне. Однако действительность была гораздо сложнее, и сегодня мы должны отказаться от надежды понять, как было на самом деле.
Прежде всего обычное словоупотребление приводит к некоторым затруднениям. Термин, который мы за неимением лучшего переводим как «раб», на деле означал всякое отношение подчинения между двумя личностями, кем бы они ни были: царь покорялся богу, автор письма из вежливости звал себя «рабом» адресата, всякий низший – всякого высшего; это же слово использовалось как самое обиходное ругательство. Таким образом, каждый являлся чьим-то «рабом»; человек неизбежно был «рабом» начальника общины, в которой жил. Итак, вавилонское общество было устроено в виде пирамиды: от самого последнего его члена до государя каждый кому-то приходился «господином», а кому-то – «рабом».
Такая неопределенность была донельзя обременительной. В VI веке писцы попытались преодолеть ее: для обозначения лица, лишенного части прав свободного, они использовали прилагательное «ничтожный». Эти попытки продолжались недолго: ведь для закрепления этой формулы должно было существовать общепринятое понимание того, что есть рабство. Но его не было, поэтому путаница никуда не исчезла.