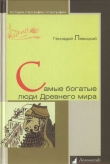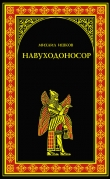Текст книги "Навуходоносор II, царь Вавилонский"
Автор книги: Даниель Арно
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
Глава 25 Четвертой книги Царств посвящает несколько строк судьбе Седекии и его близких после пленения. И тут поведение победителя нам объясняют вавилонские обычаи. Царь Иудеи имел право быть судимым перед лицом Навуходоносора, но вместе с тем (для вавилонян это само собой разумелось) перед лицом бога-солнца. Этот бог был особенно близок царю Вавилона. Среди многих эпитетов, дававшихся ему, главными были: «судья великий неба и земли, судья черноголовых, в ничто обращающий злых»; его «сеть превеликая» всегда была поставлена, чтобы улавливать нарушивших слово, как провозглашалось в посвященном ему гимне. Этот образ был известен и Иезекиилю.
Седекия был признан виновным; первым наказанием ему было – увидеть избиение своих сыновей. Этот акт не был вызван жестокостью и мстительностью победителя. Он приводил в действие традиционное проклятие, падавшее на клятвопреступников: их дети навеки «убирались» или «искоренялись» с лица земли. Последствия такого наказания были очевидными и страшными. Эта катастрофа прерывала культ мертвых; виновный знал, что после его ухода из жизни никто не позаботится о нем, да и все покойники в его семье будут оставлены без почитания. То была непоправимая беда. Таким образом, иудейских царевичей казнили не за собственное клятвопреступление, поскольку виновными в нем не сочли; их смерть была необходимым орудием кары. Сравним с этим жестоким поступком мягкость Навуходоносора по отношению к царевнам: им позволили остаться в Иудее и жить в окружении правителя. Седекии наглядно продемонстрировали, что бедствие, обрушившееся на его голову, стало заслуженным наказанием, последствием поднятого им самим мятежа. Только после этого ему выкололи глаза: он был не достоин более видеть свет бога-солнца, его грех против этого божества был непростителен. Должностных лиц, замешанных в мятеже, тоже казнили, но уже не в присутствии Седекии; в этом случае царь Вавилонский наказывал их самих, а не царя Иудейского.
Экзекуция была публичной. Так, в 597 году Иехонии сохранили жизнь, но отправили в Вавилон в оковах. Не важно, верны ли эти сведения – они в любом случае показательны. Дело было, конечно, не в том, чтобы помешать пленнику убежать; куда бы он мог спрятаться? Но по пути до Вавилона каждый встречный мог видеть, что пленник хотя и остался в живых, но всё же признан виновным и наказан соответственно своей вине.
Образ царя с выколотыми глазами служил для острастки подданных. Отныне Седекия носил на себе свидетельство наказания и милости Навуходоносора. Он до смерти оставался символом неотвратимости наказания, вроде тех отрубленных голов злодеев, что по традиции возили из деревни в деревню для вразумления вавилонян. В эпизоде со свергнутым иудейским царем «публикой», которую вразумляли, а на всякий случай и запугивали, были так называемые «сильные» – придворные из царского окружения; именно их вавилонский монарх и желал отвратить от гибельного пути восстания против его власти. В Ассирии до VII века всех приходивших во дворец должны были призывать к послушанию находившиеся там барельефы: изображения сопровождались надписями, обращенными к гораздо более узкому кругу лиц – писцам и чиновникам; но ведь именно от этих людей более всего и зависело, как пойдут дела. Вавилоняне на своих публичных зданиях рельефов не использовали. Их символическое место, так сказать, и занял Седекия. Впрочем, господа остались довольны – он исполнил свою роль. Наказание Навуходоносора было исчерпано с кончиной виновного – после смерти он получил право на обычное погребение. Вавилонский царь мог бы и отказать ему в похоронах, превратив тем самым в призрака, вечно скитающегося по земле, но милостиво не стал этого делать.
Как Навуходоносор со своими советниками представлял себе устройство империи, в доступных нам текстах можно разглядеть достаточно ясно. Однако что думали о ней ее подданные – «сильные» и простые жители, – мы совершенно не знаем; до нас не дошло никаких документов, да и были ли они? «Благодатный полумесяц» принял вавилонское владычество; он оставался спокоен, когда Навуходоносор взошел на престол; последовавшая после его смерти частая смена царей в Вавилоне также не стала поводом для волнений в империи, и такое положение сохранялось до поражения Набонида в 539 году. Локальные кризисы в Финикии и Иудее были сильными, но, очевидно, не нашли отголосков в других покоренных царствах.
Но что знали племена о том, что такое империя? Навуходоносор специально знакомил всех, кто находился под ее властью, с ее символом, и этим символом был он сам. Он неутомимо разъезжал по всем областям между Евфратом и Средиземным морем. Конечно, иногда эти поездки были вызваны военной необходимостью. Но и не имея такой причины, вавилонский царь понимал, насколько важно перемещаться по империи из столицы в столицу; он намеревался сделать такие вояжи ежегодными. Согласно Вавилонской хронике, «он удалился <из Вавилонии> во славе своей». Царь совершал мирные торжественные путешествия в качестве верховного монарха, сопровождаемый двором и частью войска. Так политическая реальность империи становилась видна всем. Но являться перед всеми подданными физически было возможно лишь время от времени. Поэтому Навуходоносор велел изваять рельефы на скалах, чтобы они навеки засвидетельствовали его могущество. Эта традиция восходила к III тысячелетию, в VII веке ее соблюдали и ассирийцы, так что тут царь не выдумал ничего нового.
Нетленными памятниками «пастырства» вавилонского царя над азиатским континентом стали рельефы в Нахр-эль-Кельбе и Вади-Брисса.
Утесы к северу и югу от нынешней «Собачьей дороги» (Нахр-эль-Кельб) в Ливане неоднократно служили царям в этом качестве: до Навуходоносора там были выбиты три рельефа фараона Рамзеса II и шесть, приписываемых ассирийским царям (последний из них – Асархаддон).
Навуходоносор приказал поместить свое изображение на северной стене; выбора у него не было – весь южный утес уже был покрыт изображениями и надписями его предшественников. Но место оказалось очень удачным: вавилонский царь символично помещен лицом к лицу с побежденными врагами – египетским фараоном (бывшим господином Азии, откуда Навуходоносор изгнал его) и ассирийцами, уничтоженными его отцом. Очень оживленная дорога, связывавшая Бейрут с Библосом, в то время шла, нависая над морем, у самого подножия скал, так что рельефы были открыты для обозрения всем путникам.
Место, ныне называемое Вади-Брисса, было выбрано впервые. Эта узкая долина, протянувшаяся с запада на восток, связывает долину Верхнего Оронта со средиземноморским побережьем в районе современного ливанского Триполи. Проезжавший по ней в древности путник не мог не заметить две ниши, расположенные друг напротив друга, практически одного размера: около трех метров в высоту и пяти с половиной метров в ширину. Площади рельефов Нахр-эль-Кельба больше: их высота достигала четырех метров, ширины мы сейчас не знаем.
Царь везде изображен в одиночку. Напротив него в обеих композициях помещен лев в прыжке. Этот мотив в то время был ничуть не оригинален (в Вавилонии он встречается с середины II тысячелетия), но формы и композиция принадлежат VI веку. То, что хищник олицетворяет собой врагов Вавилона (возможно, непосредственно фараона), ясно само собой.
В Нахр-эль-Кельбе один из рельефов изображает царя, рубящего кедр; в Вади-Брисса он также стоит перед деревом, но какой оно породы, разобрать теперь нельзя. Законно ли соотнесение обеих сцен? В таком случае их можно рассматривать в качестве двух последовательных стадий царской рубки леса; возможно, Навуходоносор действительно во время некоей религиозной церемонии подрубал дерево, а затем его сменяли лесорубы. Описания этого ритуала не существует; но изображенное действие царя настолько торжественно, что едва ли оно не сопровождалось теми или иными богослужебными обрядами.
Тексты пояснительных надписей почти наверняка совпадали, но теперь, когда превратности погоды сильно разрушили скалу, судить об этом трудно. Надписи сделаны на вавилонском языке, но в обоих местах выбиты два параллельных варианта: в первом использована новая форма клинописи, во втором – архаическая. Одновременное применение двух шрифтов якобы разного времени имело очевидную цель: показать, что действия вавилонского царя связаны как с традицией, так и с современностью; причем, заметим, и традиция, и современность соотнесены только с вавилонской историей. Надпись, таким образом, приобретала вневременной характер; тексты Вади-Брисса и Нахр-эль-Кельба предназначались для созерцания почти в той же мере, что и для чтения.
Все четыре надписи очень мало говорят о событиях вне Вавилонии: подвигам царя на остальной территории империи посвящен всего лишь один столбец из десяти, и рассказ о них довольно схематичен. Зато много раз встречаются упоминания (впрочем, заимствованные из местных источников) о религиозных и воинских трудах в Вавилоне и Барсиппе, а также перечисляются иные стольные города. В частности, Навуходоносор сообщает о строительстве священных ладей богов Мардука и Набу, излагает подробности жертвоприношений в главных храмах. В заключение он повествует о восстановлении отцовского дворца.
Очень скромное место отведено сюжету о хозяйственном освоении Ливанских гор. Но и тут главным предметом царской заботы выступает отправка кедров в Вавилон для украшения столицы империи. Такой перекос удивляет; но он вовсе не означает, что Навуходоносор не ценил собственных успехов. Царь (или составитель надписи, кто бы он ни был) явно подражает официальным надписям ассирийцев, а те любили предварять свое повествование рассказом – часто весьма многословным – о более ранних событиях, в то время как его центральная, с нашей точки зрения, часть излагалась кратко и сухо. Эта диспропорция не имела никакого значения, поскольку, хотя это сейчас и кажется странным, важность события тогда не измерялась числом строк, посвященных ему.
Рельефы и тексты высекались именно для всей империи. Их вдохновитель прямо говорит об этом: памятники на скалах изваяны затем, чтобы «ни один <чужеземец> не пришел угнетать» местные племена. Тем не менее взгляд на подвластные народы – явно вавилонский; а вавилоняне хотя, спору нет, были милостивы к подданным, но не считали необходимым говорить на их манер. Свою речь они обращали прежде всего к соотечественникам – жителям Месопотамии. Ведь если бы Навуходоносор имел намерение адресовать свои слова более широкой аудитории – всем подданным своей империи, умевшим читать, то он прибегнул бы в надписях к арамейскому языку.
Несмотря на то что в империи случались кровавые вооруженные столкновения, само ее существование, несомненно, благоприятствовало развитию экономики «Благодатного полумесяца»; мир позволял вести торговлю с дальними странами, а главное – обеспечивал населению спокойную жизнь. Однако вавилоняне не прикладывали никаких усилий для развития областей, расположенных между Евфратом и Средиземным морем. Их занимало только политическое доминирование, причем занимало, можно сказать, эгоистически. Надписи Вади-Брисса и Нахр-эль-Кельба наглядно демонстрируют узость их интересов. Они прославляют исключительно Навуходоносора – его военные триумфы и достижения в мирное время. Причиной тому было представление вавилонян об империи, основанное на признании царя Вавилона ее олицетворением.
Это подтверждается одной любопытной деталью на рельефе Вади-Брисса. Даты в этой надписи нет, как и в других официальных надписях Навуходоносора. Видимо, она высечена после 597 года, так как в ней говорится о победе, одержанной вавилонянами в Ливане; впрочем, рассказ весьма расплывчат, так что можно предположить, что речь идет о военной кампании другого года. Как бы то ни было, позже (может быть, намного) в начале старого текста было добавлено обращение к богине Гуле. Она считалась прежде всего «целительницей», «богиней лечащей», так что ее влияние на жизнь людей было совершенно несоразмерно скромному месту, которое она занимала в божественной иерархии. Во всяком случае, универсальной богиней она не была. Эту странную «приписку», несомненно, можно объяснить одним эпитетом: как говорил сам Навуходоносор, Гула – богиня, «возвышающая славу царства». Тем самым он подчеркивал, что речь идет не о его реальной власти, а о его репутации верховного государя; именно она оказалась под угрозой, и не имело значения, что причиной тому был он сам, а не его враги. Эту угрозу можно понять однозначно: царь был так тяжело болен, что возникли сомнения, может ли он править государством. В сущности, Вавилонское царство, бесспорно, обладало военными средствами, чтобы держать империю в покорности и предотвратить ее распад; в этом никто не сомневался, несмотря на временную немощь «пастыря». Тем не менее отход Навуходоносора от дел ставил под сомнение саму идею империи – это-то и было важно. Милостью богов здоровье было возвращено Навуходоносору, и несколько строк, высеченных в Вади-Брисса, должны были сообщить об этом племенам «Благодатного полумесяца». Империя утвердилась вновь – не в географическом смысле (с этой точки зрения она и не распадалась), а в смысле укрепления ее идейных основ.
Эти единственные скреплявшие государство узы – в лице самого Навуходоносора – вполне могли казаться достаточными. Царь и его современники этим удовлетворялись. Они не боялись внутренней угрозы; обычный порядок ведения дел был проверен временем, и его результаты, в общем, оправдывали его сохранение. Значило ли это, что строительство империи было завершено? Преемники Навуходоносора усомнились в этом и озаботились поиском решений на будущее.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ВАВИЛОНИЯ
«НАВУХОДОНОСОР, ЦАРЬ ВАВИЛОНА»
Так и правил Навуходоносор «Благодатным полумесяцем». Конституции у него не было; никакое твердое правило не регулировало выбор нового главы государства: когда старый царь сходил со сцены, руководством к действию служили тысячелетние обычаи. Жители Вавилона покорялись, потому что покорность государю всегда подразумевалась сама собой. Они считали царство, так сказать, естественным явлением, никогда не оспаривая его легитимность. Разумеется, они при случае старались защитить перед царем свои интересы, но сам принцип царства оставался всегда бесспорным. В конце II и начале I тысячелетия царская власть была очень слаба; фактически города Вавилонии обладали независимостью: они имели самоуправление и по собственному усмотрению строили отношения с другими городами. Однако их писцы по-прежнему датировали документы годами правления государя. Когда центральная власть показала свою силу, это ощущение лишь окрепло; с приходом к власти Навуходоносора оно уже было обеспечено. Эту мысль выражали и пословицы: «Народ без царя, что баран без пастуха» или «Народ без главы, что вода <в канале> без поливальщика».
Начало царствования наглядно и вместе с тем символически оформлялось коронацией. Обычно говорилось, что новый царь «воссел на престол». Сама церемония описана в одном-единственном и, к сожалению, поврежденном документе. Рукопись, без сомнения, относится к VI веку, но неизвестно, к тому ли времени принадлежит сам текст: он может представлять собой лишь копию более раннего документа. Во всяком случае, описание интронизации царя напоминает рассказ о восшествии на престол бога Мардука, содержащийся в одной из поэм о сотворении мира – «Энума элиш»[23]23
«Тогда вверху» – по первым двум словам оригинала.
[Закрыть]. Именно таким образом другие боги признали его своим владыкой. Но был ли светский церемониал копией священного – или наоборот?
Лакун в тексте столько, что восстановить, и то по наитию, можно лишь основные эпизоды. Коронация проходила как нельзя более просто. Во дворце будущего царя встречало собрание «князей страны» (как можно предположить, дворцовых сановников его предшественника) и благословляло его именем Мардука. После этого царь восседал во славе. Затем входили «великие в Вавилонии» – очевидно, политический и административный штат провинций; они располагались перед царем и также одобряли его избрание. Считалось, что «князья» и «великие» выступают от имени всей Вавилонии; жители же остальной империи не были представлены вовсе. Процедура была чисто светской, никаким религиозным актом провозглашение нового царя не утверждалось. Любопытно, что поколением позже (в 556 году) Набонид о своей интронизации рассказывает совершенно иначе: «…<мои люди> ввели меня во дворец, и все пали ниц передо мною, и лобызали мои стопы, и провозгласили царство мое, благословляя». Возможно, четких правил проведения церемонии публичного признания царя вовсе не было.
На Древнем Востоке царский титул отражал и достижения, и задачи правления: по традиции в нем перечислялись свершения и направления будущих действий. Первые к тому же служили гарантией серьезности намерений, свидетельством того, что они не являются легковесными прихотями: прошлое предупреждало всякого, кто мог иметь неосторожность так подумать или на это понадеяться.
Прошлое Навуходоносора было обильно наполнено разнообразными событиями. Современному читателю подобные перечни часто кажутся скучной чередой наугад сцепленных громких слов, проявлением чуть ли не ребяческого тщеславия. На самом деле они чрезвычайно важны для историка: поскольку никаких других прямых или косвенных источников у нас нет, они становятся единственным средством, с помощью которого можно попытаться понять мысли государя. Именно таким способом Навуходоносор рассказывал, кем он являлся (по его собственному мнению), кем хотел бы стать или кем хотел считаться в глазах современников и потомков. Конечно, вавилонский царь, как и все правители его времени, не умел ни читать, ни писать и для сочинения писем и надписей был вынужден доверяться писцам; несомненно, тексты составлялись под его контролем – государю необходимо было всякий раз убеждаться, что запись соответствует его намерениям. Этим и объясняется неизменность государственной доктрины на всём протяжении царствования. Тем не менее при работе с документами следует соблюдать осторожность и отделять выражение царской воли от литературных прикрас сочинителей, даже если они и были, в сущности, направляемы владыкой. Мы не знаем, какие именно фазы проходило составление документов, но не приходится сомневаться, что слова для них подыскивались очень тщательно.
От Навуходоносора до нас дошло примерно 95 официальных надписей: в подавляющем большинстве они исполнены на глине, несколько – на камне. Даже при всех утратах и повреждениях текстов мы, видимо, располагаем более или менее полным корпусом документов, составленных писцами для своего царя. В первую очередь такие документы предназначались не для людей; доказательством служит тот факт, что часто они закладывались в ларцы, которые ставились у подножия возводимых стен; в конце строительства их запирали и зарывали в землю. Тексты становились недоступными для обозрения, но, строго говоря, не прятались: при будущей реставрации строители должны были без труда их найти; тогда старым табличкам воздавались почести, а на их место закладывались новые. Во всяком случае, именно такие правила предписывались традицией. В то же время истинные адресаты глиняных писем – боги – могли, как считалось, прочесть таблички, даже не имея их у себя. Таким образом, Навуходоносор и его писцы никак не злоупотребляли доверием богов: те, кого нельзя обмануть, немедленно открыли бы неправду и даже преувеличения. Впрочем, рельефы Нахр-эль-Кельба и Вади-Брисса были высечены для того, чтобы их прочла вся империя, а между тем их содержание не отличается от документов, составленных собственно в Вавилонии. Поэтому у нас сейчас есть все резоны пользоваться этими сведениями без скепсиса и опасений.
Некоторые надписи оставались доступными для чтения: они были оттиснуты на кирпичах, а кирпичи уложены в стены и, стало быть, всем видны; к тому же официальные архивы сохраняли их копии. Удовольствовался ли Навуходоносор надписями на глине – или стремился запечатлеть их в камне, для чего возводил стелы? Некоторые фразы, оставшиеся на глине, позволяют это предположить: «Да прочтет и перечитает сведущий обо всех моих делах, которые я записал на скрижалях, и да не забудет хвалить богов» или «Я записал все мои превосходные дела на скрижалях и крепко утвердил их навеки». Слово, которое мы здесь переводим как «скрижали», могло означать и большую глиняную плиту, и каменный памятник. Но таких памятников не обнаружено, что, разумеется, не доказывает того, что их никогда не было.
Подавляющее большинство вавилонян не знало свершений и планов своего царя, которые доверялись только клинописи. Если бы политическая власть прибегла к рисунку, рельефу или круглой скульптуре, она могла бы гораздо шире распространить свои идеи и свою волю; у нее появилось бы средство влиять на общественное мнение и в конечном счете согласовывать его со своими планами. Но это средство не применялось. Впрочем, наше утверждение справедливо только для Вавилонии; на землях империи Навуходоносор, как мы видели в предыдущей главе, всё-таки поступал иначе. Ассирийцы же широко пользовались для пропаганды изобразительными средствами: барельефы, украшавшие их дворцы, наглядно представляли торжество монархов и наказание их врагов. Вавилоняне полностью отвергли эту практику прежних веков.
Навуходоносор приписывал или разрешал приписать себе всего около шестидесяти титулов. Он позаимствовал их примерно у тридцати различных ассирийских и вавилонских царей. При этом больше пятой их части восходит к Асархаддону. Если к этому прибавить титулы, взятые у других царей той же династии: деда Асархаддона Саргона II (721—705) и его сыновей, включая последнего ассирийского царя Син-шарру-ишкуна (623—612), —доля ассирийских титулов становится подавляющей. Вавилонские же цари источников для составления титулатуры Навуходоносора почти не дали. Даже от своего отца Набопаласара и от Навуходоносора I, во многом служившего образцом для его царствования, он перенял совсем немного официальных прозваний. Таким образом, ассирийская политическая традиция пережила саму Ассирию. Она, правда, стала прикровенной, но могла и вновь войти в силу.
Что общего было между государями, титулы которых писцы Навуходоносора взяли за образец? Прежде всего то, что на практике их надписи сочинялись именно в Вавилонии и были легко доступны писцам VI века. Возможно, другие цари игнорировались отчасти и потому, что их официальные документы на глине и на камне со временем были утрачены.
Кроме того, все цари, чья титулатура была позаимствована Навуходоносором, ставили перед собой одну и ту же задачу – активно и непреклонно стремились сохранять единство Вавилонии. Отдельные части страны могли им противиться, а Сеннахериб очень плохо обошелся даже с самим Вавилоном. Но Навуходоносору это было не важно, главное – ассирийский царь действовал в приемлемом для владыки Вавилона направлении.
Из царей, правивших ранее I тысячелетия, он обратился лишь к одному – Хаммурапи. Чаще, чем к нему, делаются отсылки только к Асархаддону. Именно этот царь в XVIII веке впервые с начала тысячелетия объединил под своей властью всю долину Тифа и Евфрата. Дело его пережило своего создателя лишь на несколько лет, но память о царе осталась. Впрочем, посмертная слава Хаммурапи была скорее книжной или, точнее сказать, школярской. Его сборник законов, обычно называемый «Сводом», стал классическим; впрочем, в школах читали и толковали главным образом вступление и заключение к нему. Текст из века в век переписывался на глиняных табличках. У писцов Навуходоносора он явно был на уме; они очень любили припоминать его, не упуская случая повсюду и непрестанно делать из него заимствования. Об этом свидетельствуют и наскальные надписи Вади-Брисса, так что отголоски древнего кодекса дошли и до областей «Запада».
Самое длинное именование Навуходоносора, включающее 28 титулов, было употреблено при реконструкции храма бога-солнца в Сиппаре; на подписанных кирпичах, найденных в Уре, титулов всего три. Пространность или краткость, бесспорно, имели смысл: Навуходоносор, как видно, был равнодушен к южным областям своего царства, все его интересы обращались к северным городам; писцы же были тем красноречивее, чем большее личное участие принимал царь в составлении текста. В текстах Нахр-эль-Кельба и Вади-Брисса употребляется 17 титулов – не больше чем в среднем по царским надписям. Можно было ожидать иного; между тем эти официальные надписи оказались скромнее, нежели рассказ, посвященный такому ничем не примечательному храму, как сиппарский, который хотя и назывался «Вечным домом», однако до VI века исследователям не известен. На самом деле содержание текста следует считать более важным, чем количество титулов. С течением времени пространность титулатуры не росла. Правда, две надписи, которые сейчас считаются самыми ранними, содержат лишь самые основные титулы, но они же встречаются на всех кирпичных клеймах на всём протяжении царствования во всех местах, где при Навуходоносоре возводились монументальные постройки. Империя в них никак не упоминается; ее существование лишь подразумевается, когда к царю применяется определение «пастырь». Только таким образом она противопоставляется «стране», то есть Вавилонии. Составляя надписи, Навуходоносор явно думал лишь о ее жителях, а не о возможных читателях из других стран. Напротив, Кир – первый персидский властитель, правивший в Вавилоне, – захватив власть, сразу заявил о себе как о «царе Вавилона» и «царе стран». Впрочем, один писец и Навуходоносора однажды назвал «царем вселенной», что означает то же самое; но то была его личная, единичная инициатива, которая впоследствии не была подхвачена. По той же логике Навуходоносор отказался и от титула «царя могучего», хотя еще его отец Набопаласар позаимствовал его у ассирийцев. Это прозвание было не простой похвальбой: приписав его себе, ассирийские монархи VII века официально поставили себя выше не только всех князей своей империи, но также и независимых государей, начиная с египетского фараона. Таким образом, речь шла о серьезнейших дипломатических амбициях. Отказавшись от этой формулы, Навуходоносор ограничил свои притязания пространством, над которым он фактически господствовал, подразумевая тем самым отказ от всемирного царства. Это было продиктовано не столько скромностью, сколько здравым смыслом.
Царские эпитеты можно подразделить на несколько рубрик. Мы это и сделаем, но порядок титулов в самих надписях постичь нелегко. Мы уже не в состоянии разобрать, по каким причинам то или иное именование занимало первое место в списке. Создается впечатление, что в этом смысле их составители были очень раскованны. Но есть одно важное исключение – такая последовательность: «Царь Вавилона, смотритель Дома с высокой кровлей и Дома правды, сын Набопаласара, царя Вавилона». Эти строчки представляли собой базовый титул, необходимый и достаточный. Все остальные дополнения вставлялись в эту неизменную раму. Этот краткий текст использовался в тех случаях, когда царь не отдавал повеления сочинить какую-либо особую надпись. Его можно найти на кирпичах вновь построенных зданий по всей стране.
Навуходоносор был – вернее, постоянно называл себя – царем «разумным», «мудрым», «глубокомысленным», «сведущим», «заботливым», «сильным», «ученым», «умелым», «пекущимся о благе». Только один эпитет у него оригинален – «испытанный»; его надо понимать так: события выявили, каким был Навуходоносор на самом деле. Это столь наивно проявленное самодовольство сегодня вызывает улыбку, но ирония здесь напрасна. Ведь и предшественники вавилонского царя часто говорили о себе. Их умственные качества действительно были важны для всех. Надписи создавали не что иное, как образ идеального государя, указывали на одно из основных качеств, необходимых для исполнения его миссии – ум и даже «хитроумие». Вспомним, как Библия представляет нам Соломона: умение решать загадки – явно не последнее среди его дарований.
«Царь правды» – эпитет, касающийся не только нравственных качеств, но и царской власти. Официально Навуходоносор использовал его лишь в надписи Вади-Брисса (возможно, также и в Нахр-эль-Кельбе, но текст в этом месте стерся). Приписывая себе такой титул, вавилонский царь на деле брал на себя роль бога-солнца.
Зато, как ни странно, собственно политических эпитетов встречается немного. Титулы Навуходоносора этого типа делятся на две категории. Большая часть заимствована у прежних царей, ассирийских и вавилонских, вплоть до XVIII века. Тем самым, ссылаясь на прежних властителей, монарх некоторым образом утверждал себя в качестве их преемника. Он публично показывал, что видит в них образцы, направляющие его действия. Но кроме того, он принял некоторые собственные именования; другие, часто встречавшиеся в прежние времена, напротив, отверг, и такой отказ также поучителен.
Навуходоносор называл себя «вождем», но это не имеет большого значения. Отец его хвалился тем, что «укрепил основания страны», вторя в этом Навуходоносору I. И тот и другой, безусловно, имели право приписывать себе эти заслуги: разделенные шестью веками, оба вернули Вавилонии независимость и безопасность. Навуходоносор II на какое-то время принял эту формулу, но потом отбросил; ему казалось, что она больше не соответствует действительности. Царь был обязан сообразовываться с реальностью, иначе он мог потерять всякое доверие современников.
Когда царь называл себя всего лишь «правителем Вавилона», пускай даже «неутомимым» или «непременным», это не было свидетельством его слабости. Так именовали себя ассирийские цари VII века, когда они царствовали в Вавилонии. Тогда этот титул должен был пониматься как обозначение государя заботливого и преданного, власть которого была ближе и милостивее, чем более строгая власть «царя». Навуходоносор перенял этот титул у Набопаласара, а тому было очень важно показать свое благорасположение вавилонским городам, поскольку они ему не слишком доверяли.
Среди титулатуры Навуходоносора встречается мало эпитетов, относящихся к сельской жизни. Царь, между прочим, был «земледельцем Вавилона», «копящим огромные закрома зерна», и даже «поливальщиком, орошающим поля». Об этом аспекте политики Навуходоносора вряд ли можно говорить всерьез. Его деятельность в этой области не была настолько заметной, чтобы считаться достойной обязательств перед обществом, отраженных в титулах. Тем не менее Навуходоносор был «держателем земли». Такое именование политического деятеля восходит к самым истокам цивилизации Нижнего Двуречья: «держатель земли» тогда отвечал за городское поле, организовывал в каждом населенном пункте труд земледельцев и вследствие этого являлся в нем главным лицом. Его должность как таковая исчезла в III тысячелетии, но само словосочетание сохранилось; с тех пор оно обозначало правителя – постольку, поскольку он заботился о крестьянах.