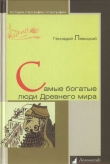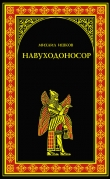Текст книги "Навуходоносор II, царь Вавилонский"
Автор книги: Даниель Арно
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
Лет 300 спустя превратности судьбы царя Саргона по прозвищу Древний объясняются его отношением к богу, его храму и, что то же самое, Вавилону. Сначала он всех побеждал, потом же потерял царство из-за того, что захотел создать столицу, которая бы соперничала с городом Мардука (впрочем, бывшим тогда всего лишь безвестным поселком): «Ур-Забаба [повелел] виночерпию своему Саргону переменить вино в кубках Дома под высокой кровлей, Саргон же сделал не так: поклонился <Мардуку> и принес кубки в Дом под высокой кровлей, Мардук <…> посмотрел на него радостным взором и дал ему царство над вселенной. Заботился о Доме под высокой кровлей, совершал там обряды, приносил туда добычу, взятую с севера из храмов в Вавилон, [вот что он делал. Но] <Саргон> уклонился с пути своего, и построил город напротив Вавилона, и назвал его Аккадия. Прогневался бог, что он нарушил запрет, и от восхода до заката все восстали против него. Сделал бог так, что больше не было ему отдыха».
Рассказ охватывает одно столетие за другим, демонстрируя всё ту же литературную бездарность и интеллектуальную беспомощность, что, однако, не имело значения. Набопаласар с сыном занимались храмом и перестраивали ступенчатую башню. По случаю окончания «Дома – основания неба и земли» Навуходоносор именует себя самым длинным рядом царских титулов, и это доказывает, какую важность он придавал всему предприятию.
В храме Мардука больших работ Навуходоносор вел немного. «Дом под высокой кровлей» в VII веке содержался ассирийской властью в хорошем состоянии, так что вавилонскому владыке оставалось только украсить его. К сожалению, тексты об этом неконкретны, стереотипны, повторяют друг друга. Дело осложняется тем, что современные комментаторы не знают точного значения некоторых металлургических терминов и не всегда могут понять, о чем идет речь. Для вавилонян же точность, а тем более живописность и не требовалась: боги и так, без дополнительных описаний знали, чем обладали; служителям культа тоже было известно, в каких стенах они проводят дни. Оставались те, кто не имел права входить в священную ограду, то есть подавляющее большинство жителей Вавилона. Но в их жизни едва ли мог представиться случай сравнить описание с действительностью, поэтому было достаточно передать общее благоприятное впечатление от сооружения. И Навуходоносор делает упор прежде всего на богатство декора. Государь и его писцы – а с ними, судя по всему, остальные их современники – ценили не столько дороговизну металлов и привозного дерева, сколько игру света на поверхностях. Принятые эпитеты говорят о блеске убранства не меньше, чем о его богатстве. «Святая святых» храмов бывали обыкновенно черно-белыми; этот контраст достигался сочетанием очень экономичных материалов: гипса и асфальта. Только в двух из них – жилище Мардука в Вавилоне и месте обитания Набу в Барсиппе – царь провел работы по роскошному украшению интерьеров; правда, площадь и объем помещений так и остались невелики.
Жилище Мардука и его супруги Навуходоносор застал обшитым листами серебра. Он же отделал стены «сверкающим златом», лазуритом и белым мрамором. Потолочные кессоны были украшены золотом, серебром и «самоцветами». Золото использовалось повсюду, но употреблялось в виде листов, а не слитков.
Показательно сравнение мест обитания двух богов. Для Набу в Барсиппе вавилонский царь трудился, пожалуй, не меньше, чем для его отца. У Мардука в «Доме правды» в Барсиппе был собственный придел; но он, а также ведущий к нему коридор были украшены лишь серебром, А вот придел его сына в вавилонском храме Мардука был отделан золотом.
Надписи Навуходоносора несколько раз описывают «святая святых» Набу, но кое в чем противоречат друг другу; возможно, эти расхождения между текстами объясняются постепенным появлением новых украшений. В любом случае описания не позволяют в подробностях представить себе убранство интерьера. Между тем никаких древних изображений, проливающих свет на этот вопрос, у нас тоже нет. Судя по плану, составленному при раскопках, к месту пребывания статуи вели два зала; в каждый выходило еще несколько вспомогательных помещений. Если верить текстам, они закрывались воротами с палисандровыми и кедровыми косяками и серебряными вставками в виде быков. Коридор был вымощен плитами «блестящего» серебра. По обеим сторонам от входа в «святая святых» стояли быки, отлитые из меди и покрытые золотом, у других порогов находились такие же, но серебряные. Тень от быков падала на портал священных ворот; косяк и вся дверь, включая порог, были отделаны «сверкающим златом». К удивлению, о статуе Набу в самой комнате ничего не говорится. Ее постамент раньше был сделан из обожженного кирпича и асфальта; при Навуходоносоре сам пьедестал, ступени к нему и покрывающий его балдахин стали серебряными. Два горельефных зверя, а также кедровые балки потолка в завершение работ были отделаны золотом с драгоценными камнями, а до тех пор, пока это не было сделано, их просто обшили медью, надраенной с воском. Чтобы «дождь, ливень и буря» не испортили «святая святых», крыша здесь была вдвое толще, чем над другими помещениями комплекса. Все водостоки были сооружены из алебастра, а лестницы – из дерева экзотических пород, обшитого бронзой.
Таким образом, для Набу старались так же, как для его отца, а то и усерднее. Впрочем, мы можем лишь предполагать это с большой долей допущения. Во всяком случае, «святая святых» Мардука в Вавилоне не поражает воображение роскошью, хотя и превосходит великолепием аналогичные помещения в других храмах Вавилонии. Навуходоносор почитал столичного бога, служил ему сообразно его рангу, но столь же ревностно служил и богу из Барсиппы. Между прочим, его зять и второй по порядку преемник Нериглиссар поставил в храме Мардука семь медных драконов, покрытых серебром, специально указав: этого никто до него не делал. Возможно, здесь содержится скрытая критика тестя, сделавшего, по его мнению, для бога слишком мало.
От ступенчатой башни Вавилона сейчас сохранились только следы фундамента – само здание исчезло полностью. Мы не знаем, в каком состоянии находился «Дом – основание неба и земли» в момент разгрома ассирийцев, но можем об этом догадываться по аналогии с Барсиппой. Как изъясняет Навуходоносор, «башня была давно заброшена; водостоки забиты, дожди и потоки разрушили кладку, обожженные кирпичи облицовки <были> выломаны».
Набопаласар нашел вавилонский памятник «обветшавшим и давно шатавшимся»; похоже, он даже сомневался, сможет ли его восстановить. Он посоветовался с «умелыми мастерами», после чего «зодчие натянули мерные веревки и начертили планы». Начало работ было отмечено торжественной церемонией. Но ко дню смерти царя было сделано менее шестой части работы. Ее завершил сын Набопаласара. Впрочем, его надписи скупы на подробности. Видимо, он расширил фундамент, «чтобы возвести на нем высокую насыпь». Помещения, примыкавшие внизу к башне, были «одеты в кедр, палисандр и бронзу». Внешняя отделка была исполнена, как и в Барсиппе, из «лазоревых» (цвета лазурита) глазурованных кирпичей.
К счастью, один из писцов оставил описание башни с указанием размеров, по которому всё же можно представить в целом ее внешний вид. Согласно этой табличке, башня при храме Мардука состояла из семи ярусов, была в плане квадратной, со стороной основания 90 метров, и поднималась на такую же высоту. Первый ярус имел в высоту 33 метра, второй – 18, остальные – по шесть метров. На верхней платформе стоял алтарь. Современные реконструкции расходятся в деталях, но одно несомненно: в архитектуре башни не было ничего оригинального. Силуэт «Дома – основания неба и земли» был точно таким же, как у ступенчатых башен, высившихся в каждом стольном городе Вавилонии.
В восточной стене двора, окружавшего башню Мардука, находились монументальные ворота, выводившие на Священную дорогу. Эта дорога соединяла пространство, посвященное Мардуку, его жене, сыну Набу и разным второстепенным божествам, с воротами богини Иштар в северной стене города. Таким образом, она играла первейшую роль в городской жизни. Ее ширина составляла 22 метра (это была самая широкая улица в Вавилоне), длина – 200 метров от центра до северной стены. Наряду с обыденной функцией она имела и важное религиозное назначение: по ней Мардук и его божественные гости покидали Вавилон, отправляясь за город на праздник Нового года.
Когда во время археологических раскопок была обнаружена Священная дорога, обе ее стены были полностью обрушены, но обнаруженные обломки позволяют представить себе ее первоначальный вид. Улица строилась в два приема. После окончания строительства нового дворца ее пришлось поднять: новая мостовая располагалась на пять метров выше, чем при Набопаласаре. Дорогу вымостили известняковыми плитами. Чтобы ускорить дело, строители, недолго думая, взяли плиты Сеннахериба и покойного отца царя; плиты Сеннахериба пришлось перевернуть, чтобы не было видно ассирийских надписей. Две стены вдоль дороги были облицованы формованными глазурованными кирпичами; подсчитали, что с каждой стороны на них было изображено по 60 шагающих львов. Фон стены был то голубой, то ярко-синий; каждый лев достигал в длину около двух метров. Животные имели разные окрасы: одни – белую шкуру и желтую гриву, другие – желтую шкуру, а гриву красную. Над ними шла широкая полоса больших розеток.
Священная дорога вела к воротам Иштар, полностью называвшимся «ворота Иштар, отражающей восставших на нее». Этот памятник, вне сомнения, является шедевром искусства своего времени; в нем одном выразился весь дух царствования. Сначала это был элемент военного обустройства Вавилона; ворота продолжали могучие укрепления дворца к востоку. Они, вероятно, возвышались над Священной дорогой более чем на 20 метров. Перед ними даже стояли еще две башенки – тем самым подступ к городу становился для врага еще опаснее. Качество строительства здесь весьма высоко: кирпичи скреплены асфальтом и глиной, и все пять их слоев для прочности и дренажа проложены камышовыми циновками. Но особенно замечательны ворота своими фигурами быков и драконов. Их было 175. До Навуходоносора ворота были сделаны просто из сырцового кирпича. Когда новый царь снес дома рядом с ними, он заодно облицевал ворота глазурованным кирпичом. Быки и драконы (того же размера, что львы на стенах Священной дороги) были разноцветными: быки – желто-синими, драконы – желто-белыми на таком же сине-голубом фоне, как тот, что использовался при облицовке стен дороги. Над ними, под самыми зубцами, шел фриз из розеток.
Как и все прочие монументальные ворота Вавилона, ворота Иштар охраняли от демонов статуи «буйных быков» и «драконов в гневе великом». Они были «медные», что, без сомнения, надо понимать как «обшитые медью». Если бы статуи были сделаны целиком из металла, Навуходоносор не забыл бы указать это. Из меди были отлиты также пороги и петли ворот, а их косяки были сделаны из «превосходного» кедра, обитого бронзой.
Именно на этой улице, между ее стенами, единственный раз в году миряне принимали участие в религиозной жизни по случаю выхода статуй богов из «святая святых». Такая публичная процессия происходила только на Новый год. Долгое время в каждом стольном городе «страны Шумера и Аккада» было свое новолетие – то был случай проявить местный патриотизм. Потом древние традиции забылись, и всем божествам страны приходилось на время оставлять свои святилища, собираясь в гостях у Мардука в Вавилоне. Когда это произошло впервые, неизвестно; мы не знаем и причины, хотя представить ее себе нетрудно: новая церемония утверждала единство Вавилонии вокруг ее самого знаменитого города. Во всяком случае, ко времени Навуходоносора централизация ритуала в столице существовала уже много веков. В общем, города были не слишком довольны, что их божества покидают свои стены даже на время, но поневоле мирились с этим, будучи готовы выказать свое возмущение при подходящих обстоятельствах.
И всё же божества вавилонских городов по случаю Нового года отправлялись в столицу. Набу выезжал из Барсиппы и встречался с отцом, окруженным торжественно-радостной свитой и всем божественным семейством. На другой день боги вновь пускались в путь через весь Вавилон в храм, расположенный за его стенами; предполагается, что «Дом новолетия» находился между внутренней и внешней стенами на северо-востоке, но здание его не обнаружено, так что это местоположение до сих пор гипотетично. Согласно традиционному выражению, властитель Вавилона «держал руку Мардука»; он шел перед всеми рядом с «владыкой над владыками» (то есть его статуей) через всю столицу. Его присутствие должно было убеждать народ в том, что царство будет еще целый год жить в порядке и довольстве. Обратно боги возвращались после тайного обряда. О нем к нам не просочилось ничего достоверного; очевидно, там Мардук распоряжался судьбами двенадцати грядущих месяцев. Затем царь богов расставался со своей божественной свитой. В процессии, провожавшей возвращавшиеся по домам статуи, участвовал не только весь духовный и обслуживающий персонал «Дома под высокой кровлей» и других храмов, но также царский двор, сановники и представители прочего народа. Общий религиозный дух находил выход лишь на эти несколько часов. Другие праздники отмечались только жрецами, вдали от взглядов любопытствующей толпы. В поисках своего места в мире, в столкновении с мирозданием вавилонянин мог полагаться лишь на собственные силы.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.
В ПОИСКАХ НОВОГО МИРА
ПУТЬ ДЕЙСТВИЯ И ПУТЬ СПАСЕНИЯ
Итак, храмовая религия была чисто ритуальной; ее церемонии оставались запертыми в стенах святилищ. Житель Вавилонии был от нее отгорожен, не мог найти в ней ни моральной поддержки, ни, еще того менее, ответа на свои вопросы о мире. Характерно, что в литературных текстах человек в горе открывает сердце более счастливому другу, просит его о сострадании; ему и в голову не приходит искать помощи у жреца.
Конечно, названия храмов и находившихся в них священных предметов входят в состав имен собственных, занимая там место имен божественных. Быть может, богов часто и воспринимали в конкретном облике их почитаемой статуи? Здания храмов являлись носителями божественной личности: они исполняли молитвенные просьбы верующих «в замещение богов», как тогда говорили. Храмы брали на себя и обычное человеческое усыновление. Но именно тут с наибольшей силой проявлялись любовь и доверие: верующий просил благословения своему потомству и выражал надежду «видеть» храм. Это было искреннее, но не слишком продуманное изъявление неклерикального мистического чувства. Мирянин внезапно начинал славить могущество божества, находящегося в «святая святых». Он переносился туда лишь мысленно; исполнить его желание буквально было невозможно – вход на священную территорию был для мирян под нерушимым запретом.
Таким образом, преданность храмам была вполне реальной даже для тех, кто не входил в клир. Однако она плохо оправдывалась совокупностью социальных ролей храма и, во всяком случае, оставалась формальной, внешней; в ней проявлялась прежде всего привязанность к тому или иному городу, который ассоциировался со своим главным храмом и жившим там божеством. По-настоящему утолить скорбь она была не в состоянии, а эта потребность была тем более сильной, что и общераспространенное мировоззрение не давало утешения.
Для вавилонян человек был предназначен к смерти. Избежать ее – привилегия божества; собственно, бессмертие и есть его основное отличие. Какие бы подвиги ни совершил герой, в конце концов он не мог избежать уничтожения.
Этот принцип был неоспорим, представления же о самой смерти – путаны и бессвязны. Правда, описаний преисподней, а также сходивших в нее богов и людей было более чем достаточно. Но их надо рассматривать лишь с тех позиций, с которых это делали вавилоняне, воспринимавшие их всего лишь как великолепные литературные образцы. На деле подземный мир являлся скорее декорацией, созданной интеллектуалами, вставлявшими в нее какую-либо моралистическую тираду или политическую программу. Это было обрамление, а не настоящее верование.
По представлениям вавилонян, мертвых надо было хоронить, чтобы они не стали привидениями. Затем близкие были обязаны регулярно приносить им еду и питье. Но живые, бывало, уклонялись от этой обязанности. Благочестивые писцы так часто напоминают о необходимости ее исполнения, что можно предположить, что ею часто пренебрегали. В этом небрежении выражались страх и неуверенность вавилонян перед смертью. В конце земного пути всякого человека ставилась точка – люди не верили в другую жизнь. Но каким-то образом мертвые все же продолжали существование, потому что «отчаянные призраки, повсюду рыщущие мертвецы» беспокоили живущих. Как это было возможно, никто не знал и не старался понять; лишь заклинатели при помощи должных процедур брались изгнать непрошеных гостей туда, откуда они пришли.
Оканчивая свои дни, человек умирал весь, целиком; следовательно, удачливым злодеям не грозила никакая кара, а униженные праведники не могли надеяться получить награду. Всё происходило только в этой жизни: кончилась жизнь – конец игре. Смерть всех уравнивала. «Взойди на древние развалины, смотри на черепа великих и малых: кто из них творил зло, кто творил добро?» – таким доводом в одном из литературных произведений (условно озаглавленном «Пессимистический диалог») угодливый слуга бесстыдно одобряет своего хозяина, который хотел было сделать доброе дело для страны, но потом передумал. К чему послужит ему доброе дело?
Итак, зло и злая судьба не находили отмщения на ином свете; в таком случае вопрос о воздаянии становился особенно тяжелым. Традиция давала на него пафосный ответ: всякий преступник понесет наказание при жизни, а невинному, конечно, придется потерпеть неприятности, но в конце концов он станет благополучен: «То, что ты потерял в один год, вернешь в один миг, в том нет сомнения». В общем, всякий наказанный заслуживает своего наказания, даже если сам не сознает за собой вины: ведь эта концепция не принимала в расчет существования доброго или злого намерения. Согласно ей, в глазах богов небрежность и сознательное прегрешение были одинаково тяжкими.
Чтобы избежать бед, религия советовала держаться «под сенью» божества-покровителя. Вавилонянин должен был упражняться в благочестии: «Когда убедишься, сколько выгоды в почитании бога, ты прославишь бога и призовешь его благословение на царя». Благочестие приносит богатство, детей, долголетие и высокое положение в обществе – таков был общий образ мыслей жителей Вавилонии. Ни о каких нравственных ценностях речь при этом не шла. Так же судил и Навуходоносор. Например, он обращался к «Госпоже набережной» с такими просьбами: «Продли мои дни, умножь мои годы; да установят уста твои долгую жизнь и многое потомство; дай здравие душе и телу моему; сделай верными гадания обо мне; сделай добрыми советы <богов> для меня; всегда проси Мардука, царя неба и земли, о поражении врагов моих и гибели стран враждебных». Как ни звучны такие прошения, они ограничиваются пожеланием личного и государственного материального успеха. Кроме того, все они эгоистичны: в них ничего не говорится о людях, составлявших царскую семью, страну, империю. Это не случайность; ничего подобного не встречается и в других надписях вавилонского царя.
Что же это было за «благочестие», предписанное мирянам? На деле, как нам кажется, оно сводилось к очень немногим вещам. В письмах то и дело попадаются краткие формулы обращений к богам. Отражали ли они мысли пишущих – или являлись штампами, которые по привычке считал себя обязанным вписать платный писец? В целом их искренность и естественность едва ли вызывают сомнения, но это не дает возможности оценить глубину их благочестия. Некто обращался к адресату так: «Да решат Набу, бог-луна[44]44
Син (аккад.).
[Закрыть] и бог-солнце о здравии твоем; каждый день молюсь я о тебе, и да услышана будет молитва моя!» Другой корреспондент велел написать, что он «преклонил колени» перед богиней; еще один уверял: «Под хранительной сенью богов все у меня хорошо».
Все прочие тексты исходят из храмовой среды. В их советах проявляется их происхождение: «Ищи неустанно сладкого дыхания богов», «Каждый день молись богу своему». Они советуют ежедневно справлять обряды, чтобы не навлечь гнев богов; сулят горе тому, кто «ел хлеб свой и бога своего не призвал», кто «оставил богиню свою и муки не принес ей». Но, кажется, к жрецам не особо прислушивались.
Да и к чему было выполнять все эти предписания? Вот мысль, глубоко переживавшаяся вавилонянами: человек не в состоянии понять божество. «Волю бога знать нельзя; дел бога знать нельзя; все божеское [трудно] обнаружить». Представление о человеке было очень скромным: когда в начале времен младшие боги наотрез отказались удовлетворять нужды старших, люди были сотворены, чтобы работать. После этого небесные жители всех рангов могли жить праздно: люди вечно будут кормить их своим трудом – даже прежде, чем самих себя. Поэтому обыденной моралью было смирение. Это была чисто негативная, угрюмая, горькая, женоненавистническая мудрость. Она только и советовала, что всего остерегаться. Компенсировал эту трусливую замкнутость вульгарный гедонизм, где главную роль играло употребление хмельных напитков. Впрочем, вавилонянам предлагались и некоторые добродетели: благоразумие, сдержанность.
Взгляды на счастье и несчастье не подтверждались опытом. Совет «не делай зла и не получишь злосчастья» казался очень наивным. Впрочем, недовольство им было сформулировано только во второй половине II тысячелетия. Тогда люди начали размышлять о страданиях детей, о бедствиях, насылаемых на весь народ без разбору. Лучшие умы были поражены абсурдностью зла: оно поражает праведных и неправедных, старых и малых, целые страны – не могло же их население сплошь состоять из дурных людей.
Такие размышления, возможно, подпитывались неким потаенным течением мысли, а свое выражение нашли в некоторых пословицах. Это идейное течение было, очевидно, очень древним и явно не имело отношения к жреческому миру. Едко и зло высмеивались расхожие идеи, исполнение обрядов представлялось бесконечным трудом, ничего не дающим человеку (надо сказать, что по-вавилонски одним и тем же словом назывались повседневные храмовые обязанности, работа в поле или мастерской и трудовая повинность, налагавшаяся царской властью). Подвергалось сомнению даже могущество богов: «Бог демону пути не заступит». В одном споре о нужности религии некий верующий жалуется, что его богопочитание ни к чему не приводит: тянуть тягло для бога – «работа без прибытка»: «В юности моей слушал я волю бога, искал богиню с сокрушением и мудростью. <…> Бог судил мне бедность, а не богатство; хромой обгоняет меня, глупец обходит меня; сволочь избрана, а я хирею». Собеседник пытался возразить ему: «Значит, в печени своей (вместилище чувств. – Д. А) ты помышлял не слушать велений богов». Упрек был явно несправедлив; таким образом, традиционные представления лишь демонстрировали свою слабость и едва ли могли найти отклик. Стало быть, о богах думали плохо. Зато их служители никакой критики на себя не навлекали. Вавилоняне не знали антиклерикализма: жрецы несли свою службу, занимали предписанное им место в миропорядке, то есть являлись исполнителями со стороны человечества договора, заключенного с богами: содержание в обмен на безопасность.
Последним усилием вавилонской мысли, предпринятым для преодоления этих трудностей, был «миф о боге Эрре», названный так по имени главного героя. Он был сочинен в конце II тысячелетия, когда кровавые войны приводили то к катастрофам, то к возрождению государств. В нем разработан мотив ухода и возвращения бога (божественной храмовой статуи).
Противоречие между вечным, неуязвимым для превратностей истории божеством и бренным предметом издавна занимало мысли жителей Вавилона. В перипетиях своей долгой истории вавилоняне много раз видели, как статуи увозились из святых мест и даже уничтожались. Но богословы учили, что ни воля, ни поступки человека тут не имели значения. Когда-нибудь, в один прекрасный день бог или богиня «вспомнит» о своем традиционном жилище, пожелает снова поселиться в нем, «обратит лик» к своим давним почитателям; тогда все неодолимые трудности вдруг необъяснимым образом разрешатся.
Поэма из семисот стихов вписывается в вавилонскую литературную традицию и кажется с первого взгляда феерией на мифологические темы. Но у нее есть и отличие от других дошедших до нас сочинений: она якобы явилась во сне человеку, назвавшему свое имя[45]45
Кабту-илани-Мардук, сын Дабибы.
[Закрыть]; проснувшись, он точь-в-точь записал то, что ему привиделось. Это подписанное произведение – редкий случай для Вавилона; обычно авторы оставались безымянными.
Автор поэмы не обращает внимания на беды отдельных лиц: болезни, разорение, смерть. Его интересуют лишь потрясения всего общества. Его «герой», если можно так его назвать, Эрра – бог войны и эпидемий – олицетворяет абсолютное зло, но его сдерживает присутствие Мардука (статуи Мардука) в вавилонском храме. Стоит великому богу покинуть ее, как Эрра даст полную волю своему злонравию. Поэтому неправедный бог всячески старается соблазнить Мардука выйти из своей материальной оболочки, разрушить статую; тогда ее восстановят, и она, то есть сам бог, вернет себе уже несколько поблекшее сияние. Мардук долго колебался, вспоминая, что, когда он первый раз ушел из храма, случилось великое потрясение, поразившее людей и богов. Правда, он согласился, что иногда ему служат с небрежением, но все же счел, что лучше его терпеливо сносить, чем насылать кару, которая будет иметь неведомые последствия (не слишком разумный довод в устах бога!). Тогда Эрра стал рассказывать Мардуку о его «торжественном возвращении», которое искупит все плохое, что произойдет из-за его отсутствия. Из-за легкомыслия и тщеславия Мардук уступил уговорам. Эрра же льстиво предложил самому занять место Мардука – временно, пока будут делать новую статую. Когда это случилось, потрясся мир и перевернулись все социальные ценности: храмы были осквернены и разграблены, автономия городов попрана, преступников не отличали от невинных; наконец, пришли войны, мор и голод. Потом Эрра, утомившись от бесчинств, вдруг переменился, согласился проклясть врагов Вавилонии, благословил ее и предсказал ей великое будущее. Бесспорно, последняя перипетия введена неумело, однако нельзя отрицать и искренности пожелания славы своей родине.
Таким образом, провозглашалось, что зло не имеет ни оправдания, ни пределов. Мардук проявил крайнее легкомыслие в отношении своих почитателей. Даже остальные боги поразились бедам, постигшим невинных людей. Все они обрушились на мир оттого, что божество покинуло свое святое место; но зачем оно это сделало? какая ему в том корысть? Ответ звучал нечестиво: боги с богинями и сами не ведают, что творят. Они даже не понимают своей выгоды, легко дают обвести себя вокруг пальца, сплошь и рядом поступают легкомысленно и безответственно. Конечно, статуя бога еще прежде материального надругательства над ней была десакрализована – точнее говоря, «необитаема», – иначе она бы этого не позволила. Но, к сожалению, это было скрыто от взоров людей – они прозрели только с началом катастрофы. Божественное же зло все видит ясно и всегда бдит; оно знает, когда наступает пора ему действовать, и не упускает случая. Такое развитие представления о божественном «реальном присутствии», распространение теологического объяснения на все природные и общественные бедствия приводили к тому, что бессмертные начинали выглядеть в глазах людей не слишком привлекательно: в конечном итоге поклонение богам, даже если не пренебрегать никакими обязанностями и полностью удовлетворять их, не отводило от человека бед. Мы приходим к тому, что храм становился бесполезным или, во всяком случае, не особенно помогающим.
Традиционная мысль, следовательно, признавала свою неудачу. Обращение в храмы, конечно, имело какой-то смысл, но вера и благочестие не приносили человеку в жизни особых благ. Эти блага, во всяком случае, не были гарантированы, а их распределение казалось совершенно несправедливым.
Можно ли было найти выход в науке? С эмпирическим представлением о причинности вавилоняне были знакомы; но мир казался им настолько сложным, что у них родилось осознание своей неспособности овладеть им. Так или иначе, после изобретения письменности в конце IV тысячелетия развитие естественных наук застопорилось. Письменность раз и навсегда разнесла знакомый вавилонянам мир по рубрикам: предметы деревянные, предметы медные, животные, живущие в воде (рыбы, выдры, черепахи), камни и т. д. Эта энциклопедическая структура уже не менялась. Таким образом, писцы VI века видели мир таким же, как и их предшественники; к тому же им надо было во что бы то ни стало вписать новые реалии в рамки, созданные не менее двух с половиной тысяч лет назад; одним словом, перечень составных частей мироздания оказался закрыт прежде, чем составлен. Медицина же представляла собой нагромождение нелепых процедур, смешанных с магией.
Впрочем, эти безнадежные выводы не смущали людей того времени, считавших, что они унаследовали способ читать (в буквальном смысле) мироздание; в качестве такового им представлялось гадание. Все явления в природе, на земле и на небосводе были знаками человеку, знаками верными; у богов было много недостатков, но они не лгали. Оставалось истолковывать эти знамения. Для этого существовали специалисты-прорицатели; но в принципе каждый человек, как мужчина, так и женщина, мог овладеть этой премудростью. Область ее применения была неисчерпаема, но сфера собственно гадания все же имела некоторые пределы. В отличие от жителей империи вавилоняне совершенно не доверяли пророческим экстазам, видя в них признак душевной болезни. К черной магии они также питали явное отвращение. Упражняться в ней не запрещалось, однако это занятие считалось постыдным и, вероятно, являлось крайне редким.
С учетом этих оговорок, способы гадания не имели иерархии; всё было равноценным: гадание по колонне муравьев, по цвету восходящей луны, по капле масла в чаше с водой – список способов бесконечен. Специалист выбирал любой из них на свой вкус. На практике существовали народные виды гадания, всего разнообразия которых мы не знаем, потому что они не считались достойными записи, и благородные. Среди самых благородных называлось гадание по внутренностям барана (обычно – по печени, реже – по кишкам и легким). В VI веке обращаться к предсказаниям такого рода почти перестали – увлечение ими прошло (мода на гадания, подобно всякой другой моде, переменчива); к тому же они обходились довольно дорого (каждый раз в цену животного), в то время как обращение к звездам не стоило ничего. Этот способ и применялся тогда чаще всего.