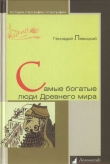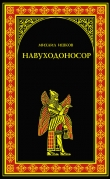Текст книги "Навуходоносор II, царь Вавилонский"
Автор книги: Даниель Арно
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
«СТРАНА ШУМЕРА И АККАДА»
Обычно Навуходоносор говорил просто о «стране». На самом деле ее полное название – «страна Шумера и Аккада». Оно восходило еще к концу III тысячелетия, но оставалось живо и в его царствование, хотя встречалось гораздо реже, чем раньше. В частности, вавилонский царь применил его в надписи по случаю перестройки отцовского дворца в Вавилоне; это значит, что для него, его писцов и современников оно сохраняло свой смысл.
В XXIII веке в Вавилонии пользовались двумя языками: жители юга говорили по-шумерски, жители севера – по-аккадски. Саргон Древний стал гегемоном севера, а юг покорил силой. Полтора века спустя Ур-Намму (2112—2095) решил воссоздать империю с центром в Уре, в шумерских областях, но способом действий избрал не насилие, а договоренность. Он уравнял в статусе обе области, вошедшие в его царство, и придумал для низовьев Тигра и Евфрата новое обозначение – назвал себя «царем Шумера и Аккада». Тем самым он признавал их различие в рамках единой общности. Впрочем, в его время шумерский язык был сильно потеснен северным наречием; новый царь пытался спасти древнюю южную культуру, утвердив ее равноправие с северной. Но из этого ничего не вышло: всё шумерское неодолимо отступало. Начиная со II тысячелетия уже и само имя Шумер перестало употребляться – Аккад поглотил его. Тем не менее двойной титул царя сохранился, поскольку годился для любой политической ситуации. Когда в первой половине II тысячелетия Нижнее Двуречье было поделено между враждующими княжествами, государи некоторых из них принимали этот титул; они не могли обосновать свои претензии, но выражали таким образом свои планы и обещали тем, над кем не властвовали (по их убеждению, временно), уважать их местные особенности. Еще в VII веке ассирийские цари, правившие в Вавилоне, по тем же соображениям именовали себя этим древним титулом. Набопаласар счел возможным принять его в конце царствования, когда вся страна оказалась в его власти. Он и сын его утвердились в качестве «правителей Шумера и Аккада». Как мы видели, этот термин обозначал более близкую и заботливую властную опеку, нежели царская. Таким образом Вавилония в разных политических документах вновь оказывалась «Шумером и Аккадом». Но этот пережиток сохранял определенное значение: власть признавала, что подчиненная ей «страна» не является однородным, нерасчлененным целым. Впрочем, это признание – чисто формальное, напоминавшее о древней истории царства, – не влияло на конкретные действия Навуходоносора; он сам уже не представлял себя «шумеро-аккадским» царем: с его точки зрения, под термином «страна» понималось прежде всего единство, особенно прочное, противопоставлявшееся империи. Его отец считал политически правильным сглаживать недовольства больших городов. Их названия он писал на кирпичах, применявшихся для крупных построек; таким образом, у каждого города был свой кирпич, например, в храмовом комплексе, что льстило местному патриотизму. Навуходоносор отошел от этой практики. При нем везде, в любом месте Вавилонии, включая Сузиану и острова Персидского залива, повторялся один и тот же текст, один и тот же неизменный титул.
Политическое объединение Вавилонии было завершено лишь после XV века; тогда и встал вопрос о ее административном устройстве. Оно складывалось мало-помалу, с течением времени, эмпирически и бессистемно. Видимо, власти считались с реальностью. К концу II тысячелетия структура власти сформировалась окончательно и до VI века уже не менялась. Такое постоянство объясняется несколькими причинами. Первая – и одна из главнейших – привычка чиновников к рутине. Впрочем, в их косности проявлялось и реальное уважение к местной ситуации, связанной с долгой и нередко славной историей. И действительно, административная структура проявляла хорошую приспособляемость к местным условиям. Вавилоняне терпели ее легко, да и она не особенно их отягощала: местные власти и их агенты не столько действовали, сколько надзирали. Они соблюдали простое правило: как можно меньше мешать. Вмешательство государства считалось оправданным в одном-единственном случае – для предотвращения серьезных беспорядков. Серьезные меры требовались лишь в таких конфликтах, которые, как представлялось, не могли быть разрешены там, где зародились: внутри семьи, деревенской общины или храмового причта. Впрочем, в распоряжении властей на местах не было сил устрашения: ничего похожего на нашу полицию или жандармерию не было. Навуходоносор не имел причин менять общепринятые правила – он этого и не делал. Его властные запросы были весьма скромны: от подданных ему нужно было пассивное повиновение, то есть исправное выполнение общественных работ и уплата налогов; сверх этого он не требовал ничего – по крайней мере никаких обязательств разделять какую-либо политическую, экономическую или религиозную программу.
«Страна» делилась на 15 округов. Севернее Ниппура округа были меньше по размеру – иными словами, в Северной Вавилонии местная власть была ближе к подданным, чем в Южной. Большинство округов называлось по имени главного города, некоторые – по окружающей местности; так, имелся «округ Приморской страны», то есть самой южной части Вавилонии. Во главе каждого округа находился правитель с «подручным». Он назначался по воле царя, представлял его интересы, получал от него приказания и был подотчетен только ему. Его власть распространялась не только на граждан, но и на храмы; правитель по должности входил в их «собрание». В больших укрепленных городах находился также «комендант». Таким образом, количество высших чиновников было очень мало, зато они располагали большим числом контор для ведения дел. В администрации Вавилонии всегда было множество писцов, ведь всё полагалось записывать. Сейчас они представляются нам в чем-то мелочно-дотошными клерками, в чем-то – бестолковыми путаниками. Возможно, мы судим о них слишком строго, поскольку располагаем только частью плодов их труда и, конечно, не видим кое-каких этапов, придававших всей процедуре связность. Начиная с VIII века, а еще больше при Навуходоносоре, положение с документацией осложнилось из-за возникновения двойного делопроизводства. Поскольку наряду с вавилонским языком разговорным был арамейский, документы приходилось писать и клинописью (на глиняных или вощеных деревянных табличках), и алфавитным письмом чернилами на коже. Всё это сильно замедляло работу, ведь появились две корпорации писцов – своя собственная для каждого языка и писчего материала; их члены были узкими специалистами и даже при необходимости не могли меняться местами. Конторы не помышляли о реформе системы, как бы та ни была неудобна; политическим же руководителям, начиная с Навуходоносора, не знавшего грамоты, такие мысли и в голову не могли прийти. Но при всех своих недостатках вавилонские администраторы играли важнейшую роль. Их преданность и корпоративная преемственность служили обеспечению стабильности страны.
Высшим и единственным источником власти был государь. Так это понимали все, всюду и всегда. На рельефах Вади-Брисса и Нахр-эль-Кельба выступает один Навуходоносор, только он в официальных надписях говорит от первого лица. Вавилонский царь поистине был центром «Благодатного полумесяца», всё исходило от него и приходило к нему; по крайней мере он желал, чтобы все так думали. Отражало ли это реальность? В этом можно усомниться, но никаких доказательств обратного у нас нет. Случалась ли в связи с разработкой политической линии полемика среди придворных сановников? В предшествовавшем веке споры и распри при дворе ассирийских царей были острыми. При Навуходоносоре, надо признать, никаких следов их не заметно.
Царя окружали приближенные. Тексты их не описывают, и можно лишь догадываться, что это было за сообщество. Всех их объединяло лишь одно – личная связь со своим господином. Он решал, кто на каком месте окажется и какую роль будет играть. Все подчинялись его воле. Так, Навуходоносор держал бывшего иудейского царя Иехонию вдали от двора; когда он умер, его сын «возвысил главу» пленника, «переменил темничные одежды его, и он всегда имел пищу у него, во все дни жизни его», как сообщает Четвертая книга Царств. Был ли то каприз нового государя или, как предполагали некоторые, политический маневр? Так или иначе, решение Амель-Мардука характерно для такого образа жизни, при котором всё зависит от человеческих отношений, основанных не только на рассудке, но и на настроениях. Мать одного из преемников Навуходоносора, последнего вавилонского царя Набонида, говорит о таких порядках как о само собой разумеющихся; с наивным бахвальством она рассказывает о том, как проводила жизнь: «Двадцать один год, что царь Вавилона Набопаласар, и сорок три года, что Навуходоносор сын Набопаласара, и четыре года, что царь Вавилона Нериглиссар правили царством, шестьдесят восемь лет я почитала их всем сердцем, исполняла] их службу, [и] сына, рожденного из чрева моего, отдала во власть царей Вавилона Набопаласара, Навуходоносора и Нериглиссара, чтобы он днем и ночью всегда служил их благорасположению. Он не посрамил молвы обо мне перед ними. Они ставили меня высоко, как дочь свою от крови их». Как пишет Иосиф Флавий, Навуходоносор, еще будучи наследным принцем, без раздумий поручал основную часть своей армии «друзьям»; получив весть о смерти отца, он оставил войско в Сирии, а сам поспешил в столицу. Выходит, что в правящей группировке Вавилона царили отношения доверия со стороны господина и ответной преданности ему. Напрасно было бы искать в этой системе стройную организацию. Не только иерархия в целом не была четко выстроена, но и функция каждого царедворца в отдельности никогда не была строго определена. Это показывают бухгалтерские документы, составлявшиеся во дворце. Писцы фиксировали выдачу жалованья по мере того, как припасы поступали со складов; явно не существовало никакого поста, чей обладатель отвечал бы за бюджет. Ремесленники, курьеры, царь Иехония с сыновьями, начальники отрядов, садовники и даже кладбище (расходы на работы или на религиозные церемонии?) – все стояли в одном ряду. Прекрасный пример придворного, человека у власти являет собой Нериглиссар. Он был зятем царя, гражданским губернатором в Южной Вавилонии, и он же командовал войском при осаде Иерусалима в 587 году. Притом часто бывало, что различные функции он выполнял одновременно, а не последовательно. Более того, вполне допускалось, чтобы человек, исполняя публичные обязанности, вел вместе с тем свои частные дела, пользуясь государственной должностью для личного обогащения. Так и Нериглиссар стал компаньоном одного богатого вавилонского дельца, что было выгодно обоим.
Ближний круг царедворцев составляла царская семья в широком смысле слова. К ней следует прибавить Иехонию, пятерых его сыновей и его свиту – всего более тридцати человек. Рядом с ними жили сыновья царя Аскалона. Дворцовые службы должны были также содержать прибывавших в Вавилон сановников из Элама и Киликии, гонцов из областей империи и других держав.
Дворец управлялся наподобие большого частного дома, а его администраторы должны были кормить своих подчиненных и командовать ими. Один (к сожалению, поврежденный) текст дает их номенклатуру, сохранившуюся не полностью. Но его составитель не счел нужным указать, исполнение каких конкретных обязанностей было связано с определенными должностями; об этом мы можем только догадываться, исходя из их названий. В той части списка, где текст разборчив, перечислены (очевидно, с соблюдением иерархического порядка): главный интендант, главный повар, главный оружейник, […], смотритель дворца, […], начальник дворца, главный интендант женского дома во дворце, начальник ближней стражи, начальник над скороходами, начальники женской прислуги (числом четыре), виночерпий, начальник над певчими, писец на коже при наследнике престола, два начальника над скотниками, начальник над лодочниками и, наконец, начальник над царскими купцами. В других местах упоминаются «начальник кинжальщиков» и «хранитель печати» – это явно был высокий пост в администрации. По разным случаям в тексте называются и некоторые из низших служащих, но, надо полагать, далеко не все: садовник, водочерпий, водонос, портомой, изготовительницы благовоний, плотники, лодочники, конюхи. Для увеселения царя с приближенными во дворце имелись певчие и обезьяний вожатый; наконец, для обеспечения порядка – стражи. Пятнадцать писцов на глине записывали и читали административные документы и письма. Наряду с ними работали их коллеги, знавшие по-арамейски; число их неизвестно.
Судя по провиантским ведомостям, во дворце было много ремесленников, местных и приезжих; это объясняется большим объемом строительных работ: при Навуходоносоре возводились как светские, так и культовые постройки. У каждой ремесленной гильдии был глава, иногда из иноземцев; его роль была велика, поскольку некоторые бригады целиком состояли из невавилонян. Весь придворный штат состоял из мирян, в нем не было ни одного жреца – клир жил только при храмах. Вполне может быть, что во дворце отправляли службы жрецы, практиковали прорицатели и заклинатели, но все они приходили из храмов и возвращались туда, сделав свое дело.
Власть Навуходоносора над его окружением была абсолютной. Как он управлял остальным государством? В храмы рассылались царские инструкции; они исполнялись и затем самым бережным образом сохранялись в архивах: на вавилонского царя ссылались даже тридцать с лишним лет спустя после его смерти. Зато у городов была вполне реальная автономия. В VII веке они получили от ассирийцев многочисленные и существенные привилегии; в частности, их жители освобождались от общественных работ. Набопаласар не имел возможности отменить эти вольности, сын следовал его примеру.
Когда Набопаласар пожелал вновь отстроить ступенчатую башню в Вавилоне, он призвал «большие отрады от [своей] земли». Навуходоносор в начале своего царствования велел завершить восстановление этого здания «рабочим от Шамаша и от Мардука». Перифраза кажется вычурной, царь мог просто сказать: из Сиппара и Вавилона. Но ему было нужно прикрыться авторитетом этих богов; имелось в виду, что они дают оправдание его действиям. Таким образом, не царь, а боги налагали повинность на города. Видимо, сопротивление горожан мобилизации было достаточно сильным, раз Навуходоносор решил сослаться на авторитет богов. В то же самое время царь Вавилонский созвал для работ все народы империи с их правителями, так что повинность падала не только на Сиппар и Вавилон. Позднее Навуходоносор уже старался не провоцировать такими мерами недовольство городов своего царства. По случаю окончания перестройки отцовского дворца он созвал из Вавилонии и со всей империи на пир наместников тех территорий, которые волей-неволей участвовали в этих работах. Представителей стольных городов «страны» в официальном списке приглашенных нет. Не свидетельствует ли это о получении этими городами привилегии остаться непричастными к царскому предприятию? Эта гипотеза весьма вероятна.
Таким образом, пределы городских вольностей менялись в зависимости от обстоятельств. Дошедшие до нас тексты не говорят об этом ни слова. Это и понятно: льготы не фиксировались письменно, поскольку были, конечно, предметом переговоров при всяком очередном требовании власти. Однако послабления никогда не бывали фискальными. А вот обязанности работать на строительстве каналов и дорог жители стольных городов часто избегали.
Даже села не всегда подчинялись приказам сверху. В одном частном письме говорится, как о самом заурядном деле, о неповиновении согнанных для насыпки новой дамбы работников – то ли перепугавшихся, то ли чем-то недовольных: «Тогда все крестьяне ушли и пропали». В другом месте нам сообщают: рабочие разбежались из-за холода. Еще в одном случае начальнику пришлось доложить о своем бессилии самому царю: «Люди не хотят исполнять повинность». Требовалось схватить зачинщиков и заковать в кандалы. Но, предупреждает чиновник, если преступников арестовать и отправить в Вавилон, могут возникнуть большие неприятности. Вот еще одно дело: царский глашатай наложил на урукцев обязанность выполнить работы в Ларсе, но они всячески уклонялись и упрямо возвращались к себе в Урук. Надо сказать, что центральной власти было достаточно сложно контролировать исполнение ее указаний жителями этого удаленного от Вавилона города. В данном случае, хуже того, некто, являвшийся получателем письма с новым приказом, решился на убийство посыльного. Уполномоченный чиновник, в чьей компетенции находилось решение этого дела, предпочел от греха подальше замолчать эту неудачу.
Всё это были только местные инциденты. Как бы серьезен ни был каждый из них по отдельности, о мятеже против государства никто и не думал. Были ли вообще какие-либо коллективные политические протесты, оспаривавшие законность власти Навуходоносора? Официальные надписи молчат, но, разумеется, их молчание ничего не значит. Однако и в частных документах нет подобной информации. Только Вавилонская хроника сообщает о заметных беспорядках; но ее рассказ ограничивается перечислением фактов, не давая комментариев, так что насчет этого кризиса нет никакой ясности: «В десятый год царь Вавилона был в своей стране. Был бунт в Вавилоне от месяца кислима до месяца тебета; он сокрушил оружием своим […] его войска многие и взял врагов своими руками». Дело, таким образом, продолжалось от середины ноября до середины января по нашему календарю – не дольше. Досадная лакуна в этом уникальном источнике делает всё событие совершенно загадочным. В зависимости от того, что могло содержаться в пропавшем фрагменте, возможно одно из двух объяснений: либо войскам Навуходоносора, чтобы подавить мятеж, пришлось многих убить, либо избиение устроил его неизвестный внутренний враг. Первая гипотеза кажется нам предпочтительнее. В любом случае это выступление никак не было стихийным восстанием. У крестьян (и у горожан) никогда не было в обычае бунтовать, например, по случаю голода. Да в это время года недостатка в припасах и не бывало: их нехватка могла начать ощущаться лишь весной, когда зерно прошлого урожая уже кончалось, а время майской жатвы еще не наступило. Вне всякого сомнения, речь идет о кем-то организованном и направленном против царя мятеже. Хотя выражение «взять врагов своими руками» было расхожим, оно имело отнюдь не образный смысл. У него было вполне конкретное значение: состоялся бой, и глава победителей взял в плен главу побежденных. Вавилонский читатель так и понимал, что Навуходоносор лично сошелся с врагами в бою и полонил их. Таким образом, по всей вероятности, царю пришлось столкнуться с вооруженным восстанием. Так быстро «взять руками» своего главного недруга ему удалось, вероятно, потому, что бунт – хотя, возможно, и многолюдный – реальной опасности не представлял. Конечно, раз недовольные дошли до такой крайности, возмущение их было сильным; но о их резонах мы не знаем ровным счетом ничего. Так или иначе, дело было быстро улажено, причем Навуходоносор не боялся рецидива: по сообщению немногословной, как всегда, хроники, менее чем два месяца спустя царь покинул Вавилон и «отправился в Сирию».
Навуходоносор считал своим долгом «умножать страну». Это была его собственная формула. Но здесь надо сделать оговорку. Мысль о расширении территории для соплеменников путем аннексии приграничных земель была совершенно чужда царю, его современникам и преемникам. Таким образом, это выражение понималось в экономическом и демографическом смысле: миссией царя было увеличение богатств и повышение рождаемости в стране. Вавилоняне хорошо сознавали связь между тем и другим: на их взгляд, благоденствие и многодетность сопутствовали друг другу. Их общество было абсолютно наталистским, да и не могло быть иным. Для родителей потомство было единственной гарантией обеспечения на будущее: дети станут их кормить, когда сами они не смогут работать – в старости или из-за болезни. «Сильный живет тем, что в долг дает, а слабый тем, что сын принесет», – говорили они.
Была ли у Навуходоносора продуманная социально-экономическая политика? По всему судя, не было. Тем самым он, между прочим, следовал не лучшим примерам: именно так вели себя ассирийские цари VII века. Многие же вавилонские государи из столетия в столетие, напротив, хвалились своим попечением о благоденствии подданных. Навуходоносор, можно сказать, порвал с этой традицией. Вся его программа сводится к общей формуле, выраженной книжными словами: «Правая палица для доброго пастыря, верный посох для процветания народов – таков поистине навсегда удел, выпавший царствию моему». Невнимание Набопаласара к этой области жизни объясняется обстоятельствами его царствования: ему надлежало восстановить державу и овладеть империей. Но у его сына время было – не было желания заботиться о подвластном ему населении. Царь проявлял равнодушие к этим делам – ко всем, за единственным исключением: он на деле заботился о том, чтобы население Нижнего Двуречья не сокращалось. Вавилоняне жили в мире и покое, которыми были обязаны царю; пользовались ими все, но больше всего их плоды пожинали сельские жители. Кроме одного – и то непродолжительного – кризиса на десятом году царствования, страна при Навуходоносоре не знала войн и разрушений, какие бывали до 612 года.
Точно известно, что Навуходоносор много внимания уделял метрологии. Возможно, официальное ведомство мер и весов в Вавилонии существовало уже во II тысячелетии. Но вообще изготовление эталонов веса и объема не было царской привилегией: право на это имели любые общества, обладавшие достаточной властью – политической или экономической – или даже моральным авторитетом (например, храмы).
Каждая гиря и мера были удостоверены царским именем с титулом; кроме того, писались имена двух верховных богов страны. Например, на одной из гирь, найденной в Сузах, но изготовленной, несомненно, в Вавилоне, читаем: «Дворец Навуходоносора, царя Вавилона, повсюду свободно ходящего, упование его на Набу и Мардука, сына Набопаласара, царя Вавилона». На другой, обнаруженной там же, стоит надпись: «Вес сорок мин (около 20 килограммов. – Д. Л.), установленный. Ададбани, великий певчий Мардука, был экономом, когда ставили этот памятник. Вес Мардука равен весу Дома под высокой кровлей, Дома правды и Царского дома». Таким образом, легенда гири подчеркивает единство между мирской властью и религиозным авторитетом двух крупнейших храмов Вавилонии.
Впрочем, от изготовления эталонов было не много практической пользы. И гирь, и сосудов такого рода было мало, они делались из дорогих материалов: гири обычно были гематитовые[29]29
Гематит – довольно часто встречающийся минерал, оксид железа, часто красно-бурого цвета; название происходит от haima (греч.) – кровь. (Прим. ред.)
[Закрыть], сосуды – алебастровые (металлические образцы времен Навуходоносора нам неизвестны). Все они делались с большим мастерством, становясь произведениями искусства. Их считали столь же драгоценными, как и печати. В повседневном ходу были только сикли (несколько менее 8,5 грамма) и их доли. К тому же и взвешивались только драгоценные металлы (по всей империи) и пурпур (на средиземноморском побережье).
Особый интерес вавилонского царя к метрологии имел более важную, на его взгляд, причину, чем регулирование экономической деятельности. Вавилоняне имели некоторое представление о том, что такое инфляция, и на опыте видели, каковы бывают ее последствия. Монетной системы они не знали, хотя изобретена она была в Лидии в последние десятилетия VII века. Поднимать цены они могли только одним способом – подпиливая эталоны, ведь при записи сделок общим эквивалентом служил вес серебра. Рассылая более тяжелые эталоны, этот процесс можно было направить вспять. Впрочем, царю нечего было опасаться инфляции на протяжении своего правления. Она была очень невелика – составила 100—150 процентов за период с VI по III век. Если считать в столетии примерно по три поколения, то в течение жизни каждого из них цены росли не больше чем на 15 процентов. Впрочем, будь инфляция и сильнее, основная масса населения этого бы не заметила и не пострадала бы от нее. Крестьяне жили натуральным хозяйством, покупая на местных рынках лишь очень немногие товары. Для них общим эквивалентом было не серебро, а ячмень. Его мерили на объем. Если же зерно начинали взвешивать, это было знаком катастрофического положения в сельском хозяйстве.
Стабильности цен способствовали и другие обычаи, ведь цены регулировались не только действием экономических законов. Стоимость – по крайней мере средняя – определялась традиционной арифметикой. Она была основана на шестидесятеричной системе счисления, основанной на ученых расчетах; но во многих случаях применялась и повседневная десятеричная система.
Цены должны были находиться в простом соотношении как с единицей (то есть шестьюдесятью), так и между собой. Применялась расчетная таблица, где все показатели соотносились в целое число раз. Пальмовая роща или сад стоили вдвое больше, чем поле той же площади. Дом был равен кораблю, и оба они приравнивались к единице. Дом сдавался в аренду за 20 сиклей, то есть за треть продажной цены. Ссуда обычно давалась под 20 процентов годовых; это значило, что за взятую мину (60 сиклей) надо было платить 12 сиклей в год, то есть сикль в месяц. Считать таким образом было просто. Годовой минимум ячменя для прокорма стоил два сикля – столько же, сколько баран. Бык стоил в десять раз больше – треть дома. Плата рабочим, как легко понять, бывала самой разной, доходя иногда до 60 сиклей в год; по-видимому, чаще всего платили 12 сиклей (при харче за хозяйский счет). Тот же принцип соблюдался и для товаров, даже импортных: штука пурпурного полотна из Финикии стоила 15 сиклей – четверть единицы; обычная одежда, сотканная в Вавилонии, – всего лишь тридцатую часть единицы.
Отказаться от этих расчетов – чисто теоретических, но весьма удобных (они легко запоминались и применялись) – было непросто; не принимать их во внимание значило оборвать вечную опору вавилонской жизни – уважение к преданию. Идеальная таблица не была обязательной, не опровергала закона соотношения спроса и предложения, но в определенной мере влияла на них и смягчала возможные колебания цен.
На самом деле для вавилонян главным в метрологии было не это. Эталон они считали прежде всего чрезвычайно важным политическим, а то и религиозным памятником. До Навуходоносора лишь немногие государи вводили новые стандарты; все они, без исключения, начиная с конца III тысячелетия проявляли себя как честолюбивые реформаторы, старавшиеся навести порядок во всех областях жизни. Навуходоносору это было известно; одна из гирь, обнаруженных в столице, говорит о желании вавилонского монарха продолжить традицию предшественников. На ней написано: «Мина установленная, принадлежит Мардуку, царю богов. Сделана с гири, поставленной Навуходоносором, царем Вавилона, сыном Набопаласара, царя Вавилона, сделанной с гири Шульги, древнего царя».
Ключ к пониманию этой надписи – прилагательное, которое мы за неимением лучшего переводим как «установленная». На самом деле его значение гораздо богаче: «надежная», «законная», «закрепленная» (де-юре и де-факто). Оно встречалось на эталонах мер почти всегда, ибо подтверждало одну из фундаментальных идей вавилонянской цивилизации. Это определение обозначало установление нового порядка, прямо указывало на то, что прежнее мироустройство отброшено; оно выражало волю царя сотворить начиная с настоящего времени нечто устойчивое; чем дальше во времени отстоял образец, на который ссылалась надпись, тем лучшим он представлялся. Реформа черпала авторитет не столько у царствующего монарха, сколько по возможности у самого дальнего из его предшественников. Навуходоносор не нашел никого лучше, чем Шульги, царь Шумера и Аккада (2094—2047). Даты его правления тогда знали наверняка, но сочинитель надписи благоразумно не уточнял их: главное, что это был древний царь.
Метрология Навуходоносора стала чрезвычайно знаменитой и впоследствии считалась абсолютной шкалой. Это доказывается образом действий его преемников: сын и зять тоже изготавливали эталоны, однако им уже не нужно было ссылаться ни на какого гаранта – достаточно было назвать себя «царем Вавилона». Этот титул, позаимствованный у предшественника, давал их делам достаточную политическую и экономическую легитимность.
Когда война с Ассирией завершилась и страна перешла к мирной жизни, экономика Вавилона продолжала страдать от двух бед: засоления почв и недостатка квалифицированной рабочей силы. О второй напасти Навуходоносор прекрасно знал и делал всё возможное, чтобы от нее избавиться. На это по крайней мере его прозорливости хватало, и здесь результаты были налицо. Зато перед первым несчастьем царь оказался совершенно безоружен. Земли начали гибнуть за пару тысячелетий до него в связи с ирригацией. Без нее было не обойтись, ведь выпадающих осадков еле-еле было достаточно для злаковых культур. Пальмы же требовали очень много воды под корень (и именно под корень); ее мог дать только полив. Поэтому пальмы сажали по берегам каналов, а дальше размещали ячменные и полбяные поля. К счастью, от Персидского залива и как минимум до Урука действовали еще и приливы: дважды в день они нагоняли пресную воду в пальмовые рощи.
Засоление происходило медленно – настолько медленно, что вавилоняне его не замечали, тем более что и погода была всё время одинакова. Реки, правда, иногда меняли русло, но в целом природа, среди которой жили здесь люди, оставалась неизменной. У них просто не было никаких опорных точек во времени – например, статистики урожаев по столетиям. Да и пойми они, в чем беда, что они могли бы предпринять? Рост уровня засоленности почв был неминуем, падение урожаев, следовательно, тоже неизбежно. Вавилоняне думали, что борются с бедой, доставляя всё больше воды, но на самом деле этим только усугубляли положение: испарение становилось интенсивнее, скопление соли, поднявшейся из-под земли, больше. К тому же разлив Тигра и Евфрата приходился на неудачный момент – заканчивался в начале лета, так что на самое жаркое время приходилось копить запасы воды; от этого убытки становились еще больше.
Показателей демографии мы не имеем, но, думается, не больше нашего знали и современники Навуходоносора: у них также не было этих цифр. Нам, как и им, известно только то, что они видели своими глазами, а мы сегодня представляем по археологическим раскопкам: запустение деревень. Нынешние исследования не охватывают всей Вавилонии, но, не входя в подробности, можно прийти к такому выводу: в конце II тысячелетия население страны было меньше, чем в начале; в начале следующего тысячелетия положение, видимо, не улучшилось, и лишь в VI веке намечается небольшой рост числа и площади населенных мест. Эта тенденция была, без сомнения, стойкой, она продолжалась и в следующем столетии. Свидетельства тому имеются и в округе Дияла, и в окрестностях Урука; можно полагать, что она действовала и на всей остальной территории Вавилонии. Запустение сельской местности было весьма огорчительным фактом, но для властей оно неожиданно оборачивалось одним важным преимуществом: для кочевников, разводивших овец и верблюдов, освобождалось пространство, на котором крестьяне уже не работали и, следовательно, не спорили из-за него. Распри между оседлым и кочевым населением были ожесточенными и в начале II тысячелетия не утихали во всех долинах Ближнего Востока. Для правителей того времени это была самая неотступная проблема: контроль за бродячими племенами, их закрепление на земле было неприятной и постоянно вновь возникавшей задачей. При Навуходоносоре таких столкновений, кажется, больше не было, ведь и причина для них пропала: теперь земледельцы и скотоводы могли уживаться рядом – земли хватало и тем и другим.