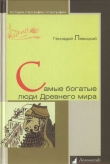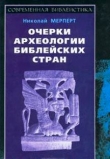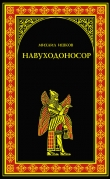Текст книги "Навуходоносор II, царь Вавилонский"
Автор книги: Даниель Арно
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Храмы придумали оригинальную форму ведения хозяйства: продажу пребенд[37]37
Пребенда (новолат.) – доход духовенства в Западной Европе от церковной должности (с земель, домов, церковных сборов, треб и т. д.).
[Закрыть]. Эта система была разработана в начале II тысячелетия, а впоследствии ползала всё большую популярность. Наивысшего развития она достигла в VI веке. Говоря по-нынешнему, это была просто эмиссия акций. Капиталом был храм – всё его имущество, движимое и недвижимое, и всякого рода доходы. Храмовая администрация продавала на определенное время «доли» жреческих обязанностей, исполнявшихся в стенах святилища. Как бы именно ни обозначались эти обязанности, они всегда были чисто формальными: покупатели на самом деле не несли службы, обозначенной в контракте, – за них это делали специальные члены клира. Да и физически это было бы невозможно: «доли» составляли несколько дней, а то и часов, так что такую службу было бы до неразрешимости сложно организовать. Вследствие этого собственно религиозные функции в точном смысле этого слова продаже не подлежали – за них должны были отвечать компетентные люди; от покупателя же, естественно, никакой квалификации не требовалось. Пребенды были наследственным достоянием: давались в приданое, завещались, продавались и[38]38
Нинкаррак (шумер.), в аккадской мифологии богиня-врачевательница, отождествлялась с Гулой.
[Закрыть] покупались по рыночному курсу (как участники сделок оформляли их, мы не знаем). Вот пример документа из Ларсы, датированного 29-м годом царствования Навуходоносора: «Запись пребенды пивоварни на службе бога-солнца и Айи (его супруги. – Д. А.): два дня месяца шабат (середина января – середина февраля. – Д.А.), 24-й и 25-й день. Шамаш-зеру-либши, сын Этеллу, у Шамаш-зера-ициса узнал ее цену: 12 сиклей серебра в брусках, и купил ее».
В зажиточных семьях пребенды всегда высоко ценились: это было превосходное вложение денег, поскольку доход, по-видимому, был высок. Проценты выплачивались натурой соразмерно стоимости «обязанностей». Таким путем пребендарии делили между собой бенефиции храма – то, что оставалось от жертвоприношений после получения своей доли храмовыми служителями. Впрочем, конкретный механизм распределения нам неизвестен.
Институциональную связь между главным храмом стольного города и самим городом с его округой выражало «собрание». Оно окружало храмовое управление «старейшинами» и «гражданами»; это были только мужчины (рабы и иностранцы в него не допускались) разного социального положения: в их число входили сами горожане и жившие за городскими стенами селяне, миряне и жрецы, чиновники, ремесленники и лица «свободных профессий». Все они были ответственны перед государственной властью. Государство в «собрании» тоже было представлено, часто в нем председательствовал сам царский правитель. Заседания проходили внутри священной ограды, что, впрочем, имеет простое и рациональное объяснение: только в храме было достаточно пространства, чтобы удобно разместить участников столь многолюдного сборища. Других подходящих зданий в вавилонских городах обычно не имелось.
Именно в храмовых «собраниях» проявлялся местный патриотизм, ими же он и подпитывался. В начале II тысячелетия это чувство было очень сильным, тем более что большинство стольных городов тогда являлось столицами независимых царств. В конце этого и в начале следующего тысячелетия они, сами к тому не слишком стремясь, обрели фактическую независимость: царь в Вавилоне тогда был лишь номинальным правителем. Хотя потом царствовали уже сильные государи, прежняя политическая гордость сохранилась. Она подкреплялась всеобщим, с незапамятных времен, поклонением главному божеству города. В течение тысячелетий в каждом вавилонском городе такое божество всегда было одним и тем же. Эти союзы были неразрывны. Как гласила пословица, «Шамаш скрепляет Ларсу, как асфальт корабль».
Но для жителей бог, живущий в самом великолепном храме, был защитой, воплощением и символом города. Светская и духовная власти старались сотрудничать и даже мало-помалу обмениваться ролями, бок о бок исполняя одни и те же обязанности. Пребендарии блюли свои экономические интересы: им был прямой резон желать возможно большего процветания религиозной организации, чью финансовую судьбу они разделяли, и способствовать этому процветанию. Все вместе эти обстоятельства приводили к тому, что население каждого стольного города как можно теснее сплачивалось вокруг своего святилища.
Навуходоносор не мог не признавать этого слияния; так же поступал его отец, ко времени восшествия на престол которого слияние было уже полным. По одной из формул стольные города были «городами великих богов», а потом уже «страны Шумера и Аккада». Таким образом, даже в царских надписях религиозная дефиниция была важнее политической. Правда, то была уступка больше на словах, чем на деле. В реальности на всём протяжении царствования Навуходоносора полномочия храмовых «собраний» держались в узде. Царский авторитет без видимых усилий не давал им возможности выйти из первоначальных рамок. Они позволяли себе разбирать лишь гражданско-правовые споры да наказывать преступления, сочтенные не слишком тяжкими.
В любом случае можно было обратиться к светской власти. Но всё было готово к тому, чтобы при соответствующих обстоятельствах эти учреждения стали играть роль настоящего правительства, соперничающего с центральной властью или заменяющего ее.
Теоретические основы вавилонской религии были просты и установлены искони. Боги и богини были бессмертны. Внешне они были подобны человеку – только великолепны обликом; они передвигались с нечеловеческой скоростью и не знали препятствий; они представали перед верующими, окруженные сияющим нимбом. Правда, если почитать мифы, там боги не являли собой пример ни ума, ни доброты, ни даже нравственности. Притом все они, несмотря на неизмеримое превосходство над человеком, имели те же нужды. Люди, построившие им дома, должны были и заботиться о них. Ведь у храмов была лишь одна функция – совершать богослужения, иными словами – беспрерывно кормить, одевать и развлекать божество. Если люди самовольно пренебрегали этими обязанностями, им грозили самые страшные последствия. Такой определенный антропоморфизм не вызывал никаких трудностей и сомнений; что бы ни случилось, никому в Вавилоне не приходило в голову критиковать его. Служение богам решительно уподоблялось служению человеку, только превосходило его, насколько позволяли средства. Хлеб, сладости, пиво и вино, рыба и мясо (от говядины до голубятины) составляли основу меню всякого вавилонского богача. Так человеческая община гарантировала себе стабильность и процветание; но храмы добивались этого лишь строжайшим обособлением сакральной зоны от остального городского пространства. Миряне, населявшие это пространство, оправдывали существование священной ограды: они не имели права участвовать в обрядах и даже присутствовать при них.
Стоило прерваться культу, как общество, можно сказать, распадалось. Поэтому на жречестве лежала особая ответственность, но и для мирян его труды имели большое значение. Что же до государя – гаранта общественного порядка, – то его настоятельным долгом было обеспечить возможность постоянного совершения обрядов в каждом божественном «доме» по всей стране. Навуходоносор, как и его отец, решительно принял на себя эту наивысшую обязанность.
Божество физически присутствовало в «святая святых» – там стояла его статуя. Никогда (за исключением совсем маленьких храмиков) божество не было одиноко – его сопровождала семья по образцу мира людей: жена (или муж), дети, слуги. Ни одну из этих статуй не пощадило время: они были чрезвычайно непрочны. Самые грандиозные истуканы делались из деревянной арматуры; на этом каркасе держались роскошные вышитые одежды, скрывавшие его; из-под них видны были только лицо и кисти рук, сделанные из слоновой кости, золота и серебра. Небольшие статуи были металлическими или каменными.
Вавилоняне так хорошо отдавали себе отчет в том, что их культовые статуи – материальные предметы, что позволяли себе рассказывать об их изготовлении – правда, с должным почтением. Хотя ремесленники в процессе работы над статуей молились божеству, но делали ее человеческие руки. Законченная и вышедшая из мастерской статуя «оживлялась» при помощи магической церемонии: в простую вещь «вдувалась душа». Совершалось пресуществление: вещь становилась богом, столь же реальным и живым, как этот бог вне храма, в небесах. Вот почему «пресвятой тамариск» называли «костью богов».
Итак, обряд состоял в том, что богам и богиням подносили трапезу, приготовленную не на глазах у них, а на храмовой кухне, как делалось в доме любого высокопоставленного человека. Служба сопровождалась музыкой и пением. Созерцая жертвенные блюда, боги тем самым насыщались ими. Затем вся еда убиралась и делилась между служащими соответственно рангу. Иногда к приготовленным блюдам прилагались груды сырых продуктов. Время от времени – очень редко – боги, то есть статуи, выходили из «святых» помещений, отправлялись участвовать в процессиях или гостить друг у друга. Круг богослужений следовал за лунным календарем, особыми церемониями отмечались полнолуния и новолуния. Кроме того, литургический год каждого храма включал особые праздники в честь главного божества и второстепенных, окружавших его. Все прочие ритуальные действия лишь дополняли основной культ. Эту роль играли прорицатели и заклинатели: первые замечали грозящее зло, вторые отгоняли его.
Богослужение осуществляли специалисты и только они. Жрецы занимались своим делом так же, как любой ремесленник. Никакого особого «призвания», «благодати» от них не требовалось – божественный голос к ним не обращался. Часто эта профессия была наследственной; за людей решала семейная традиция – так же, как в семье гончара или матроса. Конечно, жрецы должны были соответствовать кое-каким требованиям: быть свободными, происходить из хорошей семьи, не иметь физических недостатков. Но вне богослужений они вели мирскую жизнь: женились, не носили особенных одежд, не соблюдали ограничений в пище или каких-либо иных. Перед посвящением в сан проверялась их пригодность, после чего они поступали в храм.
Служители храма занимались культом статуи; они были, так сказать, ее домашними слугами. Обучение они проходили в устной форме у старых жрецов, перенимали у них молитвы и священные действия, а потом точно так же сами передавали их своим преемникам. При этом они не пользовались записями. Найдено очень мало официальных служебников, и объясняется это тем, что жрецы знали все тексты наизусть. Духовное пение преподавалось таким же образом.
Прорицатели и заклинатели, напротив, были учеными писцами: читали, издавали и комментировали свои руководства. Они в основном работали в храме, но в отличие от жрецов им случалось заниматься своим ремеслом и «в городе» – выполнять заказы мирян, когда те считали необходимой их помощь. Вавилоняне в повседневной жизни непрестанно обращались к ним, чтобы узнать будущее, отвести злые чары, благословить новый дом, изгнать беса из больного. Тем самым заклинатели и прорицатели становились посредниками между двумя мирами: обиталищем божества внутри священных оград и городом, окружавшим его и отделенным от него.
Мирянам очень редко случалось приходить в храм. Делали они это по личной инициативе, поодиночке, по случаю: испросить божественной помощи или поблагодарить за исполнение молитвенной просьбы. Так или иначе, во всех случаях между богом и его почитателем, не знавшим установленных формул и ритуалов, стоял «технический» посредник – жрец.
Хозяйственная система храма позволяла очень легко сводить баланс бюджета, поскольку соотношение доходов с расходами было всегда неизменно: когда обильные приношения или умелое ведение хозяйства увеличивали поступление средств, богослужения становились пышнее, при этом и служащие получали больше, кроме того, можно было увеличивать вложения капитала. Текущий ремонт зданий жречество могло осуществлять своими силами. Но полная реставрация всегда требовала больших финансовых ресурсов. Сами стольные города не имели средств на нее, и тогда в дело вступал государь.
Навуходоносор понимал важность этой своей роли. Только у него в Вавилонии была обязанность и возможность решить эту гигантскую в масштабах страны задачу. Его отец этого просто не успел. Навуходоносор хотел показать современникам и оставить потомкам образ царя-строителя: «Я надписываю имя свое на том, что восстановил из развалин».
Храм каждого стольного города Вавилонии был приведен в порядок и в случае надобности перестроен; то же было в Сузах и на островах Персидского залива (Файлаке и Бахрейне). Государь обратил взор на все города своего царства без исключения; объектами его попечения оказались 12 городов. Храмов, в которых велись работы (без учета тех, что находились в самом Вавилоне), насчитывается 21, причем некоторые из них к началу восстановления лежали в руинах. Конечно, не все здания были велики, но некоторые достигали внушительных размеров. Например, «Блистательный дом» бога-солнца в Ларсе имеет в длину 320 метров, а в ширину, в самом широком месте, 80 метров. Добавим сюда столичные храмы – их было 15. Но надписи составлены лишь в честь пяти богов: Мардука в Вавилоне, Набу в Барсиппе, бога города Киш, «Царя Марада» в Мараде, бога-солнца в Сиппаре и бога-солнца в Ларсе. Список богинь еще короче: «Верховная госпожа» (нечто вроде богини-матери) в Вавилоне и Гула.
Иштар, лунный бог Ура, Нергал и бог Дера не удостоились «именных» надписей. Между тем эти божества были фигурами первостепенными: им поклонялись по всей Вавилонии, а отнюдь не только в родных городах. Этот пробел объясняется географическими факторами: Навуходоносор составлял особые надписи лишь для северных городов – для бывшей «страны Аккада». Кроме столицы и ее города-спутника Барсиппы, это были Сиппар, Марад и Киш. Южные города обошлись «простой» формулой. В действительности работы в Уре были очень значительными, но сообщалось о них всего лишь шестью краткими строками. А ведь вавилонский царь перестроил там священную ограду, сделав ее настоящей внутренней крепостью: общая толщина двух ее параллельных стен достигла теперь 12 метров. Внутри нее Навуходоносор построил придел бога-луны в главном храме, храмовый двор и еще несколько жертвенников. Одновременно государь велел перестроить и почти весь город и обнести его стеной для защиты жителей и храма.
Навуходоносор особо почитал сиппарского бога-солнце, и это почитание распространилось на такого же бога на юге. В Ларсе, как и в Сиппаре, был «Блистательный дом», также посвященный солнцу. Кажется, большого интереса к южной части страны (древнему Шумеру) у Навуходоносора не было; но для Ларсы он, ради ее бога, сделал исключение. Надо сказать, сам Мардук проявил благосклонность к новому храму и засвидетельствовал свое покровительство царскому предприятию посредством необыкновенного происшествия – можно сказать, явления чуда (сохраняем несогласования оригинала): «Тогда Блистательный дом, храм бога-солнца, расположенный в Ларсе, давно ставший в развалинах, и где навалило песка, расположение его нельзя было узнать. При моем царстве Мардук, господь великий, заключил мир с этим храмом. Он поднял четыре ветра, чтобы поднять его из земли и чтобы расположение его стало видно. Меня, Навуходоносора, царя Вавилона, верного слугу своего, он высочайше послал заново отстроить этот дом».
Когда здания снова становились пригодными для богослужений, Навуходоносор заботился о том, чтобы в них приносились жертвы. Он велел написать: «Я благоустроил храмы великих богов много лучше, чем мои царственные предки». Он давал баранов для жертвоприношения, справедливо названного в служебниках «царской жертвой». Делал ли он что-то сверх того? Во всяком случае, такое впечатление создается при рассмотрении некоторых фрагментов его надписей. В них Навуходоносор особенно настойчиво говорит о том, какие роскошные пиршества устраивались тому или иному богу; так, он велел ежедневно давать Мардуку «двух быков сильных и жирных, одного красивого быка, прекрасно сложенного, жирного барана, прекрасно сложенного, без пятен, сорок восемь превосходных откормленных длинношерстных баранов <…>, четырех уток, сорок голубей, тридцать птиц, четырех утят, трех мышей, связку рыб из глубокого моря, украшение болот, овощей во множестве, плоды садовые, финики обыкновенные и лучшие, фиги, изюм, пиво доброе, масло и сладости, молоко, вино, семена <…> и <разные> вина». Список этот то и дело повторяется в разных царских текстах с вариациями. По-видимому, в нем нет преувеличения: стол Мардука и Набу, безусловно, был чрезвычайно обилен. Менее влиятельные божества питались не так великолепно и разнообразно. Так, Нергал с супругой занимали в пантеоне почетное место, однако в своем храме в Куте получали в день только восемь баранов. К тому же царь обходит молчанием вопрос, кто же на самом деле поставлял эту снедь. На нем или на жречестве лежала обязанность добывать ее? Царские формулы двусмысленны, причем составитель сделал их такими намеренно. Тем самым делался намек (достаточно прозрачный) на реальное положение дел: государь регламентировал, что должны совершать жрецы, а те были обязаны за свой счет исполнять царские повеления. Одним словом, Навуходоносор выставлял себя перед страной в наилучшем свете: он был царем, заботящимся даже о мелких подробностях удовлетворения потребностей богов. Если бы случилось небрежение, оно было бы поставлено в вину только храмовому начальству.
Будучи к нему благосклонен, Навуходоносор в то же время пристально за ним надзирал. От его имени этим занимались правители во всех стольных городах; в частности, они могли, если считали необходимым, вмешиваться в деятельность храмовых «собраний». Царь наблюдал даже за распределением провианта среди храмовых рабов. Дело было отнюдь не в том, что его волновала их участь; он не интересовался тем, в каком они, собственно, находились положении. Царь, адресуясь к их начальству, требовал от него лучше управлять работниками. Может быть, он тем самым замышлял политику, которую персы 100 лет спустя стали проводить открыто: поддерживать рабов против жрецов, ослабляя власть последних изнутри, однако не доводя до явного конфликта? Навуходоносор мог иметь такую мысль, но нигде ее не выразил.
На публике царь всегда соблюдал позицию строгой справедливости. С одной стороны, он следил за тем, чтобы храмы исполняли свои обязанности. С другой стороны, он рассматривал их судебные тяжбы. Царское решение от января 593 года, к примеру, показывает, как энергично он следил за тем, чтобы не ущемлялись их права на земельную собственность. Некий землевладелец захватил землю, отданную в дар Набу из Барсиппы, а затем завещал ее сыну по имени Баба-аха-иддин. Тот, приняв наследство, тем самым совершил преступление: «Решился он на преступное дело. Тогда Навуходоносор, царь Вавилона, царь разумный, пастырь пространных народов, озирающий все страны, подобно солнцу, основатель права и справедливости, гроза дурных и злых, посмотрел на дурные дела Баба-аха-иддина <…>; он уличил его в преступлении, которое тот совершил среди добрых людей; он посмотрел на него сурово и гневно; он приговорил его к смерти, и тому перерезали горло». Половина поля была возвращена законному божественному собственнику, после чего храм по всем правилам продал это имущество. Вторая же половина возвращена не была, и составитель текста (написанного, надо сказать, очень невнятно) странным образом забыл указать причину.
Меры, проводимые Навуходоносором в пользу храмов, были необычного рода, ведь благодаря им царь соприкасался разом и со священным, и с обычным миром. А для его подданных граница между хозяйственной деятельностью и богослужением была вполне отчетливо. Здания, которые он восстанавливал из развалин, давали приют богам; одушевленные статуи покровителей города находились под защитой стен, которые он богато украшал. Из всего, что царь делал в вавилонской провинции, он не упоминал почти ни о чем, кроме богоугодных дел, ведь они имели две стороны – культовую и политическую. Так государь максимально приближался к святилищам, не становясь при этом жрецом и ни на минуту не покидая светского состояния.
Вавилонский царь переносил свою славу на великие постройки. Его покровительство поддерживало храмы, обеспечивало им господствующее положение в жизни царства. Навуходоносор ясно видел здесь выгоду для себя и для государства, однако создавалась вероятность того, что в будущем каждый из храмов мог стать единственным центром, хозяином стольного города, над которым доминировал, и поглотить всю его жизнь: сначала – религиозную, потом – светскую, наконец – сам город и его окрестности. Царская власть рисковала оказаться слабой по отношению к возвысившимся благодаря ей храмам, которые могли перестать считаться с ней. Стоило ей хотя бы частично утратить силу, как борьба за влияние завершилась бы в пользу храмов, а централизованное светское государство потеряло бы мощь. Повсеместное сплочение городских жителей вокруг главных святилищ на деле имело два разнонаправленных последствия: обеспечивало во всех городах реальную консолидацию общества, но в то же время грозило раздробить «страну Шумера и Аккада» на автономные княжества; местный эгоизм мог привести к тому, что они стали бы безразличны друг другу, а то и враждебны. Словом, центростремительная сила в каждом городе оборачивалась центробежной для всей Месопотамии. Боялся ли Навуходоносор подобной ситуации? Видел ли он хотя бы ее возможность? Его престиж был так высок, что при его жизни эта опасность была совершенно невероятной. Но, судя по его отношению к Вавилону, он вначале смутно предвидел, а потом смиренно признавал ее.