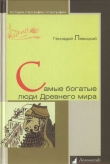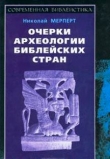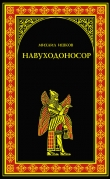Текст книги "Навуходоносор II, царь Вавилонский"
Автор книги: Даниель Арно
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Читая тексты, мы никак не можем узнать, что же вкладывалось тогда в понятие «раб»; да и сами вавилоняне едва ли смогли бы растолковать нам это. Для нас рабом является тот, кого документы прямо так называют. В отличие от свободного человека, к его имени обычно не присоединяли отцовское, но такое правило было далеко не обязательным: если в тексте юридического или экономического характера надо было избежать двусмысленности или одноименности, имя отца ставили. Ведь рабы имели право создавать семьи, и родители рабов были известны. Допускались и смешанные браки. По общему правилу свободные и рабы получали одинаковую плату за работу. Одинаковы были у них и жизненные чаяния. В повседневной жизни между ними не было никакой разницы: при любом юридическом статусе богатые жили в роскоши, а бедные – в нужде.
Мы располагаем многочисленными свидетельствами о побегах рабов, но этому явлению не стоит придавать чрезмерного значения: письма современников упоминали о них так часто потому, что и писались именно с целью зафиксировать эти случаи. Да и свободные люди также могли нелегально покидать место жительства. И те и другие были чаще всего нищими сельскохозяйственными рабочими, слабо связанными со своими общинами. Никак не может быть, чтобы таким образом они стремились избавиться от жизненных тягот; к сожалению, до сих пор еще никто не задался вопросом о причинах их действий.
Беглецу надо было просто оставить дом и сменить место жительства. Вавилоняне были большими домоседами, путешествовали очень редко; поселиться в другом городе значило для них попасть в другой мир. Как правило, при желании находился свободный сообщник, готовый предоставить убежище. Отлучка виновного, пока его не задерживали, могла длиться десятилетиями. Притом беглецы, кажется, ничем не рисковали – им не грозило никакое наказание. Все убытки нес их собственник. Прибегнуть к помощи центральной власти было совершенно невозможно – она не вмешивалась в эти дела; так что хозяину приходилось отыскивать свое одушевленное добро на свой страх и риск. Только у храмов было достаточно служителей, чтобы посылать на розыск пропавших. Остальным оставалось ждать доноса или полагаться на удачу (или неудачу – с какой стороны посмотреть).
Осуществить побег было очень легко еще и потому, что по внешнему виду свободные жители, Вавилонии от рабов ничем не отличались. В начале II тысячелетия несвободные носили особые головные уборы, но потом этот обычай забылся. В VI веке рабу или рабыне иногда ставили на руке имя владельца, но такой способ удостоверения принадлежности раба был неудобным, так как хозяин мог меняться. Поэтому к нему прибегали редко, за исключением случаев, когда хозяином был храм. Для храмовых рабов «господином» или «госпожой» было только местное божество. Рабов для храма приобретали навсегда: продавать или перепродавать их не было резонов. К тому же новый хозяин, даже при обнаружении такой отметины, мог ею не заинтересоваться либо (если он был нечестным человеком) не согласиться с ней считаться. Поэтому в ряде случаев юридический статус человека устанавливался в тяжелейших спорах; нередко суды могли определить, раб перед ними или свободный, только на основании случайных свидетельстве
Раб нес ответственность по гражданскому и уголовному законодательству. Его свидетельство принималось в суде, он мог выступать и истцом. Он бывал свидетелем при заключении контрактов и сам их заключал. Кроме того, он мог являться поручителем за собственного хозяина, давать в долг, брать взаймы, вступать в торговую компанию вместе со свободными. Некоторые рабы в качестве деловых агентов защищали интересы своих хозяев. Бывали они и арендаторами, и субарендаторами, так что нередко случалось, что рабы эксплуатировали свободных в качестве наемных рабочих. Они владели домами, полями, пальмовыми рощами, мастерскими и, наконец, сами имели рабов.
Чем же в таком случае рабы принципиально отличались от свободных? Кажется, было лишь одно ощутимое отличие: раб, независимо от пола и возраста, не имел права противиться своей продаже; в общем, он был приписан к тому или иному недвижимому имуществу. С его положением в обществе и деловыми успехами при этом не считались. Но в случае продажи семьи рабов не разлучались: это запрещали если не законы, то обычаи.
Почему же положение рабов было таким сравнительно благополучным и, если угодно, двойственным? Понятно, что порабощенные сохраняли в себе неустранимую частицу личности. Но в пользу такой мягкости в обращении с рабами были и экономические доводы: рабов и рабынь, как вавилонского происхождения, так и привезенных издалека, было по-прежнему немного. Нам сейчас нелегко определить среди них иноземцев, поскольку хозяин мог дать им вавилонские имена. У многих семей рабов вовсе не было, и даже самые богатые имели всего от двух до пяти человек. Оценить долю рабов среди всего населения сейчас невозможно; назывались цифры от половины до трети жителей «страны», включая сюда и частных, и царских, и храмовых рабов; но это не более чем гипотезы. Однако достоверно установлено: хотя в Вавилонии рабский труд использовался, вавилонское общество не существовало за счет эксплуатации этого труда.
Немногочисленность рабов объясняется тем, откуда они брались. Рабами были дети рабов, в том числе рожденные от смешанных браков – независимо от того, был свободным отец или мать. Кроме того, люди подбирали детей-подкидышей и делали их своими рабами; такой способ практиковали в начале II тысячелетия, но потом почти вовсе перестали использовать. Чаще же родители, вынужденные оставить детей, поручали их храмам. В VI веке несостоятельные должники и их жены уже не продавались в счет уплаты долгов, как было прежде, ни по собственной воле, ни по требованию кредитора; впрочем, оставалась еще оговорка, что в рабство можно было обратить их детей. Значит, эти источники не могли дать значительного количества рабов для Вавилонии; извне рабская сила при Навуходоносоре также не прибывала в массовом количестве. Царь и не собирался ее поставлять: отказ от порабощения свободных людей из побежденных народов был его постоянной политикой; они оставались дома или переселялись, но всегда в прежнем своем качестве.
Таким образом, рабы были дороги. В среднем раб стоил 60 сиклей – одну «единицу» (рабыня – вдвое дешевле). Цена говорила не только о стоимости в экономическом смысле. Она имела и символическое значение: в клинописи число 60 обозначается вертикальным «гвоздем», но тот же знак ставился как определитель и перед всеми собственными мужскими именами. Итак, графически «60» означало «человек», но в то же время выражало и его денежную стоимость. Предполагалось, что свободный человек не может задолжать больше этой суммы. Так что раб был капиталом. Он стоил в пять-шесть раз больше расходов на свое содержание; если он приносил в качестве капитала обычную среднюю прибыль в 20 процентов годовых, то владелец окупал расходы на его покупку за пять лет. Ремесленников в Вавилонии не хватало, а между тем правилом оставалась передача ремесленных навыков по наследству; профессионального обучения вне семьи почти не существовало. Поэтому запросы рынка не удовлетворялись в полной мере. Для обучения нужному ремеслу оставались только рабы: их хозяева рассчитывали, что затем они принесут гораздо большую прибыль. Конечно, это было рискованное вложение: раб мог убежать, заболеть или умереть.
Поэтому владельцы очень неохотно расставались со своими рабами. Некоторые рабы накапливали солидное состояние и имели средства себя выкупить, но, кажется, такое случалось нечасто. Впрочем, если рабу давали свободу, он не избавлялся от всех своих обязанностей: несмотря на новый статус, бывший раб должен был оставаться при хозяине до его смерти. Существовал и еще один способ прекращения рабского состояния – усыновление. Человек, не имевший семьи и детей, на склоне лет давал вольную рабу, с тем чтобы тот жил при нем, заботился о нем и в конце концов становился его наследником.
Но зато всякий житель Вавилонии, если бы его спросили о ее населении, не задумываясь разделил бы жителей Нижнего Междуречья на две основные группы – крестьян и горожан; полукочевников, живущих в шатрах, он бы вовсе не принял в расчет. На деле место проживания говорило о человеке больше, чем его юридический статус, местное или иностранное происхождение, социальное положение. Внутренняя политика Навуходоносора была основана на тех же представлениях: он полностью игнорировал неоседлых жителей. Крестьянам он тоже почти не уделял внимания, а вследствие этого проявлял совершенное безразличие к административному устройству «страны Шумера и Аккада». В сущности, она для него состояла только из больших городов – тех, которые царь в своих надписях называл стольными.
Город причислялся к стольным (их было всего около дюжины) не по размерам и не по числу жителей; современники Навуходоносора принимали во внимание исключительно его религиозную значимость. Безусловно, в VI веке знаменитые культовые центры находились как раз в самых крупных городах. Но вавилоняне судили не по материальному состоянию: в ранг стольного города они возводили всякое поселение, в котором издавна высился храм славного божества. У всех таких центров была очень долгая история, все играли определенную политическую, экономическую и культурную роль уже с середины V тысячелетия и ни один не был построен позднее. Некоторые города были прежде столицами больших царств (например, Исин и Ларса в XIX—XVIII веках) или даже империи (Киш в конце III тысячелетия). Их древняя история была неотделима от истории всей Месопотамии и даже всего Ближнего Востока. Но для тех, кто жил там, судьба города в первую очередь была судьбой священного пространства, где стояли храм главного божества и ступенчатая башня. В этом отношении Навуходоносор разделял мнение, принятое всеми его подданными.
ХРАМ – ЦЕНТРОБЕЖНАЯ И ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ СИЛА
Города Вавилонии были не чем иным, как лабиринтом улочек, переулочков, тупичков с одно– или двухэтажными домиками; в них не было ни больших улиц, ни площадей (их роль играли перекрестки). Поэтому храм верховного божества был самым крупным зданием, намного превосходившим остальные, а ступенчатая башня, стоявшая при каждом большом храме, – архитектурной доминантой города; ее внушительные размеры делали ее видимой далеко окрест. Вавилоняне явственно ощущали это; они говорили, что кровли их храмов «высоки, как горы», и представляли, будто они «касаются неба». Вдобавок по всему городу были разбросаны другие культовые постройки: жертвенники, временные алтари, ниши со статуями на углах улиц; одни содержались лучше, другие хуже, одни процветали, другие прозябали; их было много, но площадь они занимали незначительную. Однако они вплетались & ткань города, а священное пространство было тщательно отделено от наружных светских строений длинной глухой стеной, за которую можно было попасть лишь через несколько хорошо охраняемых ворот. Таким образом, храм находился и в городе, и вне его. Описание Урука в «Эпосе о Гильгамеше» не упоминает знаменитого «Небесного дома» Иштар; это нельзя объяснить забывчивостью автора или пренебрежением богиней, ведь поэма отводит ей определяющую роль в фабуле. Урукцы конечно же гордились своей святыней, но были от нее так далеки, что она казалась им иным миром, заключенным в стенах их города.
Святилище бога-луны в Уре представляет собой в плане неправильную трапецию со сторонами 140, 248, 348 и 187 метров; общая площадь огороженного пространства – 440 гектаров. На севере Вавилонии, в Сиппаре, бог-солнце жил в гораздо более просторном помещении: 320 на 240 метров. Главный храм Ниппура – один из важнейших в стране – имел площадь 942 квадратных метра, а святилище «Верховной госпожи» в Вавилоне – примерно вдвое большую. Впрочем, эта богиня была известна лишь в самом городе, а ниппурский бог тысячелетиями стоял во главе пантеона. Так что этим цифрам стоит придавать важности не больше, чем признавали за ними сами вавилоняне: они действительно не видели связи между значением божества и величиной посвященного ему храма. Размеры культовых зданий, где служили Мардуку, в Вавилоне были больше, чем на остальной территории страны, но всё же не чрезмерно обширны. Святость места вполне уживалась с невеликим пространством; объем помещения отражал не столько значимость бога, сколько первоначальную архитектуру этого памятника; часто его ограничения налагались условиями землепользования.
Традиционный план вавилонского храма установился еще в Y тысячелетии: здание в форме параллелепипеда, стоявшее в огороженном наглухо дворе. Tyj же на эспланаде высилась ступенчатая башня. Век от века прибавлялись второстепенные алтари, возводимые отдельно или в составе главного храма, а кроме того, колодцы и служебные строения. В толще стен устраивались длинные комнаты, имевшие только дверь и пару отдушин под самым потолком; они служили ризницами, мастерскими и жильем для служащих.
Основным материалом даже для самых роскошных построек издавна были кирпичи из сырой глины, высушенные на солнце; обожженные кирпичи клались только в тех частях здания, которые чаще всего соприкасались с влагой. Камень использовался лишь для выкладывания ступеней и водостоков. В Вавилонии камень встречался очень редко, чем обычно и объясняют историки почти исключительное применение глины. Такой взгляд не совсем верен. Пользуясь местным материалом, строители прежде всего стремились продемонстрировать свою верность традиции, не прерывавшейся от возникновения первых поселений в долине низовий Тигра и Евфрата. Никаких практических преимуществ этот материал не давал. Конечно, такое сырье было под рукой всегда, везде и в неограниченном количестве; для его использования требовалась лишь рабочая сила – многочисленная, но не нуждавшаяся в особом обучении. Но, несмотря на все предосторожности (ряды кирпича перекладывали тростниковыми матами и заливали вместо раствора асфальтом), кирпичи плохо переносили вавилонский климат. Разбитый кирпич уже не мог идти в дело, а его обломки занимали немало места. Ветры и дожди неумолимо разрушали строения; храмы требовали постоянной реставрации – примерно с каждым новым поколением.
Разумеется, сегодня нельзя оценить, в какую сумму обходилось стране поддержание религиозных сооружений в хорошем состоянии; в Вавилоне традиционно считалось, что она равна стоимости рытья каналов и ухода за ними. Вложений требовалось так много, что большинство храмов в течение значительной части своей истории находилось в упадке и даже разрушалось. Лишь когда наступал период политической стабилизации и экономического подъема, они могли вернуть себе прежний блеск. Мир, наступивший после победы над Ассирией, привел их к новому расцвету. Навуходоносор с неутомимой энергией отдался решению задачи их возрождения; его надписи в общем-то и говорят только об этой стороне его деятельности.
Изначальным и постоянным ядром храма была «святая святых». Там, по обиходному выражению, «жило» божество.
Как бы ни было велико священное огороженное пространство, «святая святых» везде была мала: в Ларсе, к примеру, ее площадь составляла четыре на пять метров, в Барсиппе – четыре на восемь. Кроме того, она – как, впрочем, и все остальные храмовые помещения – была сильно загромождена. Каждый человек имел право поставить там статую от себя. Туда, под божественное покровительство, помещали посвятительные стелы и надписи. Там на скамьях вдоль стен стояли ритуальные предметы, сосуды для омовений, курильницы, жертвенные столики, священная ладья божества, его драгоценная колесница для выездов и ложе. Время от времени жрецы выносили менее ценные и самые ветхие предметы в ризницу или на двор. В глубине помещения, у короткой стены, лицом к двери в полумраке высилась на пьедестале статуя, в которой был воплощен бог.
«Святая святых» была местом безмолвия. Звуки могли отвлечь божество, и тогда оно не склонило бы слуха к молитвам людей (по-вавилонски одно слово означало и «услышать», и «исполнить» молитвенную просьбу). Но безмолвие для вавилонян обладало не только этим достоинством – оно имело и собственную ценность. Городской шум, оглушавший жителей, стал богословским символом: то был звук хаоса, беспорядка испорченной цивилизации, доходивший до богов и мешавший им спать; из-за него они гневались на людей. Только Потоп избавил богов от этой какофонии, да и то лишь на время. Поэтому в храме не допускалось никаких восклицаний. Радость и скорбь выражались музыкой и пением; языком богослужения оставался шумерский, хотя в начале II тысячелетия он вышел из обихода, что позволяло в храме при чтении молитвы еще больше отдалиться от суеты человеческих чувств и житейских забот.
Таким образом, «святая святых» была непохожа ни на какое другое место – ни мирское, ни даже храмовое; она предназначалась для того, чтобы обеспечить возможность непрестанного тесного общения с богом, которого нельзя было беспокоить ничем, кроме установленного богослужения. Замкнутое пространство было архитектурным способом охранить и оградить божество от внешнего мира. Этим объяснялось сооружение оборонительной стены, ничем не отличавшейся от городских укреплений; священное жилище пространственно и визуально не выделялось и даже не замечалось ходившими по храму людьми. Его ритуальная неприкосновенность подкреплялась местоположением. Строители храмов при проектировании никогда не допускали осей, которые могли бы открыть далекую зрительную перспективу.
Дорога от ворот до статуи божества всегда образовывала кривые и ломаные линии. В самых крупных святилищах цепочки закрытых дворов не давали увидеть даже порог, за которым жил бог. Впрочем, «святая святых» не прятали – о ней, так сказать, просто не вспоминали. Парадоксальным образом этот хозяйственный, ритуальный и мистический центр не являлся композиционным, архитектурным центром освященного пространства.
При всяком значительном храме находилась ступенчатая башня. По-шумерски она называлась «княжеским зданием», а по-вавилонски – «остроконечной вершиной». Эти названия не разъясняют нам предназначения этих оригинальных сооружений, характерных для Междуречья. Археологические раскопки позволили вполне удовлетворительно восстановить их архитектуру, кроме устройства помещений с жертвенником, венчавших вершину: ни одно из них не выдержало испытания временем. Довольно много сохранилось и древних изображений башен; они обычно выполнены довольно плохо, но всё же полезны для современных реконструкций. Однако тексты не говорят о башнях почти ничего: там сообщается лишь об их реставрации и приводятся кое-какие технические подробности. Но для чего возводились эти башни? Древних данных об этом у нас нет, и мы можем лишь выдвигать рискованные гипотезы. Точно известно одно: вавилоняне сами не знали их первоначального назначения; они пользовались ими для некоторых обрядов, но достаточно редко; чаще они проводили богослужения на плоских крышах храмов, которые были доступнее и просторнее, нежели маленькое пространство с алтарем на самой верхушке башни. Нет сомнений, что «остроконечные вершины» явились результатом долгого развития, а началась эта эволюция в IV тысячелетии. При восстановлении храма старые стены разрушали подчистую, делали из их обломков платформу, чтобы не ставить лесов, а затем строили на ней. Так из века в век культовые сооружения поднимались всё выше на скошенных по бокам террасах, а сами становились всё меньше. К концу III тысячелетия жертвенники на вершине стали уже чересчур малы. Тогда решили возводить здание главного храма в более удобном месте – у подножия ступенчатой башни. Сама башня продолжала существовать, но богослужения, за малым исключением, теперь были вынесены из нее и тоже спустились на землю. Башня сохраняла силуэт нескольких стоящих друг на друге усеченных пирамид, уменьшающихся в объеме и соединенных лестницами, внутри была сплошной, сложенной из сырцовых кирпичей, а снаружи облицовывалась кирпичом обожженным. С течением времени вавилоняне стали считать, что каждый стольный город непременно должен иметь ступенчатую башню. Так столетиями делали их предки – так должны были делать и они.
Характерно, что в вавилонском языке одним словом обозначались и священное здание, и обычное человеческое жилье: то и другое было «домом». Тексты просто говорят: «дом такого-то бога» или «такой-то богини». Для существования такого дома нужны были пространство и люди; задача содержания храма направляла неустанную – подчас весьма солидных масштабов – деятельность, подчинявшую себе всех, кто так или иначе принадлежал к храмовым служителям.
Не будет ошибкой отделить хозяйственную деятельность от религиозной. Конечно, хозяйство обеспечивало возможность отправления культа – или культ требовал ведения хозяйства. Но люди, ведавшие делами, и те, кто совершал богослужения, принадлежали к совершенно разным категориям. Хотя цель у них была одна, повседневные заботы, поручавшиеся им, были строго разделены и даже несовместимы; одни служители не могли подменять других.
Во главе всякого большого храма стояли три персоны; в разных городах они назывались по-разному, но разделение их полномочий повсюду было одинаково. «Эконом» стоял на вершине иерархии и являлся перед всеми людьми олицетворением нравственного авторитета храма. Вторым в иерархии был «начальствующий»; он занимался в основном делами вне освященного пространства, общался с работниками, трудившимися на храмовых землях. Наконец, «писец» управлял канцелярией, но и он по нуждам своей службы покидал святилище. Их власть распространялась на всех служителей, в больших храмах была даже своя темница для тех, кто нарушил их указания. Эти трое были мирянами и занимались мирскими делами, но служили они только своему божеству.
Под их управлением были две отдельные группы храмовых служителей. В первую входил клир: жрецы, певчие, прорицатели, заклинатели. Вторую, гораздо более многочисленную, составляли земледельцы и скотоводы (работали на храмовых землях), ремесленники, охрана и служки (в храмовой ограде). Эти разнорабочие, которых иногда бывало очень много, обеспечивали повседневные нужды замкнутых в себе корпораций. Правда, само место придавало их трудам в их собственных глазах некую богоугодность, но жили и работали они так же, как миряне за стеной. Только среди этой категории служителей встречались женщины; ни к каким собственно религиозным обязанностям они не допускались уже с конца III тысячелетия.
Начиная с VII века значительную часть рабочих составляли храмовые рабы (обычно говорили конкретно: «рабы такого-то бога»). Они поступали из трех источников. Рабы-родители передавали свой юридический статус детям. Иногда, спасаясь от голода, свободные люди отдавали своих детей в храмы; так святилища становились благотворительными учреждениями, облегчавшими страдания населения, поредевшего в тяжелые времена экономических неурядиц. Одна вдова так объясняет свою просьбу начальствующим в «Небесном доме»: «Муж мой <…> умер, голод был в стране; и отметила я знаком звезды <двух> моих младших детей <…>, и отдала их Госпоже Урука <и сказала>: корми их, и да будут они рабами Госпожи Урука!» Этот документ был составлен много позже смерти Навуходоносора (датирован 544 годом), но представляет собой пример традиционной процедуры.
Были и другие источники пополнения числа храмовых рабов. Так, хозяин мог пожелать отдать своего раба богу, чтобы получить его благословение; такой дар вступал в силу только после смерти владельца или его супруги. Наконец, заемщик мог возместить храму долг, предоставив ему своего раба.
Храмовые рабы обоего пола были собственностью божества и носили его знак, как скот и даже неодушевленные предметы, ему принадлежавшие. На руке у них татуировались или выжигались железом атрибуты божеств: звезда (символ Иштар), мотыга (Мардука), заостренная тростниковая палочка для письма (Набу) и т. п.
Положение таких рабов было относительно прочным; по крайней мере они были застрахованы от продажи. Им не грозил и голод: когда кончались припасы по всей стране, у храмов продовольствие было. В придачу к жалованью им выдавали еду, одежду и обувь; они могли сами назначать себе жалованье, ибо имели самоуправление и право голоса при выборе старосты – такого же храмового раба. Обычно храмовое начальство не поручало им важных обязанностей, но этот факт никоим образом не был связан с их статусом: один из рабов храма Набу в Барсиппе дослужился до писца. Впрочем, иногда они так же, как и рабы, принадлежавшие мирянам, выказывали неповиновение. Письма начальствующих над ними то и дело сообщают об их лени, небрежности, воровстве.
У нас нет достаточно полных архивов, чтобы реконструировать храмовые бюджеты. Но можно утверждать, что персонал канцелярий повсюду был многочисленным, а управление делами – четко организованным. В нем применялись те же административные и бухгалтерские приемы, какими пользовались при царском дворе и в богатых домах. Так, в «Небесном доме» Урука служили 20 писцов по глине (и, очевидно, столько же их собратьев, писавших на коже), а в вавилонском дворце Навуходоносора их было всего 15. Всю свою жизнь администраторы проводили при храме за высокое жалованье. Правда, и работа у них была нелегкая.
Почти все храмы были земельными собственниками. Основную часть их доходов поставляли земледелие и скотоводство. Самые богатые имели огромные земельные владения; но было, конечно, много и совсем небольших храмов, чей единственный служитель имел для жизни и богослужений только поле да сад. Впрочем, Навуходоносор на такие места явно не обращал внимания. Некоторые храмы стольных городов были намного богаче любого мирянина, не исключая самого царя. «Небесный дом» владел пятью—семью тысячами голов рогатого скота и 100—150 тысячами овец. Овцы давали ему пять тысяч килограммов шерсти в год[36]36
Вероятно, автор приводит неточные данные. При таких расчетах получается, что с каждой овцы имели по 20—30 граммов шерсти в год.
[Закрыть]. Начальствующие над храмовым хозяйством не занимались содержанием пальмовых рощ, садов, выращиванием зерновых на полях. Они делили их на малые участки, на каждом из которых поселяли семью. Такие рабочие имели разный юридический статус: среди них были, конечно, храмовые рабы, но были и свободные. Участки передавались по наследству из поколения в поколение; кроме того, все арендаторы были обязаны участвовать в общих работах на потребу землевладельца, причем совершенно бесплатно. Иногда участки храмовой земли отдавались арендаторами в субаренду. Условия землепользования были те же, что на царских и частных землях.
Административное управление, то есть учет и контроль, в храмовых владениях было налажено хорошо, но приемы ведения сельского хозяйства были рутинными и отсталыми. Прежде всего, безусловно, следовало заниматься ликвидацией разрушений, причиненных ассиро-вавилонскими войнами. Но и после восстановления оставалось слишком много пустошей и мало финиковых посадок, а хороший доход давали только они. Этот недостаток не был исправлен за время царствования Навуходоносора. Храмовые власти не находили выхода из положения; власти же политические, которые могли бы побудить их к действию, этим не интересовались.
Храмы выходили на рынок труда: отдавали своих рабов внаем на сторону и вместе с тем широко прибегали к найму на сельскохозяйственные работы свободных рабочих, иногда даже прибывших из Сузианы. Их ремесленники работали только на богов, но их не хватало; поэтому и здесь обращались к посторонним специалистам: мастерам по изготовлению глазурованного кирпича, корабелам и, по мере надобности, знатокам всяких других ремесел.
Так же, как царь и частные лица, храмы давали денежные ссуды под обычный процент, торговали в кредит и вкладывали капиталы в торговые товарищества. Самые богатые из них имели недвижимость во всех концах страны: Иштар Урукская владела землями и на севере – под Сиппаром, и на юге – в «стране моря». Сиппарский бог-солнце, наоборот, имел земельные участки под Уруком. Такая мешанина объясняется тем, что земли передавались храмам в дар; жрецы со временем накапливали их всё больше: земли эти жертвовались из благочестия и закреплялись за храмами, в какой бы части Вавилонии те ни находились. Отсюда рождалась некоторая солидарность, выражавшаяся в перераспределении средств между процветавшими храмами и теми, что не имели достаточного дохода: первым приходилось предоставлять для вторых жертвенный скот. Так, «Небесный дом» Урука посылал стада в Ларсу и Дер.
Святилища стольных городов получали также регулярную «десятину»; она равнялась (если не на практике, то в теории) 10 процентам дохода. Ею облагалась продукция сельского хозяйства, так что она была аналогична «десятине» царской, но обозначалась другим словом. Этому обложению подлежали все земли – не составляли исключения даже царские владения. Налог собирался ежегодно и платился натурой; но как именно функционировала эта система, нам сейчас неизвестно.
Третьим источником храмовых доходов были разовые пожертвования. Они по самой своей природе были непредсказуемы. Между Навуходоносором и любым из его подданных разница была только в размахе подношений. Можно предполагать, что «Дом под высокой кровлей» получил, как сказано во Второй книге Паралипоменон, «большие и малые» культовые предметы, взятые в 597 году в Иерусалиме из подвергшегося разрушению храма иудейского бога Яхве. Государь распоряжался также размещением прочей утвари и статуй. Так, для богини Гулы он «велел одеть балдахин в палисандр, дерево вечное, в золото червонное, и украсил ее камнями драгоценными, и растянул его <над статуей> Я велел одеть стол жертвенный, достойный ее сосудов, в золото блестящее. Я велел поставить у самого основания на земле у врат ее святых двух собак серебряных и двух собак бронзовых, с огромными лапами, с дебелыми телесами». Мардук и его сын получили из царских рук по барке для плаваний по каналам во время процессий. Барка Мардука была от носа до кормы обшита золотом и повсюду украшена эмблемами бога – мотыгами и драконами. На барке Набу рубка была сделана из палисандра, а каюты отделаны червонным золотом.
Храмы принимали всё, что им давали. Дочь Навуходоносора подарила «Небесному дому» в Уруке земли; частные лица отдавали им рабов и всякого рода добро «для спасения живота», как было принято писать. У входа в священную ограду постоянно стояли охраняемые корзина или ларец для небольших денежных приношений.
Средства храма расходовались прежде всего на богослужения: пищу и одежду для статуй, производство или поновление самих статуй. Этим занимались мастерские в храмовой ограде, но материал покупался на стороне. Богам нужна была трапеза: еда и питье. Требовалось платить жалованье служителям культа и наемным работникам. Впрочем, оно не всегда выдавалось пунктуально: был по крайней мере один случай, когда храмовые рабы письменно пожаловались на неуплату. Акционеры-пребендарии требовали своей доли дохода. Для ведения сельского хозяйства приходилось тратиться на орудия труда, семена и скот; следовало поддерживать в порядке каналы. Кроме того, храмы должны были считаться с возможностью привлечения их ресурсов для выполнения в пользу государства некоторых повинностей (правда, неизвестно, на каких основаниях светская власть могла этого требовать). Так или иначе, «Небесный дом» принимал участие в больших строительных работах в столице. Каждый храм должен был поставлять еду для царского стола путем отправки некоторой части жертвоприношений в Вавилон. Таким образом, служители, принадлежавшие богу, не избавлялись от царской трудовой повинности.