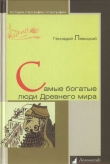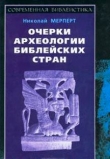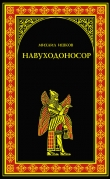Текст книги "Навуходоносор II, царь Вавилонский"
Автор книги: Даниель Арно
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Судя по отклику пророка Иеремии, этот разгром получил заметный резонанс по всему региону. Иеремия признал его значение и перспективы: перед наследным принцем теперь остался открытым весь Левант до Синая.
Наследник расположился в Рибле (как в свое время и фараон Нехо по прибытии из Египта). Тот, кто желал контролировать выход к Средиземному морю, не мог не выбрать этот поселок в Хаматской долине. Говоря военным языком, это был главный узел дорожной сети; он был расположен неподалеку от нынешнего «Хаматского прохода», через который можно попасть к морю из внутренней Сирии. Места для дислокации войск там хватало, река Оронт давала воду, а окрестность изобиловала продовольствием. Кроме того, это место обладало с политической точки зрения тем преимуществом, что давало возможность утвердиться, не вызывая недовольства правителя Хамата. Хотя он с тех пор фактически оказался в подчинении у Набопаласара, но обязанность кормить воинов могла ему не понравиться. Маленькая же Рибла не имела собственного царя, потому она и сохранила свою военную роль до самого конца Вавилонского царства в 539 году.
Именно там Навуходоносор узнал, что его отец умер от болезни в Вавилоне 8-го числа месяца ава на двадцать первом году царствования (15 августа 605 года по нашему календарю). Наследник оставил основную часть войска в Сирии, а сам с небольшой охраной немедленно отправился в путь и 7 сентября «воссел на престол царей», как гласит традиционная вавилонская формула. С учетом времени, за которое до Навуходоносора могла дойти весть о кончине отца, и предполагая, что отправился он в столицу обычным путем, он покрыл расстояние около тысячи километров меньше чем за 20 дней. Таким образом, его дневной переход равнялся 60 километрам – это вдвое больше обычного перехода войска в походе.
В этот момент он имел власть над своим царством от Тавра до Дамасского оазиса. Оставалось утвердить ее на юге до Синая. Вавилонская хроника год за годом одними и теми же словами регистрирует политику нового царя: «отправиться и явиться во славе своей» в Сирию, продемонстрировав там свою силу, чтобы не иметь нужды ею пользоваться. Интересно, что сам Навуходоносор в своих официальных надписях нигде не употреблял это выражение. Составитель хроники явно позаимствовал его у ассирийских монархов VII века; он вполне сознавал (и желал разделить эту мысль с читателем), что великое ассирийское царство было восстановлено. Употребление этой формулы прослеживается до одиннадцатого года царствования Навуходоносора; далее текст совершенно разбит и обрывается.
Для народов, населявших юг азиатского побережья Средиземного моря, Палестину, близость Египта могла казаться защитой от вавилонян. Аскалон был самым южным городом империи; он находился всего в каких-нибудь 20 километрах от Газы – единственного укрепления в Азии, которое еще сохраняли за собой египтяне. Покорность Вавилону выражалась в ежегодной уплате дани. Аскалон же платить отказался. Навуходоносор не мог допустить, чтобы этот пограничный город стал отправной точкой нового контрнаступления; он имел большое военное значение, а его порт был хорошо защищен с суши полукруглой стеной. Царь пошел на Аскалон. Вся округа была охвачена ужасом, Иудеи затворились в Иерусалиме, царь Иоаким для отвращения беды велел народу поститься. Его царство, исполнившее свои обязательства перед Вавилоном, было оставлено в покое.
Один из местных князей, некто Адон (каким городом он правил, мы не знаем), предупредил «владыку царей фараона» о появлении «царя Вавилона» и о его энергичных действиях, направленных на овладение этой территорией. Но всё было напрасно. В конце 604 года Навуходоносор «взял Аскалон, пленил его царя, разграбил и взял из него добычу, а затем обратил в груду развалин», гласит текст хроники. Но семь лет спустя сообщается, что царь этого города явился к вавилонскому двору. Стало быть, Аскалон уже был отстроен вновь. Такая относительная мягкость политики Навуходоносора вполне объяснима: теперь, когда он восстановил свое владычество, ему надо было прикрыть южную границу империи, а в этой оборонительной линии Аскалон играл ключевую роль. Тогда же Иудея получила дозволение отстроить заново крепость Арад: теперь она могла противостоять египтянам на востоке, в пустыне Негеб. По той же логике в следующем году вавилоняне в качестве меры предосторожности отправили на запад «очень большие осадные башни».
В 603 году вавилонянам казалось, что на подвластных территориях от Загроса и Тавра до Синая им нечего опасаться. Но они не приняли во внимание, что Египет с течением времени оправился от разгрома при Кархемише. Вавилонская стратегия требовала предупреждать нападение, явившись перед врагом. Не дать ему войти в Азию было выгодно со всех точек зрения: оставалась неприкосновенной контролируемая Вавилоном территория; поражение египтян после проникновения врагов в сам Египет становилось бы еще более тяжким; наконец, при этом у всех азиатских князей пропадала охота присоединиться к Египту, поскольку без явного риска они этого сделать не могли. Но столкновения зимой 602 года были кровавыми и не дали результата. Вавилоняне отступили; египтяне, видимо, не могли их преследовать. Стороны вернулись к status quo ante[11]11
Прежнему положению (лат.).
[Закрыть].
Целый год Навуходоносор занимался наведением порядка в своем войске. Его отсутствие в столице сочли за признак слабости. Египет осторожно воспользовался этим, вновь заняв Газу; но для Вавилона пограничным городом считался Аскалон, так что этот акт не имел последствий. Зато теперь Иудея официально порвала с империей, отказавшись платить дань. Вавилоняне принялись последовательно возвращать утраченное. В ноябре—декабре 599 года Навуходоносор повел на юго-востоке наступление на кедарских арабов. Лет за сорок до этого они были союзниками вавилонян против Ассирии, затем в смутах конца VII века держались в стороне. Однако нейтралитет им не помог. Вавилоняне «пошли в пустыню и захватили множество арабов, и добра их, и скота их, и богов их». Военной и политической целью экспедиции было надолго разорить этот район, согласно классическому образу действий, веками применявшемуся Ассирией и явно унаследованному от нее. Подобный грабеж не мог принести славы царю, и потому личного участия в походе Навуходоносор не принимал. Кроме выполнения указанной цели, операция послужила сигналом для царств, граничивших с Иудеей с востока: теперь моавитяне, аммонитяне и эдомитяне могли напасть на нее, ибо на собственных восточных границах больше не опасались появления арабов. Таким образом, вавилонский царь косвенно угрожал своему иудейскому недругу.
На следующий год Навуходоносор отправился под Иерусалим. Этот конфликт документирован на редкость обильно. Мы имеем источники, исходящие от обоих противников: хронику с вавилонской стороны, Четвертую книгу Царств – с иудейской. Библейский текст похож на вавилонский своим объективным тоном: рассказ всегда сохраняет дистанцию по отношению к событиям. Кроме того, интереснейшее свидетельство об этих годах и жестоких спорах, волновавших тогда Иерусалим, оставил пророк Иеремия. Наконец, в городе Араде был найден комплекс черепков с надписями. Осколки глиняной посуды были на всём Ближнем Востоке самым обычным материалом для письма: их употребляли для маловажных документов, не заслуживавших таких дорогих средств, как папирус или кожа. Эти письма, в точности современные событиям, освещают положение в пустыне Негеб[12]12
Негеб, Негев («вытертый», «сухой», ивр.) – пустыня площадью 12 500 км2, занимающая более половины территории современного Израиля; представляет собой плато, расположенное на высоте 600—800 м над уровнем моря. Ограничивается Средиземным морем и Синайской пустыней на западе, горами Моав и Иудейской пустыней на севере, долиной Арава на востоке, Эйлатским заливом на юге. (Прим. ред.)
[Закрыть] в начале 597 года.
Иудея тогда находилась в очень незавидном положении. Моавитяне, аммонитяне и эдомитяне напали на нее с востока. Эдомитяне лишили ее даже возможности использовать источники пополнения продовольствия и воинские резервы, разрушив Арад и заняв его окрестности, а ведь именно в это время силы защитников его крепости – местных воинов и греческих наемников – пригодились бы, чтобы сражаться на севере царства. Египет не собирался вступать в войну. Как раз в этот момент инициатор политики войны, царь Иоаким, умер, оставив власть своему сыну Иехонии.
Через три месяца после его вступления на царство вавилоняне взяли Хазор, тем самым открыв себе дорогу на юг. Навуходоносор «стал лагерем против города иудейского, и взял город, и царя пленил 2-го числа аддара; он поставил там царя по избранию своему и взял много добычи, и отправил ее в Вавилон». По нашему календарю это было 16 марта 597 года. О том же повествует и 24-я глава Четвертой книги Царств. Правда, согласно ей Навуходоносор прибыл в войско, когда оно уже осаждало Иерусалим. Вавилонская хроника об этом умалчивает: ее составитель или не знал об этом факте, или счел его маловажным. Библейский текст останавливается на том, как молодой иудейский царь (ему тогда было 18 лет) сдался в плен вместе со всей семьей, военными и гражданскими чинами. Он, вне всякого сомнения, знал, что такой образ действий обеспечит прощение «царя Вавилонского», сохранит жизнь ему и всем остальным. Далее подробно перечисляется, какая добыча была увезена и сколько народа переселено в Вавилон. Наконец, в заключение 24-й главы есть краткое упоминание о человеке, которому было поручено управление Иудеей; в нем названо его имя – Седекия; между тем вавилонский составитель хроники не счел нужным сообщать об этом – такие подробности его явно не интересовали.
После взятия Иерусалима вавилоняне с полным основанием сочли, что по всей империи установился мир, причем самой малой ценой в прямом и переносном смысле слова. Политика устрашения достигла результатов (ведь правитель Вавилона прекрасно отдавал себе отчет в целях кампании). Вавилонская хроника датирует сдачу Иерусалима с точностью до дня, а такая скрупулезность в ней встречается редко. Возникшее у вавилонян чувство удовлетворения не было обманчивым – они анализировали обстановку достаточно верно. Среди самих иудеев у них существовали объективные союзники. Книга Иеремии показывает, насколько влиятельной в Иудее была партия (ее участников можно назвать «прагматиками» или «реалистами»), боровшаяся со сторонниками войны: по мнению ее приверженцев, у маленького царства не было военных сил противостоять Навуходоносору. После разгрома под Кархемишем египетская политика в Азии стала очень робкой; рассчитывать на вмешательство фараона было иллюзией и даже безумием, ведь поддержка со стороны Египта всегда была меркантильной и ненадежной.
На последующие годы нашим источником остается Вавилонская хроника, к сожалению, не лишенная лакун. Насколько можно предположить, Навуходоносор продолжал торжественные выезды на запад – по крайней мере в Кархемиш. Но в 596/595 году впервые за время его царствования угроза пришла с востока. Царь Вавилонский стал лагерем на Тигре, и его решительность сразу посеяла панику в рядах противника: неприятель («царь Элама») вернулся домой; правда, трещины на глине скрыли название города, где произошло столкновение. Эпизод пока что сложен для толкования: долину Суз (Элам, как ее испокон веков называли) мидяне оставили Набопаласару, сохранив за собой лишь высоты на севере и востоке. Может быть, «царем Элама» составитель Вавилонской хроники называл некоего военачальника, который воспользовался отсутствием вавилонян, занятых войной на западе. Этот неизвестный деятель, могло статься, захватил ненадолго власть в одной из горных долин Загроса, между владениями мидян и Навуходоносора, пользуясь поначалу ее малозначительностью. В 49-й главе книги Иеремии предрекается гибель Элама «в начале царства Седекии». Идет ли речь о том же самом событии? В этом случае мотив истребления эламитов обнаруживается сразу в двух источниках. Если так, то побежденные не только покинули долину, но и были разбиты в собственной горной стране. Поскольку Вавилонская хроника об этом умалчивает, завоевание Элама совершили, бесспорно, не вавилоняне, а мидяне: только они могли вторгнуться в эту область. Как бы то ни было, отныне долина низовий Тигра и Евфрата была в безопасности.
На десятом году царствования Навуходоносора (595/594) в самой Вавилонии разразился короткий (он продолжался с декабря приблизительно по январь), но сильный кризис. Навуходоносор разрешил его с видимой легкостью. Тем не менее эти события имели последствия для Леванта. По каким-то причинам вавилоняне в это время уже не надзирали над ним так пристально. Навуходоносор понял, что оставление присоединенных территорий без наблюдения грозит империи опасностью, и его визиты на запад возобновились.
Не имея достаточно сведений о намерениях Навуходоносора или решившись не считаться с ними, Седекия и его партия вернулись к политике Иоакима. Из источников, современных событиям, у нас есть только Библия; во всяком случае, в ней не приходится сомневаться, факты изложены верно. Хотя книга Царств являет собой повествование в отстраненном тоне, а книга Иеремии – свидетельство заинтересованного участника событий, они друг друга поверяют и подтверждают.
В 594/593 году, на четвертом году правления Седекии, в Иерусалим явились послы из Эдома, Моава, Аммона, Тира и Сидона. Речь пошла о создании коалиции против Вавилона. Об этом мы знаем от Иеремии. Он показал, насколько безнадежно было это предприятие. Сам список предполагаемых союзников прямо указывает на его пределы, и пределы эти позволяют предвидеть крах. Прежде всего Иудее не хватало поддержки крупных государств «Благодатного полумесяца»: Дамаска, Хамата, Халеба или Кархемиша. Войск же, которые могли ввести в дело новоявленные союзники, было недостаточно, чтобы сдержать вавилонские полчища; по крайней мере по всему можно было полагать именно так.
Как можно догадаться, царь Вавилона явился отвоевывать свои земли. У Тира и Сидона имелся флот, но не было настоящих сухопутных войск. Поэтому второй город пал, вероятно, в 588 году. Тир продолжал обороняться. В лучшем случае он мог сдерживать какую-то часть вавилонской армии, но не серьезно беспокоить ее. Остальные государства, возможно, на деле и не боролись вместе с Иудеей против Навуходоносора. Не прошло и десяти лет с тех пор, как Иудея подверглась нападению моавитян, а эдомитяне заняли Негеб. Цели войны у мнимых союзников были в своей основе несовместимы.
Военные и политические маневры перед самым вторжением вавилонян нам хорошо известны по текстам на черепках, обнаруженным в Лахише. Эти свидетельства чрезвычайно важны. Конечно, этот город вследствие своего географического положения не играл большой роли в конфликте: он находился в 50 километрах юго-западнее Иерусалима, а его гарнизон не имел возможности контратаковать противника, в случае если тот поведет свои войска от столицы. Но он мог прикрыть войско, пришедшее для отражения вавилонской угрозы из Египта. Седекия ходатайствовал об этом, прося Египет послать «коней и много людей», как говорит современник этих событий Иезекииль. Однако на этот счет не только Иеремия и другие жители Иерусалима, но, кажется, и военные, стоявшие в Лахише, не имели иллюзий. Город (и, как можно предположить, остальные военные аванпосты) готовился к войне.
В 588 году Египет ограничился походом, оказавшимся всего лишь военной демонстрацией. Иеремия проницательно предсказывал такой ход событий: египтяне уже не желали тратить усилия, чтобы удержать Ближний Восток. Иосиф Флавий говорит, что их войско было достаточно большим. Это вполне может соответствовать действительности, и противоречия тут нет: фараон желал показать Навуходоносору свои военные возможности, но в то же время уклонялся от столкновения в Азии; одним словом, он давал понять, что даст битву лишь в случае нападения на его страну. Вавилоняне так и расценили эту демонстрацию силы. Почувствовав угрозу сражения, они сняли осаду с Иерусалима, а когда опасность миновала, возобновили ее. В бой они не вступали: им оставалось лишь дожидаться, когда союзники, на которых уповали иудеи, покажут, что не собираются идти дальше.
В марте 588 года Навуходоносор лично поставил войска в осаду вокруг Иерусалима, после чего отбыл в Риблу. Осадные действия велись по правилам, заведенным ассирийцами и унаследованным вавилонянами. Войска обступили весь город. (Но позднее Седекия и все «военные» смогли пройти сквозь неприятельские позиции – значит, они охранялись лишь редкими постами). Затем саперы Навуходоносора возвели насыпь на откосе: так осадные машины получали возможность разрушать стены при приступе. После этого вавилоняне сочли, что блокада подточит силы сопротивлявшихся иерусалимцев и осажденные будут страдать прежде всего от голода. На девятый день четвертого месяца одиннадцатого года царствования Седекии они перешли в атаку и проделали тараном пролом в стене. Перевести эту дату на наш календарь затруднительно. Возможно, она соответствует 18 июля 587 года, но некоторые историки относят ее на целый год позже.
Ассирийские летописи предшествующих веков всегда клеймили позором бегство побежденного врага: его царь, желавший избежать полного разгрома, тем самым демонстрировал свою личную трусость и безответственность перед подданными, которых увлек за собой на мятеж. Вавилонские писцы этого мотива не переняли, и в VI веке он вышел из употребления. Как ни странно, 25-я глава Четвертой книги Царств повествует о бегстве Седекии на ассирийский манер. Согласно этому рассказу, царь Иудейский тайно покинул столицу и бежал в сторону Иерихона, но был схвачен и пленен врагами в чистом поле. Библейское повествование сообщает и о еще более прискорбном обстоятельстве – панике среди войска, которое сначала последовало за царем, но затем разбежалось, бросив его.
После шестнадцатимесячной осады вавилоняне овладели Иерусалимом. Навуходоносор велел своим военачальникам, в числе которых был его зять Нериглиссар, по всем правилам наказать бунтовщиков и страну, поддержавшую их.
Царем Египта в 588 году стал Хофра[13]13
Хофра (Уах-аб-Ра, Априй) – сын Псамметиха II, четвертый фараон XXVI династии (589-570). (Прим. ред.)
[Закрыть]. Его предшественники наладили с финикийцами плодотворное для обеих сторон сотрудничество. Новый фараон с самого начала царствования отбросил эту политику: взял Газу и напал на Тир и Сидон с моря; иначе он поступить не мог, поскольку сухопутную дорогу ему закрывали вавилонские войска. Тем самым царь служил интересам греков: они давали Египту флот и сами нуждались в его поддержке, поскольку их купцы уже больше двух столетий соперничали с финикийскими по всему Средиземноморью.
В морском сражении Тир победил Египет. В данную минуту поражение египтян было на руку Вавилону, однако не избавляло его от потенциальной двойной опасности: и Египет сохранял полную возможность выиграть войну, и сами тиряне могли в будущем изменить политику. Был риск, что они возобновят союз с бывшим врагом и увлекут за собой другие финикийские города. Тогда Навуходоносор утратил бы контроль над всем побережьем до нынешнего залива Искендерун. Этим объясняется блокада Тира. Об этой осаде мы сейчас не знаем практически ничего. Между тем она продолжалась 13 лет, с 585 по 572 год. У финикийцев были обширные архивы с подробными записями, но они почти полностью утрачены. Немногие сохранившиеся извлечения из них касаются лишь внутриполитических обстоятельств и нисколько не проясняют внешней обстановки. В то время Тир был островом – с материком его соединили только в IV веке. Весь город по периметру был защищен стеной. Морской пролив шириной 600—700 метров не давал возможности подвести к ней осадные машины. Две закрытые гавани, на севере и на юге, позволяли прятать торговые и военные суда от врага и непогоды. Правда, в мирное время тиряне возили воду с материка; отрезав их от него, можно было серьезно осложнить жизнь в городе. Но жители научились справляться с этими трудностями. Ведь у них уже был пятилетний опыт сопротивления ассирийцам в 725—721 годах. Были у них и колодцы, вырытые специально на случай осады; несомненно, применялись также цистерны. Поэтому Навуходоносору не оставалось ничего, кроме как расположиться на берегу, чтобы воля осажденных постепенно иссякла. Флота у вавилонян никогда не было, как раз финикийским флотом они всегда и пользовались. Согласно Иезекиилю, осада не окончилась решительной победой вавилонян. Можно думать, что они добились политической капитуляции: Тир снова стал частью империи, но ни вавилонский царь, ни его войско не получили «дохода», как выразился пророк; подразумевается, что им не позволили грабить город, так что война не окупила затрат на нее.
Теперь и сухопутные (Иерусалим, Лахиш, Газа), и морские (Тир, Сидон) дороги оказались в руках вавилонян; путь в Египет был открыт. Там вавилоняне могли вознаградить себя за 13 лет трудов и понесенные расходы. Пойдет ли Навуходоносор на Нильскую долину? Иеремия, Иезекииль, а с ними, конечно, и многие другие умные люди предполагали утвердительный ответ, проводя аналогии с политикой Ашшурбанипала в предшествующем столетии. Правда, эта политика к добру не привела: ассирийцы заняли Нижний Египет лишь на время с 671 по 653 год, встретили там много трудностей и в конце концов были оттуда навсегда изгнаны. Завоевание страны не состоялось. Вавилоняне, несомненно, помнили об этой неудаче и знали, что за первым успехом неизбежно последует реакция. Поэтому они остались в Азии, по сю сторону «реки Египетской» (ныне Вади-аль-Ариш). Конечно, мир между империей и Египтом не наступил – ни формально, ни даже фактически. На тридцать седьмом году своего царствования (568/567) Навуходоносор имел сражение с фараоном Амасисом[14]14
Амасис (Яхмос) II (569—525) – по одной из версий, являлся выходцем из простонародья, дослужился до должности начальника отряда ливийских воинов, поддержал восстание в армии и был провозглашен его участниками фараоном, свергнув предыдущего фараона Априя. (Прим. ред.)
[Закрыть]. Об этом повествовал текст на вавилонском языке, но ныне он превратился в сильно побитый кусок глины. Насколько можно догадаться, первым напал Амасис. Для этого он нанял воинов из Ливии, греков, народов «дальних областей среди моря». Навуходоносор победил его – иначе он бы не благодарил за свою победу «Госпожу» – богиню, имя которой исчезло в лакуне. Однако мы не знаем ни того, насколько велик был его успех, ни даже места, где была одержана победа.