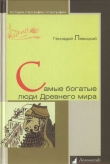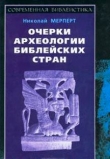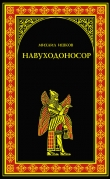Текст книги "Навуходоносор II, царь Вавилонский"
Автор книги: Даниель Арно
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
СВЯЩЕННЫЙ ГОРОД ВАВИЛОН
Вавилоняне не знали такого понятия, как «столица государства». Навуходоносор ясно говорит об этом: «Прежде, с давних дней до царства Набопаласара, царя Вавилона, отца, родившего меня, многие цари, царившие прежде меня, богами на царство призванные, строили дворцы в городах по выбору своему, в своих местах возлюбленных, строили их, жили в них, собирали там добро свое, копили там сокровища свои. Только в день новогоднего праздника, когда выходит <на процессию> царь богов Мардук, входили они в Вавилон».
Итак, на деле вавилонские государи со всем двором жили в том городе, который был удобнее всего для их насущных планов: на востоке, если опасность грозила оттуда, или на севере, если вавилонянам угрожали враждебные намерения ассирийцев. Победив Ассирию, Набопаласар не вдруг выбрал Вавилон, чтобы управлять оттуда долиной Тигра и Евфрата и всей империей. При этом он уже тогда был самым большим городом в Вавилонии и всех подчиненных ей государствах.
Но решение царя было вызвано еще двумя причинами. В VIII и VII веках ассирийцы сделали Вавилон средоточием своей власти: оттуда они могли надзирать за страной – от северной границы до южных болот. С их точки зрения, географическое положение города было идеальным: он находился как раз на полпути от столицы их метрополии, Ниневии, до Персидского залива. Притом он находился достаточно далеко от их врагов – эламитов Сузианы и полукочевых племен юго-запада. Поэтому ассирийцы возвысили город; именно они создали представление о Вавилоне как столице «страны Шумера и Аккада». Так что Набопаласар уже не мог поселиться в другом месте.
Им двигал и еще один довольно сильный мотив: огромный престиж, которым Вавилон и его храм Мардука пользовались с конца II тысячелетия. Тогда началась политика возвышения этого бога; она, в свою очередь, способствовала славе города, где он был хозяином. Вавилон был старейшим, а значит, важнейшим из стольных городов. С тех пор стала классической идея города, созданного прежде сотворения мира.
Одна из космологии, датируемая концом II тысячелетия, говорит об этом энергично и безыскусно. Это небольшое стихотворение включено в одно из заклинаний, так что для вавилонян оно имело и утилитарное назначение. Но ценность его для нас состоит в том, что здесь неприкрыто излагается мотив, до тех пор мало разработанный:
Дом святой, дом богов, в месте святом не был построен,
Тростник не рос, дерево не стояло,
Кирпич не лежал на месте, форма кирпичная не создана,
Дом не был выстроен, город не стоял,
<…>
Город не был построен, живых никого не было.
Дом святой, дома богов обитель не отстроены были,
Были все страны морем,
Источник в море был, труба, бьющая вверх:
Тогда Эриду был построен, Дом под высокой кровлей создан.
<…>
Вавилон был построен, Дом под высокой кровлей окончен,
Боги небесные, созданные <Мардуком> в числе равновесном,
Поклялись звать его градом святым, градом возлюбленным.
И только после этого бог нагрузил плот землей, чтобы создать мир, людей, растения и животных. Дальше текст на табличке отбит. С литературной точки зрения сочинение не слишком удалось; автор не замечает элементарной логической неувязки: в другом месте он прямо говорит, что храм Мардука стоит на первозданных водах; но на чем же был основан город вокруг него, если земли еще не существовало?
Эриду был одним из древнейших стольных городов Нижнего Двуречья; его бог почитался чрезвычайно широко. Его древнее имя было Энки – «господин-земля». Начиная со II тысячелетия его чаще всего называли Эа (этимология этого имени не установлена). Его сын Мардук уже давно унаследовал его магические познания, так что почти вобрал в себя свойства своего отца и господина. Так же слились и два города: Вавилон превратился в Эриду. Кроме того, писцы придумали и объяснение происхождения этого названия – безусловно, искусственное, но это их нисколько не смущало: Эриду был «добрым городом». Такое расплывчатое толкование вполне подходило и к Вавилону. Тем самым на него переносились древность и слава южного стольного города. Тот никак не мог этому сопротивляться: уже во II тысячелетии он стал понемногу угасать, а затем был почти занесен песками.
Сторонники Мардука были крайне заинтересованы в том, чтобы связать судьбу бога с судьбой своего города; в «Энума элиш» они не преминули это сделать. Согласно его тексту, когда мир был приведен в порядок и человек сотворен, боги отдали своему спасителю Мардуку Вавилон «в знак благодарения». Год ушел у них на формовку кирпичей, еще год – на постройку зданий. Лишь в самом конце рассказа читатель замечает подвох: на самом деле боги построили город на небе. Уже потом люди выстроят его на земле, и только тогда сотворение мира будет завершено. Таким образом, Вавилон становится «связью неба и земли», все «страны» выстраиваются вокруг него. Его центральное положение было отмечено топонимикой: каждые из восьми главных ворот Вавилона носили имя одного из божеств – того, чья статуя была ввезена через них в город, чтобы вслед за Мардуком участвовать в новогодней церемонии; тем самым бог или богиня для всех присутствующих на ней признавали свое подчинение. Город именовался также «узлом», «мачтой» вселенной, «основанием населенной земли». О сочетаемости этих образов не думали – желали только показать исключительное положение Вавилона среди всех городов: он единственный имел «двойника» на небе.
Очевидно, Навуходоносор не разделял этих восторженно-мистических взглядов. Он даже колебался в выборе «царского города», следуя в этом примеру своего отца. Правда, надписи обоих царей не датированы – мы можем определить их последовательность лишь предположительно. Результат не вполне достоверен, но это неизбежно; в любом случае хронология в общих чертах просматривается. Набопаласар прежде всего занялся восстановлением «Блистательного дома» – храма бога-солнца в Сиппаре – и лишь затем перешел к возведению оборонительных сооружений Вавилона, желая сделать его неуязвимым для вражеского нашествия. Наконец, он уделил внимание и священной ограде Мардука. Навуходоносор сразу продолжил осуществление этого плана.
В Вавилоне требовалось закончить строительство как внешних, так и внутренних городских стен, довершить начатое Набопаласаром, ведь угроза нападения египтян продолжала оставаться вполне реальной. Однако Навуходоносор обратил свой взор к Сиппару. В этом – своем любимом – городе он заново отстроил первый большой храм в стране. Государь прямо указал, что работы велись именно по его инициативе. На деле их начал еще его отец, но любопытно, что сын не проронил об этом ни слова, оставляя всю заслугу себе. Почин восстановления храмов он приписывает Мардуку, но это была чистая любезность – царь искал одобрения именно бога-солнца: «Храм солнца в Сиппаре, долго стоявший на земле и ставший развалинами, мой великий господин-солнце ни одному из царей прежде меня не давал отстроить. Я же, его мудрый и боголюбивый слуга, преданный божеству его, захотел вновь построить этот храм; я воздел руки и молил, чтобы восстановился “Блистательный дом”; я его просил; господь мой великий бог-солнце дал мне воздеть руки мои и исполнил молитвы мои, чтобы восстановился этот храм». Бог выступает здесь не только в традиционном образе «Великого судии»; далее в тексте к нему обращаются как к божеству воинскому. Такая его ипостась превосходно соответствовала городу, предназначенному стать столицей империи, которую требовалось удержать. Да и заключительные моления относятся только к этому городу: царь просит о его процветании и о вечности своего престола; бог Сиппара, а не Вавилона достоин стать покровителем его царствования.
Выбор Сиппара как «города царства» Навуходоносора имел очевидные стратегические выгоды. Город изначально стоял в том месте, где Тигр и Евфрат ближе всего подходили друг к другу; таким образом, он преграждал путь к сердцу страны врагам, которые могли явиться с северо-запада (тогда это были египтяне). Но русло Евфрата со временем отдалилось от города, и он оказался в стороне от главной дороги Западной Вавилонии. Набопаласар исправил и это. Он говорит: «Я вновь прорыл русло Евфрата к Сиппару и дал всегда течь чистым водам благоденствия для господа моего бога-солнца; я укрепил берега реки асфальтом и обожженными кирпичами и установил там набережную мира для господа моего бога-солнца». Но Сиппар к тому моменту уже не мог соперничать с Вавилоном, который находился всего на 50 километров южнее.
Невзирая на то что вековая слава Вавилона побудила Набопаласара принять решение, его сын вовсе не сразу сделал Вавилон столицей. Объяснить эту перемену невозможно – для этого у нас нет текстов. Можно понять беспокойство сторонников Вавилона. Нет никакого сомнения, что жители опального стольного города или хотя бы самые влиятельные из них предприняли какие-то действия. Тех, кому по должности или из выгоды (пребендарии) была небезразлична слава «Дома под высокой кровлей» и города, в котором он сиял, было много, и они пользовались большим уважением в обществе. Что они сделали? Отношения между царской властью и жрецами (а также их сторонниками) были таковы, что для современной науки их изучение практически недоступно: то были личные отношения, действия групп влияния; понятно, что от всего этого источники не сохранили и следа. Но для объяснения переноса политического центра из одного города в другой был введен в обращение миф, удобный в том отношении, что не обижал никого. Согласно ему, когда подступил потоп, сиппарцы зарыли в надежном месте глиняные таблички и тем спасли цивилизацию. Когда катастрофа закончилась, оставшиеся в живых вырыли их и принесли в Вавилон. Мардук и сотворенные им люди построили стены столицы, а затем храм бога и башню при нем. Так и началось воссоздание всей Вавилонии. Мы имеем лишь краткий пересказ этого текста и не можем судить, как объяснялись нестыковки в нем. Миф откровенно и безыскусно слепил вместе два обособленных рассказа: сиппарскую версию повести о потопе и богословское (вполне обыкновенное) повествование о сотворении Вавилона. Согласно первому сюжету, Сиппар был единственным городом, пережившим потоп; во втором являлись Мардук и первобытные люди, построившие Вавилон прежде всех остальных городов. После космического катаклизма Вавилон оказывался первым восстановленным городом, а также наследником допотопного мира. Тем самым он связывал оба эпизода истории человечества.
Навуходоносор вел работы во всех стольных городах страны, не возбуждая ревности жителей Вавилона. Это не было угрозой господству Вавилона: на севере новые храмы были не так велики и престижны, на юге – находились слишком далеко от центра империи. Кроме того, царь всё же не забывал и о Сиппаре, но принял меры, чтобы не оскорбить местный патриотизм населения столицы. В Сиппаре он построил храм «Госпожи набережной»[39]39
Храм богини Нинмах.
[Закрыть]. В Вавилоне у этой богини тоже был храм, который восстановили раньше. Посвятительные надписи обоих сооружений тесно связаны между собой: сочинитель второй переписывал целые параграфы из первой. Но в нескольких пунктах они не совпадают. Во втором тексте Навуходоносор более ясно дает почувствовать свое могущество; кроме того, здесь он усерднее хвалит Мардука и Набу, подчеркивает оборонительную ценность укреплений Вавилона и, наконец, упоминает множество богов, чьи святилища возобновил. Он желал дать понять, что стройка в Сиппаре включена в общую имперскую программу, столица же с ее храмом остается во главе его забот. Надпись должна была и утвердить царский авторитет, и вместе с тем дать оправдание прежним делам государя.
Но главное было в том, что этот текст вводил важную религиозную тему «примирения». Храм считался оскверненным, если божество по каким бы то ни было причинам покидало его. Но здесь этот тезис нехарактерным образом трансформирован – об удалении богини даже не упоминается. Ее место занимает Мардук; следом за ним является и бог-солнце как господин Сиппара и, следовательно, глава меньших богов, живущих там. Читателю сообщается также, что именно Мардук дал изначальное согласие на дело, а бог-солнце затем принял конкретное решение. Что же до самой «Госпожи набережной», то она лишь приняла эти благодеяния, самой же ей никакой роли в деле не приписывается: «Ибо господь мой Мардук любил меня и вручил мне заботу о возобновлении мест святых, поднять их из развалин в царство мое прочное, Мардук сострадательный примирился с этим храмом, и бог-солнце, судия великий, решил возвести его. Мне, пастырю, преданному им, велели они вновь поставить его». Таким образом, Навуходоносор дал обеты обоим богам одновременно. Но это, что ни говори, означало официальное (но неявное) отречение от плана устроиться в Сиппаре; так же прежде поступил Набопаласар.
Реконструкции Навуходоносора были не только грандиозными, но и систематическими; его мероприятия распространялись на всё пространство Вавилонии, поэтому похвалы, которые он расточал себе, обоснованны: масштаб его строительной деятельности подтверждается археологическими раскопками. Но то, что Навуходоносор делал в Вавилоне, имело еще более поразительный размах, так что для современников и потомков он поистине стал в первую очередь «царем Вавилона». Этот титул был принят повсюду в «стране Шумера и Аккада», о чем свидетельствуют тексты контрактов. Его упоминали по всем городам; он сохранен даже в самых кратких надписях. Его было достаточно для легенды клейм, ставившихся на кирпичах при возведении даже самых почитаемых зданий: в Уре, к примеру, встречается только он. Кирпичи «Дома величия»[40]40
Обычно она называется Дорогой процессий.
[Закрыть] – храма, расположенного в самом центре Вавилона, всего в нескольких десятках метров от дворца, – тоже несут лишь эту краткую редакцию царской титулатуры. Очевидно, ее хватало, в ней резюмировался главный смысл власти вавилонского государя. Он был царем Вавилона для вавилонян; им же он являлся для подданных империи и для иностранцев на всём Ближнем Востоке; авторы библейских текстов употребляли только этот титул.
Приняв решение выбрать Вавилон вместо Сиппара, Навуходоносор стал настойчиво говорить о своих чувствах к столице – «городу возлюбленному». Он с полным основанием уверял Мардука: «Не велел я блистать во всех землях населенных ни одному городу паче города твоего стольного Вавилона». Правда, такие заявления относятся к концу царствования. К этому времени покорность судьбе превратилась в радость. Но то, что Вавилон будет «вечной славой <его> царствия», Навуходоносор понял уже достаточно рано. Перемены в технике строительства отражают перемену его отношения к столице. Сначала при возведении зданий, как было принято по всей Вавилонии, кирпичи просто скрепляли глиной и асфальтом, в конце же царствования строители стали применять более прочный известковый раствор. Наследники Навуходоносора вернулись, однако, к традиционному способу – очевидно, из соображений экономии.
В отличие от северного соседа Вавилон всегда был крепостью. Он играл важнейшую роль в VII веке, когда страной правили ассирийцы. Набопаласар поспешил восстановить его оборонительные сооружения; Навуходоносор, как только взошел на престол, решил еще усилить их. «Я закончил <…> его могучие стены», – по праву утверждал он. Как ни грандиозна была эта работа, археологи обнаружили только руины; но результаты раскопок всё же позволяют правдоподобно реконструировать оборонительную систему.
Стены Вавилона представляли собой неправильный четырехугольник периметром 1810 метров. Две стены шли параллельно: внешняя имела толщину 3,7 метра, внутренняя – 6,5. Между ними был семиметровый промежуток. По стенам с правильными интервалами стояли башни. На наружной стене между ними было около 20 метров, а из стены они выступали на полтора метра. Внутренняя стена была устроена сложнее: расстояние между башнями везде равнялось 17 метрам, но чередовались метровые и трехметровые выступы. Все они построены из сырцовых кирпичей. По всей вероятности, внешняя стена была ниже; по верху обеих стен шел круговой обход, прикрытый зубцами. С трех сторон держал в отдалении неприятельскую пехоту и конницу, не позволяя подойти и использовать осадные орудия (в частности, колесные тараны), ров с водой шириной 12,5 метра. С запада водной преградой служил Евфрат.
Однако Навуходоносор счел эти укрепления недостаточными. «Как ни один царь прежде не делал, я обнес Вавилон с востока стеной могучей, отнес ее на расстояние не менее четырех тысяч локтей (около двух тысяч метров. – Д. А.) от города <…> Я выкопал ров до уровня воды, построил его из асфальта и обожженных кирпичей, и связал его накрепко с набережной отца моего, и построил на берегу его стену могучую, подобную горе, из асфальта и обожженных кирпичей». Несмотря на огромный размах строительства, особенно длину стены (около 17 километров), об этом деле упоминается мало; кажется, оно не привлекло внимания современников. Это также были два ряда стен толщиной соответственно 7,8 и 3 метра, изнутри сложенных из сырцовых кирпичей, снаружи – из обожженных; строители, как и для стены самого города, предусмотрели также башни и ров.
Гораздо скромнее царь описывает возведенную им «дамбу», соединявшую Тигр с Евфратом. Она тянулась между Описом и Сиппаром на «четырнадцать двойных лиг» (около 150 километров), перегораживая дорогу неприятелю, идущему с севера, и становясь, таким образом, передовым укреплением столицы. Согласно официальным надписям, она сделана всего лишь из «груды плотной земли», хотя и защищена «потоками вод обильных», растекшихся перед ней, как «открытое море». В действительности дамба была гораздо внушительнее. Как показали раскопки, она представляла собой настоящую вертикальную стену из кирпичей (подписанных именем Навуходоносора) толщиной 1,65 метра (высота ныне неизвестна). С севера действительно тянулось глубокое болото; с южной стороны вдоль подножия стены шла проезжая дорога для движения пехоты и колесниц. Чтобы защитить столицу с востока и юга, Навуходоносор просто возобновил укрепления Барсиппы и Куты.
Ассирийцы тоже всегда укрепляли свои города, а внутри, вплотную к городской стене, непременно устраивали возвышенную площадку, также обнесенную стеной. Там находились дворец, храмы и ступенчатые башни; это местослужило последним оплотом в случае, если нижний город, несмотря на защиту стен, будет взят. Набопаласар и сын его в своей столице отчасти подражали такому устройству города; дворцы (сначала старый, потом и новый) были не только резиденцией властителя, но в первую очередь имели военное назначение; они усиливали оборону Вавилона. Вот почему Навуходоносор так настойчиво говорит о них; в то же время об их планировке и украшении дворцовых интерьеров он распространяется гораздо меньше.
Сначала Навуходоносор всего лишь обустроил дворец отца в северо-западном конце города, вплотную примыкавший к городской стене. Только в конце царствования он принялся за постройку новой резиденции. Прежняя, объяснил он, была слишком бедна, чтобы вместить царскую славу. При этом государь имел возможность наглядно продемонстрировать свое исключительное почтение к Вавилону, хотя он мог бы перенести средоточие своей власти в любое место Вавилонии и даже всей империи: «Чтобы не ставить место царствия моего в другом стольном городе, я не строил царского жилища в других населенных местах. Не поместил я сокровища, достойные царствия моего, в других странах».

Вавилон эпохи Навуходоносора II (по плану Э. Унгера 1931 года)
Прежде всего он окружил новой стеной большое пустое пространство к востоку от дворца Набопаласара до Священной дороги*. Это было сделать довольно просто, тем более что на этом месте не было сооружений или в крайнем случае стояли частные дома. Когда там на насыпном холме был построен новый дворец, царь поднял до той же высоты старые отцовские постройки. Все дворы при этом были хорошо вымощены. Здание (скорее всего, одноэтажное) имело в периметре 900 метров. Оно было возведено только из кирпичей, как и все другие царские памятники – гражданские, военные, культовые. Кое-где надписи намекают на применение каменных глыб, но их следы сохранились лишь на Священной дороге; возможно, они использовались еще у ворот Иштар. Раскопки не выявили ни мебели в большом количестве, ни архивов; очевидно, сменявшие затем друг друга завоеватели выбрасывали архивы за ненадобностью, а движимость, вплоть до времени запустения Вавилона в I веке, уносили с собой. Поэтому мы плохо представляем себе назначение помещений. Без особых трудов можно распознать три ансамбля. Главный вход находился на востоке, являясь продолжением Священной дороги. Через него входившие попадали в расположение гарнизона. Затем через первый двор можно было пройти в помещения канцелярий Вавилонии и империи. Далее через монументальные ворота путь вел в центральную часть дворцового комплекса; по левую руку открывался тронный зал – прямоугольник размерами 52 на 17 метров; это было самое просторное помещение обоих дворцов. Трон стоял в нише у стены, на одной оси с единственной дверью. Следовательно, его местонахождение не было подражанием расположению статуй божеств: те всеми способами скрывались от глаз непосвященных, государь же восседал у всех на виду. Фасад этого почетного зала, выходивший во двор, был отделан глазурованным кирпичом. Зал был украшен рядом колонн с капителями в виде волют[41]41
От voluta (ит.) – завиток; архитектурный элемент в форме спиралевидного завитка с кружком (глазком) в центре. (Прим. ред.)
[Закрыть]. Вверху по фризу шел бордюр из двух рядов пальметт[42]42
Деталь декора в виде стилизованного веерообразного пальмового листа. (Прим. ред.)
[Закрыть]. На синем лазуритовом фоне выделялись оранжевые и белые детали. Вся восточная часть дворца до Евфрата, как можно предположить, служила личными апартаментами царя, его супруги (или супруг), детей и, возможно, высших сановников.
Ансамбль довершался северным бастионом за двойной стеной, то есть уже за городом: «Возвел я крепкую насыпь в шестьдесят локтей (около 30 метров. – Д. А.) на Евфрате, чтобы там было сухое место, и укоренил основания ее асфальтом и обожженными кирпичами в земле глубоко, на подземных водах, и поднял над ней кровлю. С дворцом <старым> соединил ее. Воздвигнул ее как гору из асфальта и обожженных кирпичей; кедры могучие насадил, да покроют ее. Я поставил откосы кедровые, одетые в бронзу, у больших ворот, <сделал> пороги и петли из литой бронзы. Назвал я это здание: “Да живет Навуходоносор, многая лета надзирающему за Домом под высокой кровлей и Домом правды!”» На самом деле царь не сразу решился придать новому сооружению такие размеры: отчетливо видно, что уже в ходе строительства оно было увеличено вдвое. С другой стороны, симметрично, также был сооружен форт, защищавший монументальные ворота Иштар, обращенные к востоку. Именно там строители применили самые прочные обожженные кирпичи из всех, использовавшихся при возведении вавилонских памятников. Дворы были вымощены камнем: песчаником, известняком и базальтом. Наконец, дворцовый комплекс довершался еще одним укреплением, которое было построено прямо на левом берегу Евфрата, запирая реку при входе в Вавилон. Его стены достигали огромной толщины – до 25 метров – и были обмазаны асфальтом, чтобы их не размывало течением. Старый и новый дворцы вместе стали грозной крепостью, господствовавшей над городом.
Руины, найденные археологами, не дают представления о том, чем были эти здания во времена Навуходоносора: даже облицовка укреплений не уцелела; не сохранилось почти ничего, кроме голого кирпича. Но мы можем частично составить представление об их прежнем великолепии, опираясь на свидетельства их строителя. Дворцовые потолки были сделаны из кедра, пихты и кипариса. Все внутренние двери дворца имели бронзовые пороги и петли. Кедровые дверные косяки были обложены или бронзой, или медью, а на самых роскошных имелись инкрустации из черного дерева и слоновой кости в серебряных и золотых окладах. К сожалению, ничего больше о внутреннем убранстве царь не сказал.
Много фантазий связано с так называемыми висячими садами. Однако вавилонские источники ни словом на них не намекают, а раскопки не обнаружили от них ни малейших следов. Если они всё-таки существовали, то, очевидно, представляли собой посадки фруктовых деревьев или пальм в горшках, устроенные на террасах. Остальное является плодом воображения потомков.
Наконец, у северо-восточного угла внешней стены Навуходоносор устроил летний дворец; благодаря выдвинутому расположению он играл ту же роль, что двойной дворец в Вавилоне, но находился двумя километрами севернее. Он представлял собой почти квадратное сооружение, все двери которого выходили в два двора. Он находился, собственно, уже не в столице: большое пространство между дворовой оградой и двойной городской стеной было незастроенным – лишь кое-где на нем могли располагаться хутора или деревушки.
Зато сам город Вавилон выделялся тем, что внутри ограды был сплошь застроен. Другие стольные города царства были не такими: там росли сады и пальмовые рощи, пасся скот. Так, Урук традиционно описывался как город, на треть состоящий из жилых домов, на треть – из плодовых садов и на треть – из заброшенных кварталов; то же было и в Уре. В столице улицы – точнее, переулки – как и везде, были очень узки, но параллельно Евфрату, северной и южной стене шли два широких проспекта. Таким образом, уличная сеть в основном следовала ориентации, заданной дворцом и храмом Мардука. Общая планировка была наследием прошлого – она возникла задолго до Навуходоносора. К планировке города царь не имел отношения. В начале II тысячелетия Вавилон, вероятно, был овальным, но уже в те времена, как и позднее, Евфрат протекал прямо через него. По крайней мере так говорят тексты – археологических данных для их подтверждения у нас недостаточно. Прямоугольная планировка была заложена одним из государей конца II тысячелетия, имя которого нам неизвестно. Подобные очертания оказались для всех пригодны и удобны; так или иначе, их придерживались все последующие архитекторы.
Оценить численность населения города невозможно; предполагают, что в нем жило около ста тысяч человек. Во всяком случае, в VI веке количество жителей росло, поскольку тогда застраивались пустовавшие места. Такое скопление людей давало столице господствующую роль в экономике. Чтобы представить себе ее детально, нам не хватает документов. Расположение Вавилона на Евфрате уже само по себе было серьезным преимуществом. В империи были проложены сухопутные дороги, функционировавшие тысячелетиями, но в «стране Шумера и Аккада» все города без исключения между собой связывались сетью водных магистралей – двумя главными реками и судоходными каналами. Это означало, что сухопутные перевозки там играли второстепенную роль – использовались лишь на малых расстояниях; товары, люди и боги (их статуи) передвигались по воде. Понятно, почему Навуходоносор такое пристальное внимание уделял обустройству русла Евфрата в черте города; уже за много веков до него река была там превращена в канал и носила даже особое название: Арахта. Из Вавилона гораздо лучше, чем из Сиппара, можно было контролировать всю торговлю от Хита на севере до Бахрейна на юге.
Навуходоносор продолжил и усовершенствовал работы, начатые Набопаласаром: «Я, старший сын его, любезный ему, построил из асфальта и обожженных кирпичей набережную Арахты и сделал ее прочнее, чем сделал отец мой. Я сделал ее из асфальта и обожженных кирпичей, чтобы уберечь Дом под высокой кровлей и Вавилон. Я поставил ее основания на водах глубоких и возвел над ней кровлю, как гору». Ему не пришлось строить мост через реку – он уже существовал, длиной в 123 метра; его деревянный настил шириной в два десятка метров лежал на быках из обожженных кирпичей, скрепленных асфальтом. Очевидно, рядом с ним был и понтонный мост. По ним вавилоняне переправлялись в западное предместье.
Последним благодеянием, совершенным Навуходоносором для города, был канал под названием «Истинно несущий процветание»[43]43
Либиль-хегалла (аккад.).
[Закрыть]. Чаще его называли попросту «Прекрасный канал». Он пересекал весь Вавилон в форме буквы S. До Навуходоносора из него брали воду, несмотря на то что в домах были колодцы. Царь велел очистить его и одеть его берега в обожженный кирпич. Теперь он мог играть роль в обороне города, служа в качестве рва дополнением к южным укреплениям старого и нового дворцов, которые, таким образом, оказывались полностью окружены водой.
Однако более всего авторитет Вавилона для Ближнего Востока держался на его богах. Сохранился список городских памятников и улиц VI века. Он заканчивается так: «Всего сорок три храма богов великих <…>; пятьдесят пять жертвенников Мардука <…>, триста жертвенников богов вышних и шестьсот жертвенников богов нижних, сто сорок восемь изображений Иштар, двести сорок восемь малых жертвенников <посвященных малым богам и созвездиям> в самом городе». Таким образом, Вавилон поистине был «стольным градом богов», как говорил о нем Навуходоносор. Об этом знал и Алкей в далекой Митилене: он называл его «священным Вавилоном». Но прежде всего то был город Мардука, хотя и за его стенами этому богу поклонялись еще очень и очень многие.
Надпись Вади-Брисса оповещала всю империю: Вавилон – «стольный город господа вышнего», где явлена «слава его». Из этого следовало, что всякий государь, который плохо отнесется к Вавилону, будет наказан. Таков был урок, который псевдоисторический рассказ старался вывести из жизни прежних царей: того, кто не будет неустанно угождать Мардуку, ждет страшная кара; тот же, кто будет чтить его, и сам будет почтен сверх чаемого. О тоне всего сочинения дают достаточное представление два отрывка.
Первый вспоминает об исключительном событии в истории Вавилонии – пребывании у власти женщины (именно в качестве царицы, а не супруги царя) в Кише в XXVI веке. Это достоверный факт, хотя больше ничего мы о ней не знаем. Главная мысль этого рассказа состоит в том, что только Мардук имел власть в нарушение всех правил наградить ту, которая верно служила ему во времена гонений. Повествование определенно напоминает сюжет Благовещения: «В царство Пудур-Нираха, царя города Акшака, рыбак из Дома под высокой кровлей сидел на берегу канала и ловил рУбу. [Назначалась] рыба, которую <он> ловил, для трапезы господа, но люди царские отобрали у него всю рыбу, и [не стало у] рыбака рыбы. Через девять дней послал рыбак рыбу, которую ловил, в <пивном> котле трактирщице Кубабе; и дала ему Кубаба хлеба, и ячменя, чтобы варить пиво, дала ему воды. Мардук, господь могучий, посмотрел на нее радостным взором, и он воскликнул: “Да будет так!” И отдал он Кубабе всю страну».