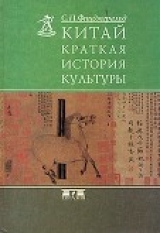
Текст книги "Китай: краткая история культуры"
Автор книги: Чарльз Фицджеральд
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 34 страниц)
продавца груш, У Сун заманивает любовников в ловушку и, получив доказательства преступления, мстит женщине и ее возлюбленному. Затем, чтобы избежать последствий, он отправляется в горы. В "Цзинь, Пин, Мэй" повествование начинается с того момента, как неверная жена знакомится с молодым богатым торговцем Симэнь Цином. Как и в изначальном сюжете, описывается убийство старшего У, мужа Цзинь-лянь. У Сун возвращается в город и узнает истину, и здесь ход повествования меняется. Цзинь-лянь становится наложницей Симэнь Цина, а У Суну не удается осуществить план мести, и он отправляется в ссылку за попытку убить Симэнь Цина. Затем действие переносится в дом Симэнь Цина. Здесь сюжет "Цзинь Пин Мэй" уже становится полностью оригинальным и непохожим на сюжеты исторических романов. Если в последних женские характеры немногочисленны, надуманы, условны и играют малозаметную роль, то в "Цзинь, Пин, Мэй" главными действующими лицами являются Цзинь-лянь и две ее соперницы – жена Симэнь Цина и еще одна наложница. Рассказ, таким образом, описывает домашнюю жизнь обычной средней семьи небольшого провинциального городка. Симэнь Цин, хотя и процветает, остается всего лишь купцом, поэтому ученые амбиции и чиновничьи должности не играют никакой роли в романе. Он описывает интриги женщин ради расположения мужа, взаимную ревность и повседневную жизнь. Лишь в самом конце книги, когда Симэнь Цин уже мертв, действие вновь возвращается к изначальному сюжету "Речных заводей". У Сун возвращается из ссылки и мстит убийце своего брата. До недавнего времени многие считали этот роман развратным и чуть ли не "порнографическим". Действительно, некоторые фрагменты невозможно перевести, избежав "непристойностей", но в целом это не оправдывает заострения внимания именно на "пикантных" моментах и несправедливого обвинения самого романа и его значения для развития китайской литературы. Если книга и является порой "неприличной", то только потому, что, описывая домашнюю жизнь той поры, этого трудно было избежать. Автор "Цзинь, Пин, Мэй" отнюдь не задается целью дать как можно больше эротических сцен, он лишь рисует уравновешенную, хотя и слишком откровенную картину человеческих взаимоотношений. Значение романа как шага в развитии китайской литературы чрезвычайно велико. Впервые женские характеры играют в повествовании равную с мужскими роль. Они выписаны с мастерством и симпатией. В отличие от "Сань го" и "Шуй ху" с их бесконечными повторениями баталий и поединков, "Цзинь, Пин, Мэй" имеет дело с мирной повседневной жизнью средней семьи, а материалом для сюжета являются столкновения темпераментов и характеров. В течение многих лет роман оставался непревзойденным образцом нового жанра "домашних" рассказов. В минскую эпоху появилось несколько подобных романов, некоторые герои которых созданы с большим изяществом. Но в целом в реалистичности и искренности они уступают "Цзинь, Пин, Мэй". Такие книги, как "Юй цзяо ли" и "Хао Цю чжуань" имеют свои положительные стороны, но описание личностей их персонажей, особенно главных героя и героини, слишком условно и формально, чтобы быть убедительным. Молодой ученый, для которого не составляют трудностей ни боевые подвиги, ни литературное творчество, который всегда первый в экзаменационных списках, в конце концов, после многочисленных приключений и превратностей судьбы женится на столь же "идеальной" героине, знающей и искусство, и поэзию. Главная заслуга этих историй в том, что они рисуют живую картину дворцовых интриг и продажности чиновников, но только постольку, поскольку это не касается главного героя. Можно сказать, что все эти романы подготовили общественный вкус к восприятию величайшего из китайских романов, который, хотя и не был написан при Мин, вобрал в себя и в то же время превзошел достижения предшествующих двух столетий. "Хун лоу мэн" ("Сон в красном тереме") был создан в середине XVIII века и описывает цинскую эпоху. Подобно "Цзинь, Пин, Мэй", он рассказывает о жизни одной семьи, причем самыми яркими характерами являются женские. Многие годы авторство романа было окутано тайной, и еще недавно существовали различные версии как относительно имени создателя, так и цели и "тайного смысла" книги. Предполагались, что роман является сатирой на молодые годы какой-то знаменитой личности, самой популярной была версия об императоре Кан-си. Однако эти теории, как бы их ни любили ценители "скандальных" историй, не имеют под собой основания. Ху Ши убедительно доказал, что первые восемьдесят глав написаны Цао Сюэ-цинем, а сорок – Гао Э. Таким образом, первый может считаться подлинным создателем романа. Он был обедневшим потомком некогда знатной семьи, китайцем, включенным манчжурскими властями в список привилегированных китайских Знаменных Войск. В начале правления Цин семья Цао была осыпана почестями и богатством. Она даже удостоилась чести принять у себя императора Кан-си во время его поездки по Чжэцзяну. Но к тому времени, когда Цао Сюэ-цинь создал свой шедевр, богатство семьи растворилось. Сам он жил на задворках Пекина почти в нищете, и его книга, написанная в таких условиях, призвана была увековечить былую славу семьи. Роман автобиографичен. Бао Юй – это Сюэ-цинь в детстве, быть может, такой, каким он хотел видеть самого себя. Большая семья Цзя, в которой и происходит действие, – это семья Цао накануне упадка. "Хун лоу мэн" – книга во всех отношениях уникальная. Ни один китайский роман не сравнится с ней ни изяществом и изысканностью языка, который, тем не менее, остается языком "байхуа", ни тонкой характеризацией и артистической цельностью сюжета. Правда, эти достоинства несколько снижаются в последних главах, принадлежащих кисти Гао Э. Хотя его работа и уступает первой части, но все же достойна похвалы, хотя бы потому, что он – есть основания полагать – следовал изначальному замыслу первого автора. Герой романа – Бао Юй – второй сын высокопоставленного чиновника и наследного гуна (князя), "правильный" и несколько ограниченный ученый-конфуцианец, подлинный представитель чиновничьего класса. Бао Юй не представляет собой образец сыновней почтительности и "ученой индустрии", каким должен быть человек его класса и возраста. Напротив, добрый и мягкий, он ленив и безразличен к классическим штудиям, в которых его успехи невелики. Зато он проявляет несколько преждевременный интерес как к фривольным развлечениям и времяпрепровождению в компании своих двоюродных сестер, так и к женскому обществу в целом. Бао Юй обладает художественным темпераментом, при этом его природный поэтический дар не превращается в божественный, как это случалось в ранних романах. В основе сюжета – любовь Бао Юя к своей кузине Линь Дай-юй, которая, потеряв в детстве родителей, живет в семье Цзя под опекой бабушки, доброй, но деспотичной домоправительницы. Образ старой женщины – один из самых удачных и восхитительных в романе. Столь близок и понятен образ почтенных представителей семьи, насаждающих в доме железные устои, но легко прощающих слабости любимых внуков. Искусно выписаны и женские характеры – Линь Дай-юй и Сюэ Бао-чай, которая приехала погостить в семью Цзя. Они красивы, воспитанны и образованны, но зримо ощущается трагичность их судьбы – замужество с неизвестным человеком, из странной семьи, без их согласия и даже предварительного знакомства. В этом отношении роман просто эпохальный. Он впервые осуждает тиранию свадебных обычаев. Автор слишком большой художник, чтобы отгородиться от этого. Он показывает родителей Бао Юя и опекунов Дай-юй человечными, разумными и твердыми людьми, жаждущими устроить браки детей так, чтобы они и обеспечили процветание семьи, и не принесли в жертву счастье молодых. Дай-юй слишком деликатна, и Бао Юй женится на Бао-чай, другой кузине. Дай-юй, полагая, что возлюбленный сам оставил ее, умирает в его свадебную ночь. Трагизм несчастной любви – всего лишь один из аспектов книги, быть может, даже не самый главный. Подлинный сюжет – конфликт художественной натуры, воплощенный в лице капризного и слабого Бао Юя, и сурового и беспощадного мира действительности. Хотя "Хун лоу мэн" – роман отчасти автобиографичный, ибо многие созданные в нем сцены и персонажи были знакомы автору в детстве, подлинная цель произведения – критика связанного ритуалами китайского общества XVIII века и доминировавшей в нем конфуцианской философии. Конечно, этот критицизм скрыт, ибо автор никогда открыто не встает на сторону свободы и искусства, лишь незаметно побуждая читателя сочувствовать Бао Юю, осуждая при этом ошибки и недостойное поведение своего героя. Позиция Цао Сюэ-циня более четко проявляется в пассажах, в которых случайно, но всегда с глубоким смыслом появляются буддийские монахи. Резкий контраст между мирской атмосферой огромного дома Цзе и странствующими нищими, отказавшимися от всех богатств и родственных связей, всегда в пользу последних. Поэтому можно предположить, что окончание романа – когда Бао Юй покидает семью, чтобы войти во "врата пустоты", то есть стать буддийским монахом, – соответствовало и тайным намерениям автора. ПРИМЕЧАНИЯ 1 Сейчас можно считать доказанным влияние индийского театра на формирование китайского на первом этапе его существования. – Прим. ред. 2 Движение за новую культуру достигло своей кульминации в "движении 4 мая" (1919 год) – у сы юньдун, приведшем к отмене официального статуса древнего литературного языка и переходу в прессе, культуре и официальном делопроизводстве на современный разговорный язык. – Прим. ред. 3 Уже наше время дало великого актера, исполнителя женских ролей – Мэй Лань-фана (в 50-е годы гастролировал в СССР). – Прим. ред. 4 Цыси (Милостивая-и-Радостная) – императрица цинской династии (умерла 1908 году), бывшая регентшей при двух императорах этой династии (Тун-чжи и Гуан-сюе) и в течение полувека фактически деспотически правившая Китаем. Покровительствовала театру, создав в своей летней резиденции (Ихэюань) особый театральный павильон для представлений на открытом воздухе. – Прим. ред.
5 Последнее утверждение – сугубо личное мнение автора. – Прим. ред. 6 Ху Ши – выдающийся философ, литератор, ученый и политический деятель первой половины ХХ века, один из борцов за официальное признание разговорного языка, ученик американского философа-прагматика Дьюи, по политической ориентации – либерал-западник. После установлении в Китае коммунистического режима (1949 год) переехал на Тайвань, представителем правительства которого долгое время был в ООН (до 1970 года в ООН была представлена не КНР, а Китайская Республика на Тайване). – Прим. ред. 7 Роман назван по фамилиям его главных героинь, но они, в свою очередь, образуют слова "Цветы сливы в золотой вазе". – Прим. ред. 8 Роман подписан псевдонимом "Ланьлинский насмешник", Ланьлин сяо сяо шэн. – Прим. ред.
Глава XXVI. Архитектура
Китайская архитектура чаще всего связывается с минской эпохой, и не только потому, что при Мин она значительно усовершенствовалась, но и потому, что от прежних эпох сохранились лишь очень немногие памятники. Минские императоры были великими строителями, они реконструировали и украшали города и храмы. Этим творениям суждено было дойти до наших дней, в то время как плоды трудов их предшественников, быть может, не менее великолепные, исчезли. В отличие от древних цивилизаций Ближнего Востока, в Китае не сохранились архитектурные памятники далекого прошлого. Древние китайцы строили из дерева и глиняных кирпичей, а эти материалы быстро уничтожаются временем. От феодальной эпохи и даже от Хань не дошло до нас никаких сооружений, за исключением скрытых под могильными курганами гробниц. Великая стена, построенная Цинь Ши Хуан-ди, столь часто ремонтировалась, что весь верхний ее слой создан намного позднее. На месте танских дворцов Чанъани и Лояна остались лишь бесформенные холмы. Первые буддийские постройки, такие, как монастыри Баймасы в Лояне и Даяньсы, недалеко от Чанъани, находятся и теперь на прежнем месте, однако и они часто перестраивались. В целом, за исключением некоторых танских пагод, существующие сооружения являются минскими творениями. Таким образом, изучению истории и генезиса китайской архитектуры мешает отсутствие материалов. К счастью, отчасти этот пробел восполняют письменные источники и археологические находки (особенно открытие ханьских глиняных жилищ и барельефов, изображающих здания). Эти находки показывают характер и стиль ханьской архитектуры, ведь создаваемые «модели» должны были обеспечить душе усопшего существование в загробном мире, ничем не отличающееся от земного. На барельефах изображены классические дома той эпохи, кухня, женская половина и зал для приема гостей. Глиняные образцы доказывают, что, за небольшими исключениями, и по планировке и по стилю ханьская домашняя архитектура похожа на современную. Ханьский дом, как и его нынешний потомок, состоял из нескольких дворов, по бокам которых находились залы, поделенные, в свою очередь, на меньшие комнаты. Высокая и крутая крыша покоилась на колоннах и покрывалась черепицей, хотя характерные загнутые концы крыш ранее были менее изогнутыми. Это существенное изменение, хотя полностью опираться на «глиняные свидетельства» тоже не стоит. В мелких чертах и деталях орнаментации глиняные дома из ханьских захоронений тоже весьма похожи на современные образцы. Главный вход защищен «ширмой от духов» (ин би) – стеной, построенной прямо напротив главного входа, чтобы внутренний двор не был виден снаружи. Она должна была преграждать вход в дом злым духам. По китайской демонологии, духи могут двигаться только по прямой, поэтому подобная уловка представлялась весьма надежной. Как свидетельствуют ханьские находки, подобные верования и обычаи строительства стены, защищающей от духов, были распространены уже как минимум к I в. н. э. Тип дома не претерпел серьезных изменений в первую очередь потому, что он идеально соответствовал социальным условиям китайской жизни. Китайский дом предназначался для большой семьи, каждое поколение которой жило в отдельном дворе, что обеспечивало как необходимую разделенность во избежание возможных раздоров, так и достижение идеала – единства под покровительством главы семьи. Поэтому все дома, и большие, и маленькие, спланированы именно так. От крестьянских жилищ с одним двором до огромных и просторных дворцов, называемых «дворцовыми городами», – везде сохранялась одна и та же планировка. Глиняные «образцы» и барельефы дают некоторое представление и о более богатых ханьских домах, но о великолепии императорских дворцов мы можем узнать только из письменных источников. Обнаружено место, на котором находился дворец Цинь Ши Хуан-ди в Сяньяне (Шэньси), однако раскопки еще не проводились. Сыма Цянь дает описание дворца в своем труде. Несомненно, что оно, хотя и написанное сто лет спустя после падения династии Цинь и разрушения Сяньяна, достаточно достоверно изображает его: «Ши Хуан, полагая, что население Сяньяна велико, а дворец его предшественников мал, начал строить новый дворец для приемов в парке Шанлинь к югу от реки Вэй. Первым делом он построил главный зал. С востока на запад он был 500 шагов, с севера на юг – 100 шагов. В нем могли уместиться 10 тысяч человек и быть подняты штандарты 50 футов в высоту. Вокруг по возвышенности была проложена дорога. От входа в зал прямая дорога шла к горе Наньшань, на гребне которой была сооружена в виде ворот церемониальная арка. От дворца в Сяньян через реку Вэйхэ была проложена мощеная дорога. Она символизировала мост Тяньцзи, который идет через Млечный Путь к созвездию Инчжэ». Сыма Цянь также говорит, что по берегам реки Вэйхэ Ши Хуан-ди построил копии дворцов всех завоеванных и поверженных им владык. В этих дворцах находились наложницы и богатства завоеванных правителей, все было подготовлено к приезду императора. Не довольствуясь этими роскошными апартаментами, Ши Хуан-ди построил в окрестностях Сяньяна еще несколько летних дворцов и охотничьих поместий и соединил их тайными дорогами и ходами, так, чтобы он мог незамеченным оказаться в любом из них. Быть может, описание дворцов Ши Хуан-ди и не лишено преувеличений, но несомненно, что при империи архитектура получила новый импульс к развитию, и здания строились в неведомых прежде масштабах. Ши Хуан-ди нашел дворец своих предков слишком маленьким и построил еще один, соответствующий его власти и честолюбию. Копии дворцов покоренных им правителей были, конечно, более скромными. История, рассказанная Чжуан-цзы за два столетия до Ши Хуан-ди, свидетельствует, что дворцы правителей были достаточно незатейливыми. Это история о поваре князя Вэньхуэй-вана, который применил даосские принципы в домашнем хозяйстве, когда разрезал тушу вола. Князь, восхищенный его искусством, наблюдал за ним из залы своего дворца. Раз так, то повар готовил мясо на главном дворе перед залом для аудиенций. Дворец князя очень напоминает, таким образом, дом зажиточного крестьянина. Даже если Чжуан-цзы придумал рассказ ради морали, очевидно, что для людей той эпохи не казалось таким уж невозможным, чтобы князь наблюдал за домашним хозяйством прямо из зала для приемов. У нас есть и другие свидетельства активного строительства в период Цинь. Великая Стена, которую впоследствии часто чинили и заново облицовывали, была спроектирована и соединена Цинь Ши Хуан-ди. Им же были созданы облик и расположение стены. Хотя лишь «сердцевина» современной стены является циньской, последующие поколения только реставрировали и поддерживали в порядке это величественное сооружение. Любой, кто увидит Великую Стену, вздымающуюся на вершины обрывистых круч, ползущую по крутым склонам и извивающуюся вокруг голых холмов Северного Китая на протяжении тысяч километров, легко поверит в роскошь дворцов Сяньяна. От ханьских, суйских и танских дворцов Чанъани и Лояна не осталось ничего, кроме земляных холмов, бывших террасами. Однако есть письменные источники, позволяющие судить о планировке и масштабах двух столиц танской династии. На основании их легко представить стиль самых больших зданий, да и план самого города. При Тан Чанъань был огромным городом, занимавшим площадь, в несколько раз большую, чем современный Сиань, построенный на месте бывшего императорского дворца и включающий в себя южную и западную стены столицы VII века. Общий план схож с планом Пекина. Минские императоры, видимо, строили город по весьма древнему «проекту». Чанъань, как и Пекин, прямоугольной формы, причем внутри города находится еще одна ограниченная стеной территория – Императорский город, в котором находились резиденции чиновников и членов правящего дома. Дворцовый город, соответствующий пекинскому Запретному городу, находился внутри Императорского, но, в отличие от Пекина, в Чанъани он был расположен не в центре, а в северной его половине и имел, таким образом, общую северную стену с окружавшими его двумя «кольцами». За северной стеной находился обширный императорский парк Цзиньюань (Запретный сад), в котором Тай-цзун позднее построил еще один Дворцовый город, называвшийся Дамингун. Он выбивался из общей планировки. В целом расположение строений соответствует пекинскому, а весь комплекс является все тем же классическим китайским домом, только в огромном масштабе. Суйские и танские описания и плиты Чанъаня доказывают, что минский император Чэн-цзу (Юн-лэ) в строительстве Пекина опирался на план еще более древний, чем танский. Если минские архитекторы и не проявили оригинальности замысла, их труд все равно остается шедевром. Так, важным нововведением стало украшение домов разноцветной черепицей, что придало минским постройкам, предназначавшимся для императора и храмов, яркий и выразительный колорит. Это стало возможным благодаря улучшившейся технике производства фарфора и глазировки. Едва ли предшествующие века превзошли минских архитекторов в изящности, силе линий и гармоничной группировке зданий. Запретный город (Цзыцзиньчэн), защищенный зубчатыми стенами и широким рвом, имеет прямоугольную форму и находится точно в центре Пекина. В него ведут четверо ворот, трое из них – на юге, востоке и западе, – открывают путь в большие дворы, по бокам которых располагаются залы для приемов и официальные учреждения, находящиеся в южной половине города. Эта часть дворца была доступна для министров и чиновников, получавших аудиенцию у императора, и предназначалась для официальных приемов и церемоний. Северные ворота вели непосредственно в апартаменты, занимаемые семьей императора и наложницами, к которым никто, кроме евнухов, не мог приближаться. Южная половина представляет собой ряд просторных дворов, обрамленных великолепными залами и воротами. Все это создает совершенное, симметричное и гармоничное единство, которое должно было не только служить для церемоний, но и впечатлять посетителей великолепием и властью
Сына Неба. Северная половина, стеной отделенная от южной, имеет более "домашнюю" планировку. Личные апартаменты похожи на лабиринт двориков, садов, аллей и зданий, в которых императорская семья и наложницы имели отдельные комнаты. Здесь симметрия и пышность уступают место домашнему удобству. Императоры династий Мин и Цин, жившие в этом дворце более пятисот лет, не занимали все время одни и те же апартаменты. По своей прихоти или же уверовав в то, что та или иная часть дворца является "несчастливой", они перебирались в другое место, а порой вообще покидали и опечатывали покои своих предшественников. Дэрлин , одна из принцесс, приближенных к Цыси, рассказывала, как однажды вдовствующая императрица совершала обход и увидела здания, которые были заперты и не использовались так долго, что из-за травы и кустов к ним невозможно было подойти. Ей сказали, что никто не помнит, почему этот дворец оказался заброшенным, но высказали предположение, что один из членов императорской семьи когда-то умер здесь от инфекционной болезни. Никто из дворца никогда не посещал покинутые апартаменты. Хотя личные покои Запретного города были обширны и разнообразны, императоры сочли летний городской воздух слишком нездоровым. С самых древних времен двор на лето переезжал в специальные загородные резиденции. Их строительство вызвало к жизни новый, менее официальный архитектурный стиль. У Цинь Ши Хуан-ди, как уже говорилось, в окрестных парках было много летних дворцов, служивших в то же время и охотничьими поместьями. Его примеру следовали ханьские и танские императоры, а особенно – неугомонный строитель Янь-ди, второй император Суй. Хотя от их дворцов и парков не осталось и следа, сделанные историками описания показывают, что они планировались точно так же, как и Юаньминюань, сооруженный Цянь-луном в десяти милях от Пекина – обширный парк с многочисленными дворцами и павильонами, разрушенный английскими и французскими солдатами в 1860 году. Современный Летний дворец, восстановленный Цыси в 90-х годах XIX века, лишь слабо напоминает оригинал . Если в официозных "императорских городах", последним из которых был Запретный город в Пекине, преобладали сплетенные в симметричной гармонии пышность и строгость, в "летних дворцах" господствовали изящество и обаяние. Если холмов и озер не было, то их создавали, не считаясь с затратами, чтобы присутствовали все формы пейзажа на любой вкус. Деревья специально сажали или пересаживали, как это было при суйском Ян-ди, повелевшем издалека на специальных повозках доставить уже большие деревья. Великолепные ландшафты имитировали полотна живописцев. Среди лесов и ручьев, на берегах озер и склонах холмов строились гармонично связанные с окрестностями павильоны. Казалось бы, они рассыпаны беспорядочно, но на самом деле – по тщательно продуманному плану. Каждый из них был снабжен всем необходимым, так что император мог по своему желанию отправиться в любой из них и найти все подготовленным к его появлению. Роскоши императорских дворцов старались следовать, в меньших, правда, масштабах, и в городских, и в загородных домах богатых семей. Никто – за исключением, быть может, англичан – не смог обойти китайцев в искусстве создания садов и загородных резиденций. Китайцы, несмотря на свои большие и населенные города, всегда были тесно связаны с сельской жизнью, всегда любили естественную красоту. С древнейших времен в Китае бытовала убежденность в высоком очищающем нравственном смысле пребывания в уединении среди гор. Даосские мудрецы жили на лесистых склонах высоких гор и отказывались сойти вниз, даже если сам император предлагал им высшие почести. Многие выдающиеся ученые и поэты годами жили в глубинке, лишь изредка посещая города. Столь характерное для европейцев чувство ужаса перед дикой природой китайцам было неведомо. Приход буддизма в Китай не оказал значительного влияния на стиль китайских храмов. И даосские, и буддийские храмы строились по одному и тому же плану китайского дома, измененному для религиозных нужд. Расположение двора и боковых залов точно такое же, как и в жилых домах, главные залы в центре предназначены для поклонения Будде или другим богам, а домашние апартаменты позади храма служили жилищами для монахов. Однако некоторые мотивы в украшении и орнаментации главных залов имеют явно буддийское происхождение и несут следы влияния греко-индийского искусства (например, кариатиды, поддерживающие крышу храма в монастыре Кайюаньсы, в городе Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь). Нынешние здания в Кайюаньсы – минского времени (1389 год), однако монастырь был основан еще при Тан. Вполне возможно, что кариатиды были скопированы в свое время с танских образцов, ведь при Тан влияние чужеродных культур было особенно велико. Предполагалось, что пагода, считающаяся наиболее характерной китайской постройкой, имеет индийское происхождение. Однако между индийским ступенчатым монументом, покоящимся на низком основании, и высокой китайской пагодой сходства очень мало. И хотя ныне последние сохранились лишь в буддийских монастырях, их подлинной предшественницей, скорее всего, является добуддийская китайская многоэтажная башня, которую можно видеть на ханьских барельефах. Такие башни чаще всего располагались по бокам от главного зала здания. Ханьские башни обычно были двухэтажными, с выступающими крышами, похожими на крыши нынешних пагод. С другой стороны, они очень тонкие в основании, и, скорее всего, представляли собой монолитные колонны. Хотя о подлинных размерах таких строений нельзя однозначно судить по барельефам (ведь художник подчеркивал то, что считал наиболее важным), они едва ли были намного выше самого главного зала, по бокам которого располагались. А значит, пагода стала высокой и мощной лишь в последующие века. Различие двух стилей китайской архитектуры особенно четко проявляется в храмах и пагодах. Часто эти два стиля называют северным и южным, хотя их распространение не всегда следует географическим границам. Например, в Юннани преобладает северный стиль, а в Манчжурии встречается южный. Эти исключения обусловлены историческими причинами. В Юннани при Мин и в начале Цин северное влияние было очень велико, а на южную Манчжурию, в свою очередь, оказал влияние юг (через морские пути). Основное различие двух стилей – в степени изогнутости крыши и орнаментации конька и карниза. В южном стиле крыши очень изогнуты, так что выступающий карниз вздымается вверх подобно горну. Коньки крыш часто усыпаны маленькими фигурками, изображающими даосских божеств и мифических животных, причем в таком изобилии, что линии самой крыши теряются. Карнизы и опоры украшены резьбой и орнаментацией, так что гладкой и "пустой" поверхности почти не остается. Самые яркие образцы такой страсти к украшательству, повлиявшие на европейский стиль XVIII века, можно видеть в Кантоне и южных приморских районах. Особого восхищения, однако, они не вызывают, ибо если тонкость резьбы и украшения сами по себе порой восхитительны, в целом линии постройки утеряны, и создается общее впечатление искусственности и перегруженности. От такого стиля постепенно отошли и сами китайцы. Даже в Кантоне многие здания, например, мемориальный зал Гоминьдана, построены уже в северном стиле. Северный стиль часто называют дворцовым, ибо его самыми лучшими образцами являются великолепные здания Запретного города и императорские гробницы минской и цинской династий. Завиток крыши более мягкий и сдержанный и напоминает крышу шатра. Тем не менее, предположения, что этот стиль берет начало от знаменитых шатров монгольских императоров, не имеет под собой оснований. Орнаментация сдержанная и менее пышная. Маленькие и более стилизованные по сравнению с южным стилем фигурки можно видеть лишь на коньках крыш. Удачный компромисс между перегруженностью южного стиля и стилизацией дворцов Пекина особенно хорошо просматривается в Шаньси. Здесь коньки крыш украшены маленькими, но грациозными и живыми фигурками всадников. Происхождения этих двух стилей окутано тайной. По ханьским образцам и барельефам (самым ранним из известных изображений зданий) можно видеть, что крыши в ту эпоху были лишь слегка изогнуты, а порой изгиб и вовсе отсутствует (неизвестно, однако, является ли это следствием несовершенства материала или скульптора или же действительно отражает стиль того времени). В танских рельефах и сунской живописи кривизна крыши уже просматривается, но она не столь значительна, как в современных южных постройках. С другой стороны, эта черта характерна для бирманской и индо– китайской архитектуры. Быть может, китайцы позаимствовали ее у южных соседей. В Японии, унаследовавшей архитектурную традицию от танского Китая, изгиб также незначителен и походит на присущий северному стилю. За исключением храма в горах Шаньси, обнаруженного Лян Сы-чэном в 1937 году, все сохранившиеся до наших дней деревянные и кирпичные постройки танской эпохи находятся в Японии, а не в Китае. Золотой зал монастыря Хорюдзи, построенный в 607 году и перестроенный после пожара столетие спустя, прекрасно иллюстрирует танский стиль архитектуры, часто встречающийся в картинах сунских художников и поэтому названный впоследствии в Китае сунским. В одном он существенно отличается от минского стиля: в сунском лишь передний и задний склон крыши непрерывны и плавно переходят в карниз, в то время как с востока и запада верхняя часть крыши представляет собой фронтон; в минском же стиле все четыре ската крыши одинаково плавно изгибаются к карнизу. Так построены Умэнь, главные южные ворота Запретного города, и некоторые другие залы и ворота дворцов Пекина. Сунский стиль был в ходу одновременно с минским. Так, крыши многих залов и павильонов Запретного города имеют характерные для него очертания. Каждый китайский город был окружен стеной. Неотъемлемость понятия "стена" от понятия "город" выразилась в том, что они обозначались одним и тем же словом "чэн". Естественно, что к городским стенам, придававшим городу его статус, относились с








