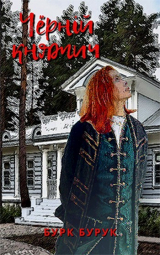
Текст книги "Чёрный княжич (СИ)"
Автор книги: Бурк Бурук
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)
***
– Мне тогда годков пятнадцать стукнуло, – уже в карете, по дороге к особняку Темниковых продолжал Пётр Григорьевич, – когда меня Игорь нашёл. Братец старший. Батюшка тогда уже от ран помер, Григория Оттовича я имею в виду, и я за старшего мужика в семье остался. Вот и представь, живёшь ты, с хозяйством управляешься, а тут является к тебе эдакий щёголь, и заявляет, что он твой брат, и отныне о тебе заботиться станет и опекать всячески. Я не поверил сразу же, и даже, – Кугель коротко хохотнул, – морду ему попытался набить, да куда там. Силён стервец оказался.
Ну а после ужо матушку расспросил, она-то всю правду мне и поведала. Так что верно ты, Никитка, меня дядькою кличешь. Дядька я тебе и есть. По батюшке.
– А я? – спросил Никита, на шпагу косясь, что Пётр Григорьевич промеж ног пристроил. Ему-то, как не дворянину, сей атрибут, не положен был. Пока не положен.
– Ты-то? – глянул на него Кугель, Да с тобой, племяш, история похожая, в мелочах лишь разница. Призвал меня как-то князь Алексей, уж извини, батюшкой его называть у меня язык не поворачивается. Призвал, значит, и о помощи попросил. Не велел, заметь.
Матушка твоя, Никитка, такоже в сенных девках у княжича Игоря состояла, и понесла такоже. Только она не глупая была, Маруся– то, отцу твоему ничего не сказала – сразу к князю кинулась.
– Почему? – глухо поинтересовался Никита.
– Почему? – задумался Пётр Григорьевич, – Да вот, как бы тебе объяснить. Родитель твой, о той поре, тоже на вроде тебя был, всё мечтал, чтобы мир жил по справедливости да по законам божеским. Это уж потом, жизнь его покрутила да взгляды поменять заставила. Вон одна служба в «Тайной канцелярии» чего стоит. А тогда... Вот чтобы он сделал, узнав о нежданном наследнике. Взял бы, да и женился, сдуру, чтоб всё правильно было, значит. А кому от сей правильности хорошо бы сделалось!? Тебе!? Так жил бы ты, милый друг, с клеймом ублюдка приблудного, и при дворе от тебя всякая пакость чистокровная рожу бы воротила. Матушке твоей!? Так представь, какими словами привечали бы холопку крепостную, в княгини пролезшую. Кто бы ей жизни дал. Себе!? Роду!? Не смеши меня. Нет, может, конечно, ничего такого и не было. Может и возобладал бы у Игоря Алексеевича голос долга и разума над восторженностью юношеской. Только к чему рисковать-то? Вот и не стали. Как я уже говорил, матушка твоя девицею оказалась не глупою, другая бы на её месте юнца плодом чресел его прельщать стала, а она нет. Сразу к князю пошла, так, мол, и так, ваше сиятельство, решайте делать– то теперь чего. Ну, у князя-то дорога налажена, нашёл солдата отставного Фому Малышева, Маруське вольную, мужу её скобяную лавку в Московском посаде да денег на обзаведение хозяйством. Ну а меня приглядеть попросил, чтобы всё по чину было, чтоб значит, обиды какой Маруське и ребёнку её не вышло.
– Так, что ж выходит, – удивился Никитка, – князь Игорь Алексеевич, так и не знает о моём рождении!?
– Так и выходит, – подтвердил Кугель, – подарочек я ему везу, разве что ленточкой повязать забыл, – и он шутливо ткнул отрока в бок.
Только Никита не принял сей шутливой манеры, а продолжал с лицом серьёзным и сосредоточенным, – А почему, в смысле, зачем ты меня у семьи забрал-то, дядя Петя? Я-то думал по княжьему слову, так сделалось, а выходит – нет. Выходит – Темниковы и не знают о моём существовании. Так зачем?
– Зачем? – задумался Пётр Григорьевич, – Вот, веришь ли, Никитка, и сам не знаю зачем. Просто как-то так вышло что мне, одного дня, бытие свое пустым показалось, бессмысленным, как у коровы. Живу бобылём, друзей не имею, цели достойной тоже. Для чего живу – не понятно. Так корова та хоть пользу какую – никакую приносит. А я? Пустое всё. Родичи? Так не я тем родичам не нужен, ни они мне. И тут вдруг о тебе вспомнилось, о таком же, как сам бастарде. А что, думаю, не помочь племяннику-то. Одна кровь, всё-таки. Ну а потом, полюбил я тебя, малец. Может от того что самого себя несмышлёнышем увидал, кто знает.
– Спасибо, дядя, – даже прослезился от этих слов Никитка, – я ценю это и чувствую.
– Да, будет тебе, – ворчливо усовестил его Пётр Григорьевич, но сам, однако же, рожу в сторону отвернул, и смаргивать стал часто, – эка невидаль, родную кровь в наследники подтягивать.
– Угу, – согласился малец принимая шутливый тон разговору, – а не жалко ли, такую-то ценность незнамо кому отдавать.
– Жалко Никита Игоревич, – серьёзно заметил Кугель. Вот не поверишь как жалко. Но так, я надеюсь, и ты воспитателя не забудешь, а ставши князем, найдешь, где обогреться сиротинушке.
– Я подумаю, – напустил важности Никитка, – и всё же, Пётр Григорьевич, думаю это плохо князем-то быть. Тяжко очень.
– Это с чего ты так решил? – заинтересовался Кугель.
– Ну как же! Живёшь будто на свету. И всё не для себя, а для кого-то. Даже любви тебе не полагается.
– Это, Никита Игоревич, долг называется, – строго пояснил воспитатель, – просто долг. А любовь она для чёрного люду придумана, тех, кто долгом не обременён.
Май 1749
Крестить княжича Дмитрия порешили в светлый день воскресения, да не в надомной часовне, а поехать в храм, что в селе Весёлом расположен был. Оно хоть и без особого размаху, но всё же праздник и развлечение. Ольга проснулась ещё затемно и Дашку крикнула, чтобы собраться помогала, а девки-то и нет. Вот что за напасть, никогда так не было, чтоб Дашка от дел своих отлынивала, а тут – на тебе, да ещё и в такой день. Ольга халат накинула и в коридор сунулась, чтоб лентяйку отыскать значит, и попенять ей за нерадение. Только ни в коридоре, ни в своей комнатке девки не обнаружилось. Начиная злиться, Темникова распахнула дверь в общую залу, и нате! Будто на шесть месяцев назад вернулась.
Дверь напротив, та, что на половину княжича вела, и куда Ольге ходу не было, отворилась тихонько. И оттуда Дашка выскользнула. В одной рубахе исподней, встрёпанная, с красными от недосыпу глазами, и блудливой улыбкой на довольной мордахе.
Замерли обе. Ольга, в тщетных попытках сообразить, что бы сие значить могло, а Дашка просто глаза, в ужасе, распахнула, и рот раззявленный ладошкой прикрыла, чтоб не заорать с перепугу. Стоят, друг на дружку таращатся. Сцену сию, водевилей достойную, Лука прервал.
Дверь по шире распахнулась и наружу Варнак шагнул, також расхристанный сонный и с рожею недовольною, а Ольга и не знала-то что он уж из поездки своей возвернулся. Шагнул, картину немую обозрел, хмыкнул насмешливо, а после княжне поклон учтивый отвесил, Дашку по задку хлопнул, да и отправился по делам своим. Хлопок тот собственнический, будто бы механизму какую провернул: – враз движение в мир вернулось.
Первою Дашка опомнилась. В пол, стыдливо потупилась, ушами заалела, – Осуждаете, Ольга Николаевна? – спросила несмело.
– Нет! – чуть ли не выкрикнула Ольга, – Ни в коей мере! Только, Даша, – он же старый. Ему уж, почитай лет сорок будет, а то и поболее.
– Пф, – фыркнула Дашка, – эка печаль что старый. Зато он аки скала замшелая, под которой и от непогоды укрыться можно, и дом к ней прислонить, и воды из родника напиться.
– Эка ты пиитствуешь, – с усмешкой восхитилась княжна, – не замечала за тобой такого ранее.
– Так, ранее, я и счастлива не была-то, – смутилась девка, – а теперича, смотрю на образину его страшную, а в душе всё ликованием заходится, как во храме божием.
Утреннюю их идиллию, прервали самым бесцеремонным образом: – дверь в покои Александра Игоревича резко распахнулась, сильно припечатав Дашку сзади, и миру явилась недовольная физиономия Лизки.
– Вы што тут за консилиум устроили? – с ходу возмутилась рыжая, – Почто горло дерёте с рання? А ну как княжича Дмитрия разбудите!? Сначала эта, – обвиняюще ткнула пальцем в Дашку, – вопила всю ночь, аки кошка мартовская, а теперь ещё и вы, Ольга Николаевна, сие непотребство поддерживаете.
Она недовольно поджала губы и убрела проверять, как там её драгоценный княжонок ночь провёл, сухи ли у него пелёнки, и не отлынивает ли Липка от своих обязанностей.
– Строга! – округлив глаза в притворном ужасе, заметила княжна. И обе женщины одновременно прыснули смехом, зажимая рты руками, чтобы и впрямь весь дом не перебудить.
Так что собиралась в поездку Ольга в настроении приподнятом и слегка игривом. Поместье, проснулось, загудело в преддверии события знаменательного. Глаша на кухне, как бы ни с вечера ещё окопалась, пообещав расстараться к празднику. Дворня носилась, псинами наскипидаренными, сразу за всё хватаясь и ничего толком не делая, а Пашка Востряков, сошедшись с доном Чапой в любви к вину гишпанскому, в погребе засели, тщательнейшим образом напитки к столу выбирая. Да так увлеклись, что его сиятельству лично пришлось извлекать их оттудова. Гишпанца, по внимательном осмотре, Темников сразу же спать отправил, а Павла Ильича самолично на задний двор выволок и в бочку с водой дождевой макать принялся.
Ну да, господь милостив – собрались всё же. Правда и тут без казусов не обошлось. Лизка тому виною.
Рыжая на двор выперлась в платье своём мужском, в кафтане да камзоле. Волосья короткие даже в косицу увязать не додумалась, так и стоит растрёпою, треуголку в руках тиская.
– Тебя ж, в церковь не пустят, в таком – то виде, – попеняла ей Ольга.
– А и пусть, – легкомысленно отмахнулась девка, – я на крылечке постою, подожду.
А сама замерла, голову задрав, рассветному солнышку улыбается, а волосы ветерком треплет.
– Лизка! – окликнул её раздражённый Темников, – Что замерла как статуй неоконченный? Ехать пора!
– Ага, сейчас я, – встрепенулась рыжая и в дом зачем-то умчалась.
– Гр-р, – коротко и ёмко высказался княжич, а после продолжил матерно.
Впрочем, девка отсутствовала недолго, из дверей выметнулась и на кобылу свою полезла. А у самой пальцы киноварью алой испачканы, в крови будто. Ольгу аж передёрнуло от такого сравнения.
– Х... Художница! – выразил своё отношение к происходящему Александр Игоревич и рукой махнул, трогаем мол.
Церковь в Весёлом, на крутом холме расположилась, а понизу, у начала дороги, общинные амбары в ряд выстроились. Княжич приотстал слегка, пьяненькому Вострякову мозги вправляя. Тот, вишь, кручу такую, увидавши наотрез вверх карабкаться отказался. Словом они приотстали, а Ольга с девками вперёд прошла. Тут у Дашки, дурищи, камешек в башмачок попал, она было к Лизке сунулась Димку спящего передать, да куда там: – рыжая всё в своих эмпиреях летает, и что говорят ей не слышит. Ольга Николаевна тогда сына сама забрала и, раздражённо зашагала вперёд.
И пяти шагов, наверное, сделать не успела, как вдруг Лука заорал. Страшно, громко, на разрыв связок. Княжна голову вскинула, а на неё с холма церковного, воз мешками груженный несётся. И так ясно всё видится, и мешковина потёртая, и колёса полосой железной обитые, и воронье племя Варначьим ором из-под куполов поднятое.
Увидала она всё это, а испугаться уже не успела. Сильные руки ухватили её за плечи и, перекинув через ногу, отшвырнули в сторону. Уже падая, увидала Ольга как Лизка, отбросившая её, то ли в ногах, то ли в полах кафтана запуталась, и сама отскочить не успела. Зацепило рыжую возом-то, самым краешком, уголочком. Зацепило, да и на стенку амбарную отбросило, но не сильно видать, девка на ногах даже устояла.
Ольга Николаевна, как упала, так и вскочила на ноги, будто рессорой каретной подброшенная. Первый взгляд, конечно, сыну что в руках удержала. А он и не проснулся даже, сопит, слюни по щеке пускает. Потом уже на рыжую глянула.
А та стоит к стене, прислонясь, мордаха белая, так что веснушки на ней огненными брызгами видятся. Потом улыбнулась, неловко как-то, виновато.
«Прости, – говорит, – барышня, дуру неуклюжую. Случайно я запнулась».
Сказала, и красным изо рта плюхнула.
Октябрь 1744
Дождливая осень в этом году выдалась. Как в сентябре лить с небес начало, так и не прекращало. Нет, прям не сплошным потоком, но мелкая холодная морось опадала на землю без устали.
Жатва уж закончилась, и обмолот тако же. Зерно что по амбарам попрятали, что на мельницу свезли. Сено, в стога сметали, и принялись ждать зимнего роздыху. А у баб да детворы новая забава, – в лес по грибы ходить. Оно ведь как, царь грибов – боровик о всякой поре найти можно, а вот гриб княжий, рыжик он в сих местах холод любит. В мокром мху, солнечной искрой выблёскивая.
Уважал Темников, гриб сей. Ему Глаша нарочно его солила свежим, да под гнёт на ночь ставила. А ужо на утро, княжич как встанет, так чарочку водки опрокинет и грибочком тем солёным закусит. И такое блаженство да умиление, на его лице играют, что Лизка смотрела бы, да смотрела. Но в лес она не за тем пошла, вернее сие обстоятельство тоже немаловажную роль сыграло, но всё же не за тем.
Её Анюта – сестрица старшая по грибы сходить пригласила. Вот уж чему Лизка изумилась-то. Не ладили, они последнее время с сестрою, крепко не ладили. И что виной тому даже не определить сходу. Может дурной Лизкин характер, а может разница в возрасте изрядная. Анюта ведь уже баба взрослая, мужем да двумя детьми одаренная, а Лизка так, шелупонь голозадая с ветром в голове. Лизка и не обижалась, здраво рассудив, что у каждого жизнь своя, и понимание этой жизни своё такоже.
А тут, глянь-ка, сама пришла, сама позвала. Не иначе как испросить чего хочет. Так Лизка что? Лизка не против, вон фавориты императрицы, сказывают, не токмо себе, а ещё и родне всей поместья повыпросили, а она чем хуже. Анюта родна кровь всё-таки, и коли наглеть да умничать не станет, отчего бы и не испросить у Темникова какое ни, будь послабление. Так и бродили меж сосен, рыжики да опята выискивая, Лизка выжидающе настороженная, и сестра её мнущаяся, не знающая как разговор завесть. Рыжая первой не выдержала, не в её шебутном характере было надолго беседу откладывать.
– Сядь! – велела она Анюте и сама на поваленный ствол плюхнулась.
– А?
– Сядь, говорю, и не мнись как навыдане, просто сказывай что надобно. Я помогу коли смогу, обещаю.
Анька расхохоталась, вдруг, весело, задорно, как в девицах.
– Ой не могу, благодетельница, – ржала она стоялою кобылой, – ой уморила! Так ты, поэтому на батюшку змеёю косишься, что он попросил у тебя чего-то. Дай-ка угадаю, небось, мельницу, что оне по весне ставить начали? И от меня теперь ждешь, что я благ всяческих клянчить стану?
– Ничего я не кошусь змеёю, – покраснела Лизка.
– Я поговорить хотела, – вдруг посерьезнев, сказала Анюта, – просто поговорить. Ты ведь отдаляешься от нас, всё больше и больше. То ли вверх, то ли в сторону куда-то. Кто знает, можа это последний наш разговор, так, по простому. Поговорить, да ещё повиниться. Не перебивай! – остановила она, пытавшуюся вставить слово Лизку. Да, повиниться. Я ведь тогда про тебя худое думала, ну когда ты в люди ушла, а потом заявилась этакой барыней. Ну и завидовала, конечно, а штож, ты и у батюшки в любимицах ходила, и княжич к тебе с ласкою.
– Я!? В любимицах!? – вытаращилась рыжая.
– О-о, – снова развеселилась Анюта, – сколь открытий новых для тебя сегодня. Так я что сказать хотела-то, где б ты не была, и чтоб не натворила, ты знай, что мы тебя всяку любить станем. Я, стану.
– Спасибо, – хлюпнула носом Лизка, – это так... Спасибо.
– Ну, полно. Полно ужо. – обняла сестру Анюта, а после спросила неожиданно, – Любишь его?
А Лизка даже переспрашивать не стала кого именно, лишь головой покачала, – Нет, не люблю.
– Как так? – удивилась Анюта, – я ж вижу...
– Не то. Не то ты видишь сестричка. Не так видишь. Вот представь, есть себе человек на свете божием. И есть у него собака, псица злая, лохматая, нервная. Так вот для псицы той, никого окромя человека и не существует. Он для неё всё, он сама жизнь и смысл этой жизни. Он, бывало, накажет, а она не в обиде, потому раз наказал, значит виноватая, он погладит – она визжит от счастия и не знает чем за ласку такую отдариваться. Она и кутят ему свои вручит, чтоб утопил. Скулить будет, орать в голос, но не воспротивится. Потому как человек тот худо поступить не может, потому что он её всё. Он её воздух, её хлеб, её земля под ногами. Самоё её жизнь. А как уйдёт, человек тот, и суку сию бросит, так она и издохнет вскорости. Но не от тоски как люди думают. А от вины неизбывной, ведь раз бросили, значит, ты что-то страшное сотворила, и хозяину более не нужной сделалась.
Вот скажи, Аня, – повернулась она к сестре, – это любовь?
– Не! – затрясла головой Анюта.
– Вот и я думаю, – кивнула Лизка, – не люблю я его.
Анюта помолчала, подумала, а после рыжую маковку к себе привлекла, – Страшно мне за тебя, сестрёнка.
– А мне нет, – встрепенулась Лизка, – вот ни на столечьки. Потому как знаю, что жизнь я проживу счастливую, и в посмертии моём всё будет правильно. Не спрашивай откуда. Знаю, и всё.
Май 1749
Церковь в селе Весёлом старая, чуть ли не при Иоане Васильевиче сложенная. Сказывают, раньше Весёлое Темниковым принадлежало, но после не заладилось что-то, и продали они село. Ну и храм, понятное дело при нём остался. Словом, за столько-то лет, всякое могли видеть стены церковные, с холма вниз глядючи. Может даже, и такое видывали.
В небе дурным криком орали напуганные суетой вороны, истово и слезливо хаял себя за нерасторопность Востряков. А княжич Темников Лизку отчитывал. И бранился, и руками всплёскивал, в словах ничуть не стесняясь. Рыжая только глаза пучила, а возражать, не смела.
– Ты понимаешь, бестолочь, – ярился его сиятельство, – что от тебя мне один разор и треволнения. Вот за для чего ты кафтан нацепила, на улице же теплынь, май месяц, курва твоя мама.
Лизка, судя по виду, пыталась возразить, что в кафтане красивше, а родительница её и вовсе не при делах, но княжич не дал ей и рта раскрыть.
– Как была дурой колченогою, так и осталась. А ещё художества твои непотребные, – вспомнил он наболевшее, – лучше бы вон, с Пашкою пьяной по полям скакала, всё бы двигалась ловчее.
Лизка потупилась, признавая вину. Народ стоял вокруг молча, не вмешиваясь, внимая разносу, что княжич холопке своей учинил.
– Словом надоела ты мне, – тяжко вздохнул Темников, – запомни, дурища, как на место прибудешь, чтоб ни в какие авантюры не влазила, хозяина, меня то бишь перед людьми не позорила. Поняла ли, убогая?
Девка согласно прикрыла глаза.
– Поняла она! – вновь взъярился Александр Игоревич, – в Кёльне ты тоже вроде бы поняла, а мне тебя после, из тюрьмы выкупать пришлось.
Лизка, невольно, улыбнулась, – видать в Кёльне и взаправду было весело.
– Хотя нет, – опомнился Темников, – я тебе всё же поручение дам. Не то, ты, лахудра, в какую ни будь гадость, непременно влезешь, от дурости и безделия. Покуда меня дожидаться станешь.
Вот обычная вроде бы картина, барин крепостную за нерадивость распекает, да поручение ей попутно даёт. Но нет, расположение героев всю мизансцену путало. Сиятельный княжич отчего-то на земле сидит, голову холопки, на колени, уложив, и гладит её по волосьям-то, легонько, едва касаясь. А ещё, хоть на небе не облачка, на щеках сиятельства капли крупные образуются, и вниз с подбородка срываясь, разбивают пузырики красные, что холопка у губ надувает. А от тех пузыриков разлетаются брызги, да на белую кожу девкину падают, так что и не понять, где у неё веснушки, а где эти капельки.
– Словом, так, – сурово продолжил Темников, – как на место прибудешь, разыщи матушку мою и сестрицу, ну ты поняла Арину Игоревну. Да обскажи им как у нас тут дела обстоят, внуком, опять же порадуй. Ну да разберёшься чего говорить, – болтать ты, завсегда была горазда.
Лизка краешком губ изобразила улыбку.
– Давай теперь, – величественно манул рукой княжич, – проси, что за службу хочешь.
Рыжая натужилась в попытках что-то сказать, но лишь закашлялась и губами шевельнула. И только знающий человек в сём шевелении смог бы разобрать слова: – «Вечность у ваших ног».
Темников разобрал. Глаза прикрыл в ответ и твердо сказал, – «Обещаю»!
Девка улыбнулась одними глазами, ласково так, и успокоено. А после тишина настала. Даже вороны дурные грай свой остановили. Такая тишина, что, ежели прислушаться, то можно различить как, с едва уловимым звуком, красные пузырики на губах Лизкиных лопаются.
А потом всё. И они лопаться перестали.
Эпилог. В котором выясняется что Галина Ивановна совершенно не разбирается в живописи, а ещё идёт дождь и Вика решает написать книгу
Май 2019
В Ростове шёл дождь. Тот самый майский ливень с грозой, когда молнии во всё небо, и громкие бабахи по ушам лупят.
В кофейне на углу латте имел вид мыльной воды, а на вкус... Вика так и не отважилась его попробовать. Но и уходить не спешила. А куда пойдёшь!? Дождь же! Можно конечно вызвать машину, но зачем? Вике хотелось тишины и одиночества, потому пустая кофейня устраивала её более чем полностью. Вика думала о времени, о мизерном промежутке: всего в каких-то триста лет, и о том, как изменились за это время люди. Ведь не было, не было же раньше такого сытого самодовольства, или было. Наверное, было, только об этом не писали в книгах, не снимали фильмы. Некрасиво о таком говорить считалось. Раньше. Теперь красиво. Теперь хорошо и правильно. А шпаги!? Вот уж кошмар, для чего у мужчин отобрали шпаги!? И пусть они тогда разукрашивали морды белилами, и носили парики, но тогда у них были шпаги. А без шпаг в мужской руке, и с женщинами какая-то ерунда приключилась.
Вика грустно хихикнула. Ну да. Глупо в двадцать пять лет рассуждать о судьбах человечества. Но это всё Темникова. Галина Ивановна будь неладна она и весь этот вечер.
Отчего-то Вике так нестерпимо захотелось вдруг пышных платьев и вуалей. Так вдруг обидно стало что, случись чего, за неё не то что на дуэль никого не вызовут, даже морду не набьют, хоть плачь.
«И что за блажь в голову лезет, – одёрнула она себя, – а слог-то, слог-то каков. Было, были, была. Да меня б уволили за такое, в первый же день. К чёртовой бабушке – Галине Ивановне. И сидели бы мы с нею вдвоём, рассуждая о нынешней молодёжи». Хотя, справедливости ради, от Темниковой таких разговоров ожидать не стоило боевая старушка, всё-таки, Галина Ивановна. Представить такую на лавочке у подъезда никак не получалось.
«Да и что хорошего в восемнадцатом веке, – продолжала рассуждать Вика, – поголовная оспа, вши и клопы. Хотя вши и сейчас есть. И клопы, наверное, тоже, в деревнях где-то. Зато ни интернета, ни поездов с самолётами. Тот же князь, вон, наверное, неделями из Петербурга в Москву добирался. Только и того что манеры, да шляпы с перьями. Эх, вот сейчас бы те обычаи, да в современных реалиях! Красота».
Вика зажмурилась, представив сообщение в " Вайбере«: – «Сударыня, не изволите ли вы прогуляться со мною в оперу. Сегодня там обещают аншлаг, – будут давать Тимоти и бесплатный » Мохито", будьте всенепременно«. Вика расхохоталась перепугав сонного бариста.
«Да и кто сказал, что Темников, именно таков каким княгиня его описывает. А даже если таков, кто сказал что остальные дворяне, тех же принципов придерживались. Ведь, наверняка, встречались среди них и подлецы и сквалыги. А вот засел в голове стереотип, дескать, дворянство равно благородству. Ой, вряд ли. Но вот Темников, он интересен».
Ранее Виктория исключительно за Лизкиной историей охотилась, но то другое, то для работы. А вот теперь...
***
– Лизка-то? – переспросила Галина Ивановна, – Лизка была рыжей.
– А как... – начала, было, Вика, но была остановлена Темниковой.
– Знаете, голубушка, это я вот перед вами всё бодрюсь, а на самом деле память меня уж подводит. Да, подводит.
Вика лицом изобразила непонимание.
– День сегодня такой, – пояснила княгиня, – точно в этот день, двести семьдесят лет назад, Лизка и погибла. И тут вы приходите, с расспросами о ней. Не находите что это как-то символично? Нет?
Вика, интенсивно, головой закивала, очень символично, мол, и кто бы мог подумать.
– А погибла она...?
«Ну а вдруг, – решила журналистка, – вдруг сработает». Сработало, к её удивлению.
Темникова глянула хитро, подмигнула заговорщицки, – Всё подловить пытаетесь!? Хм, завидное упорство. Наверное, очень хорошая черта для людей вашей профессии. А вы знаете, расскажу, пожалуй, там и тайны-то особой нет. В этот день, на семью Александра Игоревича очередное покушение устроили.
– Очередное? – сделала стойку Вика.
Галина Ивановна лишь отмахнулась от этой провокации.
– Так вот, Лизка Синица, каким-то образом предотвратить его сумела, спасла княжича Дмитрия, это сын Александра, если что, и жену его Ольгу. Спасла, но сама погибла при этом. Сами понимаете, память о таком очень долго не стирается. Вот оттуда и благодарность, и памятник что так вас заинтересовал. И память. Вот скажите, Виктория Дмитриевна, вы о своём прапрадеде, много знаете?
– Ну, – замялась Вика, – Калистратом его звали, кажется.
– Вот, – многозначительно подняла палец к потолку Темникова, – а ведь и сотни годков не прошло, наверное.
Вика виновато шмыгнула носом.
– А тут, почти триста лет, о какой-то крестьянке полуграмотной помнят. Нет, что не говори, а щедро отдарились мои предки за службу, очень щедро.
Своё мнение Вика решила оставить при себе. А то, ненароком, заденет самомнение эксцентричной старушки, и та, из вредности, рассказывать перестанет. Впрочем, Галина Ивановна, вероятно, рассчитывала на другую реакцию, поскольку вздохнула, огорчённо, и объяснять принялась.
– Вы поймите, Виктория Дмитриевна, мы ведь о тех временах ничего не знаем. То есть, вообще ничего, это я вам как историк скажу. Нет, нет, фактами, датами, и то и другое перевранное зачастую, мы владеем, и трактуем их в силу своего понимания. Вот именно что своего. Но тех людей мы уже не понимаем, и их поступки оцениваем со своей колокольни. Да вот хоть та же Лизка – девица, устроившая свою карьеру через постель. Для того века это было обычно, для нас с вами терпимо. Для вас в силу морали двадцать первого века, для меня из-за старческого цинизма. А ведь ещё двадцать – тридцать лет назад, такое ничего кроме брезгливого презрения не вызывало. Прилюдно, по крайней мере, на публику.
– А с чего вы взяли, что через постель только? – поинтересовалась журналистка.
– Вот. Вот об этом я и толкую. У меня есть факты, обрывки, клочочки. И из них я складываю картину привычную для моего, подчёркиваю, моего понимания. Сказано спасла Темниковых, а сама погибла, и угадай теперь, что там было. Может она кулебяку, отравленную, с княжеского стола спёрла да и сожрала вместо предполагаемых жертв. Мой вам совет, голубушка не доверяйте историкам, они лжецы почище журналистов.
– Эк, вы нас всех скопом припечатали, – восхитилась Вика.
– Се есть суровая правда жизни! – пафосно провозгласила Галина Ивановна, и, как-то, озорно, по девчачьи хихикнула.
Вика тоже разулыбалась.
– Но история ведь наука, – возразила она, – есть же, не знаю, какие-то методики. Проводятся же исследования.
– Разумеется, – согласилась Темникова, – и научным методом изучив рынок овса в Голопупенском уезде, в лето одна тысяча восемьсот двенадцатого года от рождества христова, я могу с уверенностью заявить, что граф Пузодрыгов, к примеру, неплохо заработал на военных поставках. Но я никак не узнаю, что сей граф, обожал скандинавский эпос, и был тайно влюблён в своего конюха Матвея. Мне попросту не откуда это знать. Понимаете?
– Кажется да, – кивнула Вика, – вы хотите сказать что, излагая мне историю Лизки вы, опираясь лишь на факты, нарисовали свою картину, отличную от действительности?
– Именно, голубушка, именно. Причём заметьте, на разрозненные факты. Александр Игоревич, человеком был скрытным, и хранил лишь бумаги, имеющие практическую ценность. Ничего личного, ни писем, ни любовных записок, которые в ту пору модным считалось хранить, и друзьям ими хвастаться. Он, откровенно говоря, в Петербуржском свете считался чудаком. Опасным чудаком, потому его «немодность» ни у кого удивления не вызывала.
– Ладно, – согласилась Вика, – это ладно, но вот вы сказали, что Лизка была рыжей. Это как? На каких таких практических документах вы основываетесь? Или Жена князя заказывала обивку дивана в цвет волос своей прислуги?
– Уели, – хмыкнула Темникова, – нет, вот молодец, Виктория Дмитриевна. Правда. А что до документов, так свидетельства не только письменные бывают. Изобразительное искусство тоже документ, в своём роде.
– То есть, – заинтересовалась Вика, – князь портрет своей любовницы заказал? И он сохранился?
Княгиня задумалась, головой покачала.
– А пойдём-ка мы с вами покурим, – предложила она. И снова в кухню направилась.
На кухне уже на своих привычных местах устроившись, и дружно решив, кофию более не откушивать, закурили. Вика сигареты свои, а Галина Ивановна, в этот раз трубку набила. Красивую, с длинным мундштуком и аккуратненькой чашкой. При взгляде на эту трубку так и хотелось назвать её «дамской», хотя и неизвестно бывают ли такие. А ещё, почему-то, возникало чувство, будто ты не сейчас, а когда-то в начале прошлого века. Так чтобы вокруг, мужчины в котелках и цилиндрах, а женщины все в длинных платьях с корсетом, и чтоб шляпки были непременно с вуалью. Запах от этой трубки стоял потрясающий, с тонкими нотками вишни и ванили.
– Датский, – пояснила Темникова в ответ на вопросительный взгляд девушки, – табак датский. Так вот, – выпуская плотные клубы дыма, продолжила она, – картина. Нет, князь, вернее тогда ещё княжич, никакой картины не заказывал. Тут история веселее вышла.
Вика всем видом изобразила внимание.
– Вам знакома такая ситуация, когда молодая симпатичная девушка, вдруг решает стать певицей, ни слуха, ни голоса при этом не имея. Зато имея в наличии состоятельного любовника. Ага, улыбаетесь, вижу что знакома. На самом деле я думаю, что в большинстве случаев, это всего лишь сплетни, но всё же картинка растиражированная и узнаваемая.
Ну вот, втемяшилось Лизке в голову стать художником. Так Александр Игоревич и поступил, как клише предписывает – нанял ей учителя из итальянцев. Что довольно дорого, заметьте. Счета за услуги, сохранились в архиве. Нет, попутно он ещё и портрет княжны Ольги Николаевны писал, а Лизка училась. Вот и научилась там чему-то.
– Так она что, автопортрет после себя оставила?
Княгиня поморщилась.
– Ну да, наверное автопортрет. Я, знаете ли, совершенно не разбираюсь в живописи. Такие вот издержки образования. А потому не знаю, как назвать автопортрет, где ещё кто-то присутствует.
– Автопортрет с кем-то, – авторитетно заявила журналистка, – например: «Автопортрет с женой».
Темникова скривилась ещё больше.
– Да, вероятно вы правы, словом, намалевала Лизка себя с Александром Игоревичем рядом. Даже не представляю, как ей уговорить-то его удалось. Больше ничего она не написала. Не успела, наверное. А портрет есть, и даже отреставрирован, и на нём Лизка именно рыжая.








