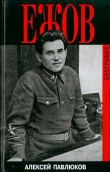Текст книги "Наркомы страха"
Автор книги: Борис Соколов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Перед лицом вечности
На квартире Ежова в Кремле было найдено немало интересного. Капитан госбезопасности Шепилов записал в протоколе: «При обыске в письменном столе в кабинете Ежова, в одном из ящиков, мною обнаружен незакрытый пакет с бланком «Секретариат НКВД», адресованный в ЦК ВКП(б) Н. И. Ежову, в пакете находились четыре пули (три от патронов к револьверу «Наган» и один, по-видимому, от патрона к револьверу «Кольт»). Пули сплющены после выстрела. Каждая пуля была завернута в бумажку с надписью карандашом на каждой «Зиновьев», «Каменев», «Смирнов», причем в бумажке с надписью «Смирнов» было две пули. По-видимому, эти пули присланы Ежову после приведения в исполнение приговора над Зиновьевым, Каменевым и др. Указанный пакет мной изъят». Еще на квартире, даче и в служебном кабинете обнаружено шесть пистолетов систем «вальтер», «браунинг» и «маузер» и пять винтовок и охотничьих ружей. Оружия у Ежова оказалось даже больше, чем у его предшественника Ягоды. У Николая Ивановича нашли 115 книг и брошюр «контрреволюционных авторов, врагов народа, а также книг заграничных, белоэмигрантских, на русском и иностранных языках». Выходит, он был не таким уж необразованным.
В разных местах в кабинете отыскались три полных, одна выпитая до половины и две пустые бутылки из-под водки. Из вещей – мужское пальто, несколько плащей, пар сапог, гимнастерок, фуражек, женских пальто, платьев, кофточек, фигур из мрамора, фарфора и бронзы, а также картин под стеклом. Улов оказался гораздо скромнее, чем при обысках у Ягоды.
Ежова заключили в Сухановскую следственную тюрьму НКВД под Москвой с очень строгим режимом. Через две недели после ареста Ежов направил записку Берии: «Лаврентий! Несмотря на суровость выводов, которые заслужил и принимаю по партийному долгу, заверяю тебя по совести в том, что преданным партии, т. Сталину останусь до конца. Твой Ежов».
И июня 1939 года начальник Следственной части НКВД комиссар госбезопасности 3-го ранга Б. 3. Кобу-лов утвердил составленное следователем старшим лейтенантом госбезопасности В. Т. Сергиенко постановление о привлечении бывшего наркома внутренних дел к уголовной ответственности. Ежова обвиняли в том, что он вместе с Фриновским, Евдокимовым, начальником 1-го отдела ГУГБ, ведавшего охраной членов правительства, Израилем Яковлевичем Дагиным и другими «заговорщиками» установил «изменнические, шпионские связи» с «кругами Польши, Германии, Англии и Японии». Получалось, что Николаю Ивановичу удалось объединить усилия государств, которые всего через пять месяцев после его ареста вступили в войну друг с другом. «Запутавшись в своих многолетних связях с иностранными разведками, – утверждал Сергиенко, – и начав с чисто шпионских функций передачи им сведений, представляющих специально охраняемую государственную тайну СССР, Ежов затем по поручению правительственных и военных кругов Польши перешел к более широкой изменнической работе, возглавив в 1936 году антисоветский заговор в НКВД (подхватив эстафетную палочку из слабеющих рук Ягоды! – Б. С.) и установив контакт с нелегальной военно-заговорщической организацией в РККА (получается, что, фабрикуя дело Тухачевского, Николай Иванович ловко сдавал сообщников; остается загадкой, почему же они его не разоблачили! – Б. С.). Конкретные планы государственного переворота и свержения Советского правительства Ежов и его сообщники строили в расчете на военную мощь Германии, Польши и Японии, взамен чего обещали правительствам этих стран территориальные и экономические уступки за счет СССР. Для практического осуществления этих предательских замыслов Ежов систематически передавал германской и польской разведкам совершенно секретные военные и экономические сведения, характеризующие внутреннее положение и военную мощь СССР (после 23 августа 1939 года, когда был заключен пакт Молотова – Риббентропа и СССР с Германией на время стали союзниками, немецкая разведка из обвинительного заключения выпала. – Б. С.).
В этих антисоветских целях Ежов сохранил и насадил шпионские и заговорщические кадры в различных партийных, советских и прочих организациях СССР.
Подготовляя государственный переворот, Ежов готовил через своих единомышленников по заговору террористические кадры, предполагая пустить их в действие при первом удобном случае. Ежов и его сообщники Фриновский, Евдокимов, Дагин практически подготовили на 7 ноября 1938 года путч, который по замыслу его вдохновителей должен был выразиться в совершении террористических акций против руководителей демонстрации на Красной площади в Москве.
Через внедрение заговорщиков в аппарат Наркомин-дела и дипломатические посты за границей Ежов и его сообщники стремились обострить отношения СССР с окружающими странами в надежде вызвать военный конфликт. В частности, через группу заговорщиков в Китае Ежов проводил вражескую работу в том направлении, чтобы ускорить разгром китайских националистов, облегчить захват Китая японскими империалистами и тем самым подготовил условия для нападения Японии на советский Дальний Восток. Действуя в антисоветских и корыстных целях, Ежов организовал убийства неугодных ему людей, а также имел половые сношения с мужчинами (мужеложество)».
Выходит, даже гомосексуализмом Николай Иванович занимался «в антисоветских целях»! Вообще же в постановлении рисовалась картина широкого заговора, в точности повторявшая сценарии процессов 1936–1938 годов. На возможность нового процесса намекали слова о том, что заговорщики действовали не только в НКВД, но и в других советских и партийных учреждениях. Поэтому у Ежова, когда он познакомился с постановлением, могла возникнуть надежда, что он тоже удостоится открытого суда. И Николай Иванович решил подтвердить на следствии все обвинения, несмотря на нелепость и абсурдность многих из них. Среди обвинений были и оригинальные. Например, Ежов якобы умышленно размещал лагеря с заключенными вблизи границ, чтобы подкрепить интервенцию Японии восстанием узников ГУЛАГа.
Некоторые из обвинений, скорее всего, соответствовали действительности. Вряд ли был выдумкой гомосексуализм Ежова – уголовно наказуемое деяние по тогдашним законам. Для открытого процесса этот сюжет не очень подходил, так как тема однополой любви для советской прессы в те времена была табу. Для закрытого же разбирательства придумывать обвинение в гомосексуализме не стоило, ведь к заговору с целью захвата власти оно никакого отношения не имело. Очевидно, здесь действовал принцип, по которому к фантастическим политическим обвинениям добавлялось несколько реальных бытовых. Точно так же после Второй мировой войны ряд генералов и маршалов судили по надуманным обвинениям в заговорах и антисоветской деятельности, заодно плюсуя и вполне справедливые обвинения в присвоении трофейного имущества.
Вряд ли был вымышлен и тот пункт обвинительного заключения, где утверждалось, что Ежов «в авантюристически-карьерных целях» создал дело о своем мнимом «ртутном отравлении». Реабилитировать Ягоду никто не собирался, так что приписывать Ежову фальсификацию не имело никакого смысла.
Любовный треугольник Ежов – Хаютина – Бабель чудесным образом трансформировался в террористический заговор с целью убийства Сталина и других руководителей партии и государства. Ежов на следствии утверждал (или повторял то, что диктовали следователи): «Близость Ежовой к этим людям (Бабелю, Гладуну и Урицкому – Б. С.) была подозрительной… Особая дружба у Ежовой была с Бабелем… Я подозреваю, правда, на основании моих личных наблюдений, что дело не обошлось без шпионской связи моей жены…
Я знаю со слов моей жены, что с Бабелем она знакома примерно с 1925 года. Всегда она уверяла, что никаких интимных связей с Бабелем не имела. Связь ограничивалась ее желанием поддерживать знакомство с талантливым и своеобразным писателем…
Во взаимоотношениях с моей женой Бабель проявлял требовательность и грубость. Я видел, что жена его просто побаивается. Я понимал, что дело не в литературном интересе моей жены, а в чем-то более серьезном. Интимную их связь я исключал по той причине, что вряд ли Бабель стал бы проявлять к моей жене такую грубость, зная о том, какое общественное положение я занимал.
На мои вопросы жене, нет ли у нее с Бабелем такого же рода отношений, как с Кольцовым (М. Е. Кольцов был арестован 14 декабря 1938 года, и Ежов знал о его аресте. – Б. С.), она отмалчивалась либо слабо отрицала. Я всегда предполагал, что этим неопределенным ответом она просто хотела от меня скрыть свою шпионскую связь с Бабелем…»
Николаю Ивановичу не хотелось выглядеть рогоносцем, поэтому он с готовностью представил связь Бабеля и Евгении Соломоновны не интимной, а заговорщической. Заодно можно было погубить и любовника жены, к которому Ежов ее сильно ревновал.
Посмертно Евгению Соломоновну Ежову объявили шпионкой, организовавшей вместе с мужем, Бабелем и другими заговор с целью покушения на Сталина. А Бабеля расстреляли на восемь дней раньше, чем его соперника-чекиста, – 27 января 1940 года.
Судила Ежова 2 февраля 1940 года Военная коллегия Верховного Суда в составе председателя – армвоенюриста В. В. Ульриха и членов суда – бригвоенюристов Ф. А. Клипина и А. Г. Суслина. Ни прокурора, ни адвоката, ни публики в зале суда не было. Только конвойные и секретарь суда – военный юрист 2-го ранга Н. В. Козлов. Возможные надежды Николая Ивановича на проведение открытого процесса не оправдались. Своих выдвиженцев Сталин открытым судом не судил. Тихо, без какой-либо огласки, даже без информации в газетах о приведении приговора в исполнение ушли в небытие члены и кандидаты в члены Политбюро Постышев, Косиор, Рудзутак и Эйхе…
Речь Николая Ивановича на закрытом судебном заседании Военной коллегии предназначалась не для оправдания (ибо в смертном приговоре он нисколько не сомневался), а для истории. Ежов хотел остаться в глазах современников и потомков не жалким заговорщиком, «бытовым разложенцем», алкоголиком, гомосексуалистом и наркоманом, а «железным наркомом», «крепко погромившим врагов». Поэтому он заявил: «В тех преступлениях, которые мне сформированы в обвинительном заключении, я признать себя виновным не могу. Признание было бы против моей совести и обманом против партии. Я могу признать себя виновным в не менее тяжких преступлениях, но не тех, которые мне сформированы в обвинительном заключении. От данных на предварительном следствии показаний я отказываюсь. Они мной вымышлены и не соответствуют действительности».
Истина же, как пытался уверить Николай Иванович, заключалась в следующем: «Я долго думал, как я пойду на суд, как я должен буду вести себя на суде, и пришел к убеждению, что единственная возможность и зацепка за жизнь – это рассказать все правдиво и по-честному…
На предварительном следствии я говорил, что я не шпион, что я не террорист, но мне не верили и применяли ко мне избиения… Тех преступлений, которые мне вменили обвинительным заключением по моему делу, я не совершал и в них не повинен…
Косиор у меня в кабинете никогда не был и с ним также по шпионажу я связи не имел. Эту версию я также выдумал.
На доктора Тайца я дал показания просто потому, что тот уже покойник и ничего нельзя будет проверить (действительно, Николай Иванович по возможности называл в числе участников мифического заговора умерших людей, которым репрессии, естественно, не грозили. – Б. С.). Тайца я знал просто потому, что, обращаясь иногда в Санупр, к телефону подходил доктор Тайц, называя свою фамилию. Эту фамилию я на предварительном следствии вспомнил и просто надумал о нем показания.
На предварительном следствии следователь (вели дело Ежова следователи старший лейтенант госбезопасности А. А. Эсаулов, которому посчастливилось уцелеть, и капитан госбезопасности Б. В. Родос, расстрелянный в 1956 году. – Б. С.) предложил мне дать показания о якобы моем сочувствии в свое время «рабочей оппозиции». Да, в свое время я «рабочей оппозиции» сочувствовал (что не помешало Ежову в 1937-м отправить на смерть А. Г. Шляпникова и других ее членов. – Б. С.), но в самой организации я участия не принимал и к ним не примыкал…
С Пятаковым я познакомился у Марьясина (главы Госбанка, расстрелянного 22 августа 1938 года. – Б. С.). Обычно Пятаков, подвыпив, любил издеваться над своими соучастниками. Был случай, когда Пятаков, будучи выпивши, два раза меня кольнул булавкой, я вскипел и ударил Пятакова по лицу и рассек ему губу. После этого случая мы поругались и не разговаривали. В 1931 году Марьясин пытался нас примирить, но я от этого отказался. В 1933–1934 годах, когда Пятаков ездил за границу, он передал там Седову (сыну Троцкого. – Б. С.) статью для напечатания в «Соцвестнике». В этой статье было очень много вылито грязи на меня и других лиц.
О том, что эта статья была передана именно Пятаковым, установил я сам.
С Марьясиным у меня была личная, бытовая связь очень долго… Марьясина я знал как делового человека, и его мне рекомендовал Каганович Л. М. (это признание можно счесть также косвенным указанием на то, что именно Лазарь Моисеевич был покровителем Ежова и настоял на его переходе в Москву. – Б. С.), но потом я с ним порвал отношения. Будучи арестованным, Марьясин долго не давал показаний о своем шпионаже и провокациях по отношению к членам Политбюро, поэтому я дал распоряжение «побить» Марьясина (а потом точно так же Берия приказал «побить» Ежова! – Б. С.). Никакой связи с группами и организациями троцкистов, правых и «рабочей оппозиции», а также ни с Пятаковым, ни Марьясиным и другими я не имел.
Никакого заговора против партии и правительства я не организовывал, а, наоборот, все зависящее от меня я принимал к раскрытию заговора…
Будучи в Ленинграде в момент расследования дела об убийстве Кирова, я видел, как чекисты хотели замять дело. По приезде в Москву я написал обстоятельный доклад по этому вопросу на имя Сталина, который немедленно после этого собрал совещание. При проверке партдокументов по линии КПК и ЦК ВКП(б) мы много выявили врагов и шпионов разных мастей и разведок. Об этом мы сообщили в ЧК, но там почему-то не производили арестов. Тогда я доложил Сталину, который вызвал к себе Ягоду, приказал ему немедленно заняться этими делами. Ягода этим был очень недоволен, но вынужден был производить аресты лиц, на которых мы дали материал. Спрашивается, для чего бы я ставил неоднократно вопрос перед Сталиным о плохой работе ЧК, если бы я был участником антисоветского заговора?
Мне теперь говорят, что все это ты делал с карьеристической целью, с целью пролезть в органы ЧК. Я считаю, что это ничем не обоснованное обвинение; ведь я начал вскрывать плохую работу органов ЧК. Сразу же после этого я перешел к разоблачению конкретных лиц. Первого я разоблчил Сосновского – польского шпиона. Ягода же и Менжинский подняли по этому поводу хай, и вместо того, чтобы арестовать его, послали работать в провинцию. При первой возможности Сосновского я арестовал. Я тогда же разоблачил Миронова и других, но мне в этом мешал Ягода. Вот так было до моего прихода в органы ЧК.
Придя в органы НКВД, я первоначально был один. Помощника у меня не было. Вначале присматривался к работе, а затем уже начал свою работу с разгрома польских шпионов, которые пролезли во все отделы органов ЧК. После разгрома польского шпионажа я сразу же взялся за чистку контингента перебежчиков. Вот так я начал работу в органах НКВД. Мною лично разоблачен Молчанов, а вместе с ним и другие враги народа, пролезшие в органы НКВД и занимавшие ответственные посты. Люшкова я имел в виду арестовать, но упустил его, и он бежал за границу.
Я почистил 14 тысяч чекистов (в действительности в 1937–1938 годах было арестовано 11 407 чекистов. – Б. С.). Но огромная моя вина заключается в том, что я мало их почистил. У меня было такое положение. Я давал задание тому или иному начальнику отдела произвести допрос арестованного и в то же время сам думал: «Ты сегодня допрашивал его, а завтра я арестую тебя» (интересно, а задумывался ли Николай Иванович, что послезавтра Сталин арестует его самого? – Б. С.). Кругом меня были враги народа, мои враги. Везде я чистил чекистов. Не чистил их только лишь в Москве, Ленинграде и на Северном Кавказе. Я считал их честными, а на деле же получилось, что я под своим крылышком укрывал диверсантов, вредителей, шпионов и других мастей врагов народа».
Ежов особо остановился на своем заместителе Фриновском, с которым, как мы помним, они дружили семьями: «Я все время считал его: «рубаха-парень». По службе я имел с ним столкновения, ругая его, и в глаза называл дураком, потому что он, как только арестуют кого-нибудь из сотрудников НКВД, сразу же бежал ко мне и кричал, что все это липа, арестован неправильно и т. д. И вот почему на предварительном следствии в своих показаниях я связал Фриновского с арестованными сотрудниками НКВД, которых он защищал. Окончательно мои глаза открылись по отношению Фриновского после того, как проявилось одно кремлевское недоверие Фриновскому, о чем сразу же доложил Сталину.
Показания Фриновского, данные им на предварительном следствии, от начала и до конца являются вражескими. И в том, что он является ягодинским отродьем, я не сомневаюсь, как не сомневаюсь и в его участии в антисоветском заговоре, что видно из следующего: Ягода и его приспешники каждое троцкистское дело называли «липой», и под видом этой «липы» они кричали о благополучии, о притуплении классовой борьбы. Став во главе НКВД СССР, я сразу обратил внимание на это благополучие и свой огонь направил на ликвидацию такого положения. И вот в свете этой «липы» Фриновский всплыл как ягодинец, в связи с чем я выразил ему политическое недоверие».
Не пощадил Николай Иванович и Евдокимова, постаравшегося в буквальном смысле выбить у Ягоды признание: «Евдокимова я знаю, мне кажется, с 1934 года. Я считал его партийным человеком, проверенным. Бывал у него на квартире, они у меня – на даче. Если бы я был участником заговора, то, естественно, должен быть заинтересован в его сохранении, как участника заговора. Но есть же документы, которые говорят о том, что я по силе возможности принимал участие в его разоблачении. По моим же донесениям в ЦК ВКП(б) он был снят с работы… «Если взять мои показания, данные на предварительном следствии, два главных заговорщика, Фриновский и Евдокимов, более реально выглядели моими соучастниками, чем остальные лица, которые мною же лично были разоблачены. Но среди них есть и такие лица, которым я верил и считал их честными, как Шапиро, которого я и теперь считаю честным, Цесарский, Пассов, Журбенко и Федоров. К остальным же лицам я всегда относился с недоверием, в частности, о Николаеве я докладывал в ЦК, что он продажная шкура и его надо понукать… Участником антисоветского заговора я никогда не был. Если внимательно прочесть все показания участников заговора, будет видно, что они клевещут не только на меня, а и на ЦК и на правительство.
На предварительном следствии я вынужденно подтвердил показания Фриновского о том, что якобы по моему поручению было сфальсифицировано ртутное отравление. Вскоре после моего перевода на работу в НКВД СССР я почувствовал себя плохо. Через некоторое время у меня начали выпадать зубы, я ощущал какое-то недомогание. Врачи, осматривающие меня, признали грипп. Однажды ко мне зашел в кабинет Благонравов, который в разговоре со мной, между прочим, сказал, чтобы я в наркомате кушал с опасением, так как здесь может быть отравлено. Я тогда не придал этому никакого значения. Через некоторое время ко мне зашел Ваковский, который, увидев меня, сказал: «Тебя, наверное, отравили, у тебя очень паршивый вид». По этому вопросу я поделился впечатлением с Фри-новским, и последний поручил Николаеву провести обследование воздуха в помещении, где я занимался.
После обследования было выяснено, что в воздухе были обнаружены пары ртути, которыми я и отравился. Спрашивается, кто же пойдет на то, чтобы в карьеристических целях за счет своего здоровья станет поднимать свой авторитет. Все это ложь.
Меня обвиняют в морально-бытовом разложении. Где же факты? Я двадцать пять лет на виду в партии. В течение этих 25 лет все меня видели, любили за скромность, за честность. Я не отрицаю, что я пьянствовал, но работал как вол. Где же мое разложение?..
Когда на предварительном следствии я показал якобы о своей террористической деятельности, у меня сердце обливалось кровью. Я утверждаю, что я не был террористом. Кроме того, если бы я захотел произвести террористический акт над кем-нибудь из членов правительства, я для этой цели никого бы не вербовал, а, используя технику, совершил бы в любой момент это гнусное дело. Все то, что я говорил и сам писал о терроре на предварительном следствии, – «липа».
Я кончаю свое последнее слово, я прошу Военную Коллегию удовлетворить следующие мои просьбы:
1. Судьба моя; жизнь мне, конечно, не сохранят, так как я и сам способствовал этому на предварительном следствии. Прошу одно: расстреляйте меня спокойно, без мучений.
2. Ни суд, ни ЦК мне не поверят о том, что я не виновен. Я прошу, если жива моя мать, обеспечить ей старость и воспитать мою дочь.
3. Прошу не репрессировать моих родственников и земляков, так как они совершенно ни в чем не виноваты.
4. Прошу суд тщательно разобраться с делом Журбенко, которого я считал и считаю честным человеком и преданным делу Ленина – Сталина.
5. Я прошу передать Сталину, что никогда в жизни политически не обманывал партию, о чем знают тысячи лиц, знающих мою честность и скромность.
Прошу передать Сталину, что все, что случилось, является просто стечением обстоятельств, и не исключена возможность, что и враги приложили свои руки, которые я проглядел. Передайте Сталину, что умирать я буду с его именем на устах».
Надо отдать Николаю Ивановичу должное: он старался облегчить участь близких ему людей и даже просил не расстреливать А. С. Журбенко, бывшего начальника Управления НКВД по Московской области. Похоже, Ежов уже не понимал: чем больше он будет хвалить арестованных чекистов и называть их честными людьми, тем вернее их расстреляют.
В последнем слове Николай Иванович прямо заявил, что признания были добыты с помощью избиений, и как бы предлагал генсеку спасительную для себя схему: пусть будет заговор, но его руководители – Фриновский и Евдокимов, а он, Ежов, виноват только в том, что не успел вырубить под корень всех чекистов-заговорщиков и не разглядел главного из них в лице своего первого заместителя. Фриновскому «железный нарком» не мог простить рокового доноса. Но Сталина трудно было разжалобить обещанием умереть с его именем на устах.
Расстреляли Ежова 4 февраля 1940 года. Трудно сказать, чем была вызвана задержка на сутки с исполнением приговора. Скорее всего, стенограмму последнего слова Николая Ивановича доставили Сталину, и именно генсек должен был дать «добро» на казнь. В ночь на 4 февраля Берия был у Сталина. Не исключено, что тогда Иосиф Виссарионович и санкционировал расстрел Ежова. Возможно и другое объяснение. Чтобы не гонять лишний раз палачей, ждали, когда осудят еще нескольких видных подсудимых. Тот же Фриновский был приговорен к высшей мере наказания как раз 4 февраля, равно как и Николаев.
Существует легенда, будто перед расстрелом Ежова подвергли долгим мучениям. Вот как описывают их историки Б. Б. Брюханов и Е. Н. Шошков: «Едва его вывели из камеры, чтобы препроводить в специальное подвальное помещение – место расстрелов, как он оказался в окружении надзирателей и следователей, прервавших допросы ради такого случая. Раздались оскорбительные выкрики, злобная ругань. Он не встретил ни одного сочувственного взгляда. На него смотрели с издевкой и злорадством. В тюремном коридоре ему приказали раздеться догола и повели голым сквозь строй бывших подчиненных. Кто-то из них первым ударил его. Потом удары посыпались градом. Били кулаками, ногами, конвойные били в спину прикладами. Он визгливо кричал, падал на каменный пол, его поднимали и волокли дальше, не переставая избивать. Что посеешь, то и пожнешь».
Брюханов и Шошков цитируют документы о приведении приговора в исполнение, до недавнего времени хранившиеся под грифом «совершенно секретно». Неужели мыслимо было утаить обстоятельства смерти Ежова, если на казнь его вели сквозь строй десятков, если не сотен надзирателей и следователей? Нет, конечно же красочные сцены предсмертных мук Ежова не имеют ничего общего с действительностью. На самом деле приведение в исполнение смертных приговоров, да еще таким высокопоставленным осужденным, как Ежов, было заданием сугубо секретным, с хорошо отработанным механизмом. И расстреливал Николая Ивановича только один человек. Скорее всего, комендант НКВД Василий Михайлович Блохин или кто-либо из его подчиненных.
Есть еще один рассказ о том, как умирал бывший нарком. Будто бы в расстрельной камере низкорослый Ежов долго метался и приседал, уворачиваясь от пуль, пока одна все же не настигла его. Может быть, в этой легенде и есть доля истины. Если верно утверждение Хрущева, что Ежов страдал не только алкогольной, но и наркотической зависимостью, то следователи могли добиться от него признательных показаний без помощи кулаков или резиновых дубинок. Достаточно было пообещать ему марафет – наркотик, и Николай Иванович подписал бы все, что от него потребовали. А в наказание за фортель, выкинутый на суде, Николая Ивановича наверняка лишили наркотиков. Поэтому в последние два дня перед казнью он должен был испытывать дикую ломку и в момент расстрела вряд ли себя контролировал.
Вплоть до конца 80-х о судьбе Ежова ничего достоверно не было известно. Только город Ежово-Черкесск вдруг стал просто Черкесском, а пароход Дальстроя «Николай Ежов» в одночасье превратился в «Феликса Дзержинского». По стране ходили самые разнообразные слухи. Говорили, что бывший нарком допился до потери рассудка и помещен в психиатрическую лечебницу в Казани. Рассказывали, будто Николай Иванович еще много лет благополучно заведовал баней где-то на Колыме. Вероятно, в глазах рассказчиков это и была та «менее самостоятельная работа», о которой просил Ежов на XVIII съезде.
Просьбу Ежова не репрессировать его родственников Сталин также не уважил. Отец и мать умерли еще до ареста «зоркоглазого наркома». Брат Иван Иванович был арестован 28 апреля 1939 года, а расстрелян 21 января 1940-го, о чем Николай Иванович так и не узнал. Вот сестре Евдокии Ивановне повезло больше – она умерла своей смертью в Москве в 1958 году.
Приемная дочь Ежовых Надя была отправлена в Пензенский детский дом, где жила под чужой фамилией. Ее судьбе посвятил один из лучших своих рассказов – «Мама» – Василий Гроссман.
А ведь останься Николай Иванович во главе промышленного отдела ЦК или Комиссии партийного контроля, мог бы и уцелеть и повторить успешную карьеру таких сталинских функционеров, как А. А. Андреев или Н. М. Шверник. Но Ежова погубила его совершенно невероятная исполнительность и аккуратность, равно как и искренняя преданность вождю. Лучшего исполнителя программы Великой чистки Сталину было не найти. Отказаться от назначения Николай Иванович не мог – за несогласие выполнить ответственное партийное поручение Сталин бы крепко наказал, так же как Ягоду. Да Ежов и не думал отказываться. Наоборот, с энтузиазмом выводил на чистую воду «врагов народа». Так что грех Николаю Ивановичу было обижаться на судьбу.