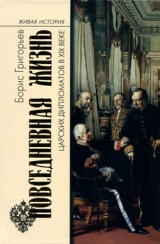
Текст книги "Повседневная жизнь царских дипломатов в XIX веке"
Автор книги: Борис Григорьев
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 36 страниц)
Аналогичный случай возник в 1906 году с миссией России в Корее. После Русско-японской войны Корея, фактически на правах провинции, была включена в состав Японии [115]115
Корея фактически лишилась суверенитета, вместо МВД Кореи японцы учредили Бюро иностранных дел при японском губернаторе Комацу. Император Кореи мог только иногда и только в присутствии японского чиновника принимать у себя иностранных дипломатов.
[Закрыть], и миссия была переименована в генеральное консульство. Посланник Е. А. Плансон пытался хотя бы за собой оставить звание министра-посланника или министра-резидента, но японцы с этим не согласились, и ему пришлось стать генеральным консулом. Певческий Мост, правда, сохранил в генконсульстве все штаты миссии.
Имело место и запланированное рангирование загранучреждений: консульское агентство могло получить ранг вице-консульства, консульство – генерального консульства и т. д., что влекло за собой создание новых штатов и тарифных сеток. Естественно, рангирование могло происходить и в сторону понижения.
Кроме штатных консульств, существовали так называемые внештатные или почётные консульства. Институт почётных консулов возник давно и используется дипломатическими службами многих стран, особенно стран малых и относительно бедных, не имеющих средств на содержание штатных консульских работников. Впрочем, и крупным странам не по силам содержать консульских работников по всему миру. Выход найден в том, чтобы принимать на службу почётных консулов. Это, как правило, лица, проживающие в данном городе, чаще всего портовом, или в данной местности, где возникает потребность в консульской защите государственных интересов и интересов частных граждан. Конечно, лучше всего, если такое лицо является гражданином страны, нанимающей консула, но такие идеальные условия не всегда выполнимы, и МИД страны нанимает в таком случае иностранца – бизнесмена, торговца, адвоката, пользующегося заслуженным авторитетом и безупречным поведением.
Зарплата или жалованье почётному консулу не выплачивается. Ему предоставляется право приобретать беспошлинно товары личного потребления (по дипломатической скидке) и даются некоторые льготы по части бизнеса или торговли с представляемой им страной. Нанимаемый в 1909 году в Мексике почётный вице-консул отставной поручик Г. А. Ваннаг попросил компенсировать ему хотя бы канцелярские расходы, однако директор Департамента личного состава и хозяйственных дел К Аргиропуло вежливо, но категорично ответил, что «за отсутствием свободного кредита просьба не может быть уважена».
Почётные консулы, в зависимости от того, какому государству служат и от того, как зарекомендовали себя на этой службе, в том или ином объёме выполняют функции обычных штатных консулов. Конечно, серьёзные государственные тайны им не доверяют, а вот к некоторым служебным тайнам они имеют доступ. Этот момент – самый щекотливый при найме почётного консула, и каждая дипломатическая служба самостоятельно решает вопрос о том, в каком объёме знакомить почётного консула с документами и секретами, составляющими собственность страны. Теоретически всегда существует опасность, что этими секретами почётный консул добровольно или вынужденно может поделиться с властями страны своего гражданства. Как правило, страны – обладатели больших секретов почётных консулов не используют.
Как бы то ни было, Департамент личного состава и хозяйственных дел, в обязанности которого входил подбор кандидатов на роль почётных консулов, старался собрать на них максимум характеризующих сведений. Конечно, данное лицо должно было иметь безупречную деловую репутацию, по возможности хорошо знать страну и её законодательство, обладать обширным кругом связей и т. п. Кандидат должен был дать подписку о непринадлежности к тайным обществам, а также об отказе требовать с Министерства иностранных дел какое-либо вознаграждение за свою работу.
Классификация почётных консульств несколько отличается от классификации штатных тем, что ранг почётного генерального консульствав дипломатической практике не встречается. Оно и понятно: как правило, генеральные консульства наравне с посольствами и миссиями занимались сбором политической информации, а значит, пользовались шифрами и кодами. Вследствие этого они неизбежно должны были быть только штатными. Почётные консулы тоже получают патенты и экзекватуры, и для них тоже выделяется консульский округ. Чаще всего почётные консулы оказывают помощь морякам и содействие торговым судам, способствуют торговым операциям, оказывают медицинскую и финансовую помощь гражданам, оказавшимся в затруднительном положении, а в некоторых случаях имеют даже право выдавать им паспорта. Непосредственными кураторами почётных консульств выступали, как правило, близлежащие штатные консульства.
Зачем люди нанимались в почётные консулы? Как показывает ознакомление с материалами архивов Министерства иностранных дел России, недостатка в желающих не было, и министерство регулярно рассматривало заявления и кандидатуры россиян и иностранных граждан. В основном это делалось, говоря современным языком, для имиджа. Бизнесмен, являющийся почётным консулом какой-нибудь Боливии или Португалии, имеет право вывешивать на своём офисе герб этой страны, а это престижно, авторитетно и почётно, даёт повышенный статус в обществе и помогает собственному бизнесу и профессии.
Внештатные консулы очень часто представляли не одну, а две и даже три страны. В 1890 году посланник в Стокгольме С. Арсеньев (не путать с Б. К. Арсеньевым) запросил товарища министра А. Е. Влангали дать разрешение вице-консулу в Лулео К. Пальмгрену, исполнявшему также обязанности испанского вице-консула в том же городе, принять на себя обязанности консульского агента Франции. И Министерство иностранных дел такое разрешение дало. Это не единичный случай. При известных условиях «внештатник» мог вершить собственные делишки за счёт одного или другого флага и наносить ущерб третьему, но тогда в Европе об этом задумывались мало.
А вот внештатный вице-консул в Барлетте господин Бикос повёл себя, по меньшей мере, странно и вызывающе, о чём курирующий и посетивший его генеральный консул в Неаполе В. фон Гене немедленно донёс в Центр: «Вице-консул не только не счёл нужным меня встретить или выслать кого-нибудь вместо себя… но ещё и лишил меня возможности проникнуть в консульство, закрытое им наглухо, где сам скрывался. В течение двух суток и вопреки неоднократным моим посланцам с приглашением явиться в гостиницу и, наконец, на станцию, где мне было сообщено о полном Брикоса благоденствии за час до отъезда, я принуждён был уехать из Барлетты, не видавши ни вице-консула, ни консульства, где красуются два герба: греческий и русский».
Каковы были причины «бунта на корабле», и почему господин Брикос не пожелал встретиться с куратором, из дела не ясно. Бедный остзеец фон Гене! Его практичный и упорядоченный ум не мог и вообразить, что так можно себя вести. Это и понятно: ведь он не был греком.
Проникновение России в Латинскую Америку началось с учреждения там русских консульств. Когда в 1808 году португальский двор с принцем-регентом Жуаном после вторжения в страну войск Наполеона бежал в Рио-де-Жанейро, Александр I дал указание своему канцлеру установить дипломатические отношения с Бразилией и назначил посла в США Ф. П. Палена одновременно послом в Бразилии. Для Палена представлять Россию в Рио-де-Жанейро из Вашингтона оказалось весьма затруднительным, и Н. П. Румянцев (1754–1826) [116]116
Его брат Сергей Петрович (1755–1838), основатель Румянцевского музея, тоже был дипломатом.
[Закрыть]направил туда консулом крупного коммерсанта Ксаверия Ивановича Лабенского. Канцлер лично подготовил консулу инструкцию, но Лабенский до места своего назначения не добрался. Всё дело снова подпортила «англичанка», распространившая слухи о том, что Лабенский – агент Наполеона.
Как бы то ни было, но честь дипломатического освоения Латинской Америки принадлежит консульским чиновникам. Вместо Лабенского в Бразилию в 1812 году поехал принявший российское подданство немецкий учёный-энциклопедист Георг Генрих (Григорий Иванович) фон Лангсдорф. Он сам предложил свою кандидатуру, написав Румянцеву, что пять лет пробыл в Португалии, овладел португальским языком и хорошо усвоил культуру и обычаи этого народа. Кроме португальского и родного немецкого Лангсдорф прекрасно говорил на французском, английском и русском языках.
Консула сопровождали жена и четыре стажёра – Ф. Душкин, Н. Танненберг, И. Горбунков и П. Кильхен – и три художника. До бразильской столицы они доплыли лишь в апреле 1813 года. «Образилившиеся» португальцы приняли русского консула тепло, Лангсдорф оказался к тому же искусным доктором, который стал пользовать членов бразильского правительства. В 1815 году в Рио-де-Жанейро прибыл поверенный в делах А. В. Сверчков, принявший от Лангсдорфа дипломатические обязанности. Сверчков завоевал доверие как принца Жуана, так и его супруги Карлотты-Хоакин, несмотря на то, что царственные супруги ненавидели друг друга.
Сверчков пробыл в Бразилии недолго, и Лангсдорфу пришлось во второй раз, до прибытия посланника Ф. В. Тейля ван Сераскеркена, одного из военных агентов Барклая де Толли, принять на себя обязанности дипломатического представителя России, о чём он исправно доложил К. В. Нессельроде. Когда Рио-де-Жанейро в ноябре 1823 года посетил направлявшийся на Русскую Аляску О. Е. Коцебу его там встретил вице-консул Кильхен. Интерес Александра I, а потом и Николая I к Бразилии оказался устойчивым. В 1829–1831 годах при дворе короля Педру I (1798–1834) был аккредитован посланник Ф. Ф. Борель, умный и опытный дипломат эпохи Александра I [117]117
Фёдор Фёдорович Борель (1775–1832) – уроженец Милана, на русской службе с 1804 года, выезжал с дипломатическими миссиями в Польшу, Париж и Фридрихсгам, в 1812–1816 годах – консул на Мадейре, в 1828 году – поверенный в делах и генеральный консул в Лиссабоне. Монархист и бессребреник. После того как в Петербурге у него умер сын, а потом на Дунае потонула дочь с мужем и ребёнком, здоровье Бореля сильно пошатнулось. Он умер в Рио-де-Жанейро в ночь с 31 декабря 1831 года на 1 января 1832 года от кровоизлияния в мозг.
[Закрыть].
В 1825 году у России было 24 штатных генеральных консульства, 21 консульство, 11 вице-консульств и три консульских агента. Далее в политике Министерства иностранных дел наметилась тенденция к экономии средств, к сокращению числа штатных и к росту внештатных консульских учреждений. В последний год царствования Николая I у России было 18 генконсульств, 20 консульств и пять вице-консульств, а почётных консульств стало 84.
В царской России консульские функции часто осуществлялись губернаторами пограничных губерний, командующими армиями, находившимися на чужой или пограничной территории, а также капитанами морских судов. Вот любопытный документ о присоединении Сахалина к империи и пожаловании его жителям российского подданства:
« 1806 года октября…дня. Российский фрегат «Юнона» под начальством флота лейтенанта Хвостова [118]118
Николай Александрович Хвостов (1776–1809) плавал на судне Российской американской компании из Охотска на Сахалин.
[Закрыть]. В знак принятия острова Сахалина и жителей оного под всемилостивейшее покровительство российского императора Александра I старшине селения, лежащего на восточной стороне губы Анивы, пожалована серебряная медаль на Владимирской ленте. Всякое другое судно, как российское, так и иностранное, просим старшину сего признавать за российского подданного».
Как мы уже говорили, в обязанность консульств входят учёт русских эмигрантов в стране пребывания и наблюдение за русской колонией. Естественно, Третье отделение использовало их для сбора сведений о неблагонадёжных русских подданных. Дело это было щекотливое и для дипломатов непривычное. А. И. Герцен в своей книге «Былое и думы» описывает, как его неожиданно навестил российский консул в Ницце и передал ему повеление Николая I вернуться обратно в Россию. Консул, по всей видимости, человек мягкий и совестливый, воспринял это поручение не без внутренней борьбы. Александр Иванович, у которого накануне русское правительство отняло родовое имение, отнюдь не был настроен любезничать и всю свою ненависть к самодержавно-крепостническому строю обрушил на бедного чиновника.
Консул, зачитывая присланную из Петербурга бумагу, встал, но не из уважения к хозяину дома, как было подумал Герцен, а из уважения к тем, кто его послал: к графу К. В. Нессельроде и шефу жандармов графу А. Ф. Орлову. Каково же было удивление консула, когда он услышал от хозяина, что тот никуда ехать не собирается.
– Да как же это? – сокрушался консул. – Позвольте, чего же я напишу? По какой причине? Что же я скажу – ведь это ослушание воли его императорского величества!
– Так и скажите, – предложил Герцен.
– Это невозможно, я никогда не осмелюсь написать это, – лепетал чиновник и всё больше краснел. Он предложил Герцену сказаться больным, но тот, естественно, отказался. Договорились, что Герцен сам напишет ответ в Петербург, адресованный графу Орлову – вариант обращения Герцена к себе лично консул отверг, опасаясь неприятностей.
Позже русские дипломаты, конечно, свыкнутся с поведением революционеров и услышат от них и не такие дерзкие ответы. А пока – на дворе стоял 1849 год – им всё это было в новинку, странно и страшно.
Писатель В. В. Крестовский, отправившийся в 1880 году в кругосветное путешествие с экспедицией адмирала С. С. Лисовского, в турецком городе Смирна имел возможность общаться с почётным консулом России, который выступал в роли экскурсовода по местному базару для русских моряков. Это был любезный и очень обязательный человек, но имел один недостаток: он не только не говорил, но и не понимал ни слова по-русски. «При всех достоинствах таких консулов позволительно, однако, усомниться в их полезности, – сетует писатель. – И в самом деле, для кого и для чего они здесь существуют?» Ведь ни один русский приказчик или купец, не владеющий французским, турецким или греческим языками, не смог бы объяснить ему своё дело! Значит, нужно искать переводчика, владеющего умением написать деловую бумагу и оформить её в соответствии с канцелярскими требованиями. «Представьте же, какая это сложная… и дорогостоящая процедура, – возмущается писатель, – и каким это способом будет какой-нибудь Пахом Ферапонтов… из Весьегонского уезда отыскивать себе переводчика, если даже в составе лиц, служащих в консульстве, нет ни одного человека, понимающего по-русски?»
Очевидно, что Крестовский, будучи формально прав, не учитывал трудности для Министерства иностранных дел России подобрать в таком захолустье, как Смирна, стоящего человека, владеющего русским языком: «Небось, англичане нигде не посадят на такой пост человека, не знающего по-английски, да и никто, кроме нас, этого не делает». Писателя возмущает, в частности, то обстоятельство, что почётные консулы используют своё консульство в личных целях – для улучшения своего гешефта. В большинстве своём, по его мнению, это люди из тех русскоподданных армян, евреев и греков, которые приняли подданство исключительно для того, чтобы ускользнуть от турецкой юрисдикции и под покровительством МИД России творить свои тёмные делишки. «Такие "русскоподданные" в громадном большинстве своём составляют то, что называется нравственной сволочью», – заключает он. (При этом он ошибочно полагает, что внештатные консульства находились на содержании русской казны.) Что ж, в семье не без урода, прохиндеи и недобросовестные люди были и среди почётных консулов. Что касается англичан и других наций, то и у них с этим делом было не так уж мало проблем.
Взору всякого постороннего человека, знакомившегося с жизнью консулов в качестве туриста, обычно представляется экзотическая и умилительная картинка, приводящая наблюдателя в полный восторг. Так случилось и с Крестовским. Русское консульство в Нагасаки расположено над районом Омуру застроенном европейскими негоциантами в колониальном стиле со своеобразной примесью «японщины», сообщает В. В. Крестовский. Чтобы попасть в консульство, нужно было подняться с набережной по дорожке вверх, миновать католическую миссию, свернуть вправо мимо старых тенистых деревьев и живых изгородей и выйти к одноэтажному деревянному домику на каменном фундаменте с русским государственным гербом при входе.
«Домик построен в русском вкусе, с резными из дерева (впрорезь) полотенцами, петушками и коньками на гребне крыши и над фронтоном сквозного крыльца, через площадку которого вы проходите прямо в сад консульства, – пишет Всеволод Владимирович. – При офисе… маленький дворик, и тут на высоких бамбуковых шестах качаются три презабавные макаки, одна из которых преуморительно отдаёт честь входящим, прикладывая руку к виску и громко щёлкая языком». Жилая часть дома украшена застеклённой верандой, из которой открывается прекрасный вид на залив, усыпанный судами, на набережную и противоположный берег.
Сад при консульстве, окружённый каменной стеной, был тоже своего рода шедевром. Великолепные кусты больших белых роз вместе с вызревающими померанцами и миканами проникали своими ветвями в окна консульства. Латании и саговые пальмы, лавр и слива, многообразие хвойников, азалий и магнолий, гигантских камелий, криптомерии, а также клёнов и камфорных пород деревьев поражали своей роскошью, удивительными запахами и прохладой.
Одним словом, нашему воображению представляется совершенно идиллическая картина. Казалось, консульство было именно тем местом, где любой человек, в том числе и консул Российской империи, найдёт себе утешение и отдохновение от всех превратностей жизни. Самому консулу, естественно, так не казалось.
Консул В. Я. Костылёв принял адмирала Лисовского и сопровождавших его лиц с удивительным радушием и гостеприимством. Он суетился и угощал дорогих гостей папиросами, сигарами и прохладительными напитками и не уставал повторять, как ему было приятно, прожив много лет на чужбине, увидеть вдруг «свежего человека с родины».
– Да разве здесь так плохо? – удивились гости. – Глядите, какая прелесть!
– А бог с ней, с этой прелестью! Неплохо здесь – что Бога гневить, но… всё тянет туда… Тоска берёт порой… Вот что!
Костылёв был истинно русским человеком, который не мог долго находиться вдали от родины. Томление!
Члены экспедиции в августе-сентябре 1880 года при посещении японского порта Нагасаки были приятно удивлены неожиданной встречей с другими своими земляками. Во время прогулки с Костылёвым по набережной канала они неожиданно услышали до боли знакомые звуки «Камаринского». Когда подошли поближе к источнику звуков, то прочитали вывеску, исполненную аршинными буквами: «Санкт-Петербургский трактир». Большие широкие окна трактира были настежь открыты, и изнутри неслись мощные звуки не то органчика, не то шарманки. За столами расселось около двух десятков матросов, несколько человек, обнявшись друг с другом, как кавалер с дамой, с серьёзными выражениями на лицах топтались посредине комнаты, изображая нечто вроде вальса. Девчонка лет двенадцати крутила ручку шарманки, поставленной на почётное место возле буфета.
«…Не успели мы остановиться на минутку, – пишет В. В. Крестовский, – чтобы взглянуть на эту оригинальную сцену, как из раскрытых дверей выскочили нам навстречу хозяин этого заведения со своею супругой и несколько чумазых ребятишек, уцепившихся за её юбку. Хозяин словно каким-то собачьим нюхом почуял в нас русских и потому сразу на русском языке любезно приветствовал с благополучным прибытием». По акценту сразу было понятно «семитическое происхождение сего джентльмена», продолжает Крестовский. С первых же слов он заверил гостей, что он «з Россия, з Одесту».
– Но какими же судьбами попали вы в Нагасаки?
– Так уж мине Бог дал… Штоби быть приятным русшким матросам, – был ответ.
В предместье города Иносу, известном всем японцам под названием «Русская деревня», был расположен русский госпиталь. В. В. Крестовский вместе с судовым доктором В. С. Кудриным решили навестить его. Они вышли к пристани, кликнули ожидавшего своей очереди фуне(лодочника) и произнесли магическое слово «Иноса».
– Иноса? Харасё! – засмеялся японец и повёз русских к госпиталю, который временно возглавлял судовой врач с военно-морского судна «Африка» А. В. Куршаков. Госпиталь для матросов также находился в полгоры на участке японца по имени Сига, арендованном русским правительством также под шлюпочный ангар и мастерские. Госпиталь располагался в нескольких японских домиках, в нём лежали матросы и младшие офицеры с русских кораблей, пострадавшие от шторма или в результате несчастных случаев.
При осмотре участка экскурсанты увидели, что на крыше одного домика рядом, на свежем воздухе, проветривался гражданский мундир с шитьём и лампасами. «Должно быть, это мундир Александра Алексеевича Сиги, православного японца, работавшего когда-то секретарём японского посольства в Петербурге», – догадался Кудрин. К сожалению, хозяина не оказалось дома, и русские оставили ему свои визитные карточки.
В Иносе, по соседству с японским и голландским, было расположено и русское кладбище, в котором Крестовский насчитал около шестидесяти могил. Благодаря постоянному уходу за могилами со стороны японцев кладбище выглядело чисто и пристойно.
В Нагасаки из Токио для деловых переговоров с Лисовским прибыл русский посланник Кирилл Васильевич Струве, сын известного астронома и основателя Пулковской обсерватории В. Я. Струве, которого мы встречали также и в других странах.
Описывая впечатления о своей командировке в Грецию, Соловьёв (начало XX века) приводит следующий курьёзный случай, связанный с почётным консулом. Вместе с посланником Ону он прибыл на стационаре на остров Милос. Там они, к своему вящему удивлению, были встречены русским почётным консулом на катере с русским флагом. О его существовании никто в миссии и не подозревал. Консул был назначен много лет тому назад, он никогда не писал в миссию, и о нём просто забыли. Его имя не значилось даже в ежегодном справочнике МИД Греции.
Не лучше было положение и в Бразилии. Когда в 1895 году временный поверенный в делах Коростовец ехал к месту службы, он обнаружил, что в городе Белем (Пара) внештатный российский консул давно умер, и его обязанности выполнял родственник. При всём при этом миссия в Рио-де-Жанейро буквально страдала от безделья, но ни один дипломат почему-то не вспомнил о своей обязанности надзирать и контролировать деятельность внештатных консульских чиновников. Коростовец, не доехав до столицы, стал назначать вице-консулов своей властью, не дожидаясь результатов длительной переписки по этому вопросу с Департаментом личного состава и хозяйственных дел.
При чрезвычайных обстоятельствах и внештатные консулы могли рассчитывать на помощь российской казны. Внештатный консул на острове Занте (Греция) господин Доминигини, кажется, был человеком честным и добросовестным, иначе посланник в Афинах Ону не стал бы в 1893 году ходатайствовать за него перед Азиатским департаментом о выдаче единовременного пособия. Во время землетрясения на острове консул остался без крова и имущества и ютился с семьёй в палатке. Управляющий министерством Шишкин получил высочайшее согласие о выдаче Доминигини тысячи рублей.
В посольстве в Нью-Йорке Коростовец встретился с временным поверенным в делах Богдановым, который долго проработал в Бразилии и мог бы удовлетворить любопытство Коростовца в информации о стране, о которой тот имел лишь общее и весьма смутное представление. Богданов, корректный и изящный дипломат, напоминавший Печорина из лермонтовского «Героя нашего времени», томно сказал, что достаточно прочитать книгу бывшего посланника в Бразилии Ионина.
– Впрочем, сами увидите, – добавил Богданов, – красивая природа, но скучный народ; во всяком случае, страна будущего, а не настоящего, всё слишком первобытно – дикари, которые корчат из себя парижан.
Как выяснилось, Богданов страдал сплином или неврастенией, возникшей, по всей видимости, от праздности и тоски по родине.
Расстались друзьями, пишет Коростовец. Скоро до него дошли известия о том, что Богданов застрелился, разослав перед этим знакомым фотографии, изображавшие его в гробу. Более подробно о Богданове мы уже сообщали в главе «Милые люди в Вашингтоне».
Смертельные исходы для загранкомандировок русских дипломатов не были редкостью. Многие умирали, не выдерживая жаркого и влажного климата страны пребывания, но были и другие случаи. 3/16 марта 1906 года вся европейская колония Коломбо была потрясена самоубийством русского внештатного консульского агента, представителя процветающего чайного торгового дома «Щербаков, Чоков и К°» Трифона Чокова. Самоубийца, холостой мужчина среднего возраста, находился на Цейлоне с 1898 года. После себя он оставил записку, в которой пояснил, что ушёл из жизни, посчитав свою болезнь (он болел ангиной) неизлечимой, и попросил своё тело кремировать. Накануне из провинции он приехал на автомобиле в цейлонскую столицу и поселился в гостинице «New Oriental Hotel», в номере, где и нашли его тело сразу после рокового выстрела из пистолета в сердце. Все консульства Коломбо в связи с кончиной коллеги приспустили свои национальные флаги.
В архивном деле Департамента личного состава и хозяйственных дел хранится доклад начальника Чокова, вице-консула в Коломбо, представляющий, на наш взгляд, дополнительный интерес. Приводим его дословно:
«Вследствие самоубийства нашего консульского агента Триф. Чокова считаю не лишним представить при сём Деп-ту опись казённых вещей, сданных мною под расписку на оной г-ну Лабюсьеру, названному французскому консульскому агенту, 3/16 марта 1906 года, перед моим отъездом с Цейлона в отпуск
Как Деп-ту угодно будет усмотреть, в числе вещей вице-консульства находится револьвер, купленный мною в 1904 году, когда я, по поручению 1-го Департамента устанавливал наблюдение за японскими шпионами на острове, и следом за их агентом Танака отправился с шифром и ответственными лицами о-ва в Тринкомали, тогда главный порт английской восточно-индийской эскадры.
О покупке этого револьвера я своевременно донёс Деп-ту».
Донесение неразборчиво подписано и снабжено описью казённого имущества на английском языке, в которой, кроме револьвера, значатся портрет Е. И. В., письменный стол, несгораемый шкаф, два кресла, три стула, табурет, вентилятор, четыре печати, деревянный чернильный прибор и некоторые другие канцелярские мелочи. Вот и вся обстановка.
С. В. Чиркин, встречавшийся с Чоковым в Коломбо, характеризует его как высокомерного типа, самодура и кутилу, устраивавшего на своей русской тройке бешеные гонки по улицам цейлонской столицы на страх разбегавшимся в разные стороны её жителям. Чоков, по мнению Чиркина, запутался в денежных делах и застрелился.
Следующий эпизод из повседневной жизни консульских служащих может кому-то показаться скучным, но он наглядно иллюстрирует, с какими личными проблемами сталкивались царские дипломаты, находясь далеко от родины.
В начале июня 1902 года консул в Рущуке (Турция) Н. А. Налётов обратился в Департамент личного состава и хозяйственных дел с прошением содействовать внесению его детей в дворянскую родословную книгу и получению на них дворянского свидетельства. За время отсутствия в России у него родились две дочери, и необходимо было подтвердить их право на дворянство – автоматически это не происходило.
Лучше бы он не начинал этой процедуры, ибо она превратилась в настоящую волокиту. Положение усугубляло то, что проситель находился за пределами России, а все его личные документы находились на хранении в ДЛСиХД. Поэтому основное время заняла переписка между Петербургом и Рущуком.
Департамент личного состава и хозяйственных дел вежливо «отфутболил» консула, заявив, что брать на себя хлопоты по такому делу не желает и сказать, какие документы понадобятся для удовлетворительного его завершения, тоже не может, а потому порекомендовал просителю обратиться непосредственно в Департамент герольдии. Единственное, в чём департамент мог помочь Налётову, это выслать в Рущук перечень его личных документов, оставленных у них на хранение (речь шла о метрических свидетельствах самого Налётова и его детей, родившихся в России, о брачном свидетельстве его и жены и аттестате об окончании им Лазаревского института восточных языков), и сообщить о результатах своего запроса в Департамент герольдии Правительствующего сената России.
Сенат проверил дело дворянина Николая Александровича Налётова и сообщил в Министерство иностранных дел, что 15 декабря 1859 года были «утверждены постановления Костромского Дворянского Депутатского Собрания о внесении подпоручика Александра Васильевича Налётова с женою его Варварой Александровной и детьми, а в их числе и сыном Николаем, во вторую часть дворянской родословной книги, по личным его заслугам…». Консулу Налётову рекомендовалось обратиться с прошением непосредственно в Костромское дворянское депутатское собрание, представив туда копию своего послужного списка, консисторские метрические свидетельства о рождении детей и удостоверение о сохранении ими прав состояния (то есть справку о том, что они ещё дворяне).
Он начал с того, что греческое свидетельство о рождении дочери Софии перевёл на русский язык (София крестилась в Трапезунде в православной греческой церкви), затем подписал его у священника, выдавшего первичную метрику, потом скрепил его подписью вышестоящего церковного иерарха, легализовал [119]119
Легализовать документ – заверить его подлинность, в том числе подтвердить точность его перевода на русский язык и подлинность печатей и подписей чиновников данной страны. В консульствах, как правило, находятся образцы печатей и подписей сотрудников МВД страны пребывания, которые, в свою очередь, подтверждают подлинность печатей и подписей загсовских и других учреждений своей страны. После заверки (легализации) документа он может иметь законное хождение в России.
[Закрыть]в своём консульстве и выслал его по назначению. Русское свидетельство дочери Налётова, в конце концов, оформили в Собственной его Императорского Величества канцелярии по учреждениям императрицы Марии, а Департамент личного состава и хозяйственных дел в сентябре 1902 года переслал его в Рущук, потребовав от просителя уплаты гербового сбора в сумме 1 рубля 20 копеек
После этого консул Налётов попросил департамент выслать ему метрику на сына Александра и своё свидетельство о браке и сообщил, что поскольку русских гербовых марок у него нет, то посылает в Петербург два рубля. Некоторое время спустя он сообщил, что такую мелкую сумму у него на почте не приняли, в связи с чем просит вычесть эти жалкие 120 копеек из его жалованья и заплатить из них гербовый сбор в Собственную его Императорского Величества канцелярию. Департамент терпеливо высылает дополнительные метрики в Турцию и просит «вернуть оные» по миновании надобности…
В конце архивного дела, заведённого по прошению Налётова, автор с трудом обнаруживает проблески света в туннеле, но по архивным документам дело консула так и не закончилось. Хочется верить, что все его дети благополучно были вписаны во вторую или другую часть дворянских книг Костромской губернии и что для консула Налётова это были самые неприятные минуты в жизни.
Дипломату свойственно слегка преувеличивать значение той страны, в которой он работает, и это естественно. Глава генконсульства в Танжере (Марокко), министр-резидент Бахерахт в октябре 1903 года был озабочен проблемой преобразования генконсульства в миссию. Свой проект в пользу этого он, естественно, обосновал «государственными соображениями», изложив товарищу Ламздорфа, его сиятельству В. А. Оболенскому, такую подоплёку: находившиеся в консульском округе генеральные консульства Бельгии, Португалии и Австро-Венгрии уже преобразованы в миссии, остались только генконсульства Бразилии и США. Но эти последние ведут себя самым неподобающим образом, их сотрудники, пользуясь своим служебным положением, вступают в сомнительные сделки с марокканцами, а потому честные члены консульско-дипломатического корпуса общения с ними избегают. И Бахерахт делает вывод: нахождение Российского Императорского генерального консульства в таком обществе непозволительно. Больших торговых интересов Россия в Марокко не имеет, пишет министр-резидент, намекая на то, что зато существуют большие политические интересы. Кроме того, в случае его отсутствия в генконсульстве нет полномочного лица, которое могло бы исполнять обязанности временного поверенного, потому что его заместитель – всего лишь секретарь-драгоман, не имеющий дипломатического статуса. В случае преобразования генконсульства в миссию все эти неудобства были бы устранены, гладко заключает Бахерахт.
