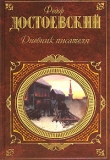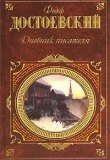Текст книги "Дневник писателя"
Автор книги: Борис Зайцев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
Привязанность Зайцева к Италии и ее культуре не могла не порождать интереса и к ее религии. Интерес к католической вере обрел новые грани, когда Зайцев стал воцерковленным христианином (произошло это, по его признанию, в годы революции).
Поводом к написанию очерка «Глас Ватикана» послужил выпуск энциклики Папы Пия XI «Quadragesimo anno» («В год сороковой»), Автору «Странника», «Голубой звезды», «Блаженных» близок стиль и дух этого писания: «Слова Пия XI маломатериальны, легки, как негромкий лепет, касаются жизни – самого в ней тяжелого и трагического, – а производят впечатление спиритуального. Взор писавшего направлен ввысь, все пишется „по звездам“…»
Изложив вкратце социальную философию энциклики (равновесие труда и капитала, отрицательное отношение к идеологии социализма, неприятие борьбы классов и обобществления собственности), Зайцев сочувственно подчеркивает то, что, по его мнению, еще важнее: «…для Папы здешнее устроение есть лишь тень устроения вечного, для социализма „здешнее“ – все. Это – бездна, разделяющая их. Человек „в мире“ (социализм) или человек „выше мира“ (христианство)».
Вторая часть очерка – описание диспута христианских социалистов, свидетелем которого оказался Зайцев. В споре ему чудится «нечто знакомое, может быть, русско-интеллигентское». Сценка, воссозданная с добрым юмором, повествует о том, как пылким социалистам, революционерам, считающим себя, однако, католиками, предъявляется энциклика: «Святой Престол указал тебе твердо, как думать». Кипение страстей, споры, обвинения церкви и защита ее – все это вселяет в Зайцева оптимизм. Ватикан, конечно, неколебим, «но в том сложном, разнообразном организме, какой есть христианство, в частности католицизм, – думаю, очень полезны бродильные начала, беспокойство, критика, одушевление».
Далее следуют весьма любопытные размышления Зайцева о христианстве, двух его ветвях и о том, что может ожидать христианский мир в ближайшем будущем. «Для русского, православного человека зрелище католицизма очень интересно. Интерес этот серьезный и сочувственный. В сущности, никогда больше, чем сейчас, не ощущалась необходимость сближения, братского союза против общего врага».
Взгляд на отношения христианства и социализма в первой трети XX в. был в целом единым у Католической и Православной церквей: положениям папских энциклик созвучны тезисы, которые высказал еще в 1910 г. богослов В. А. Троицкий (впоследствии архиепископ Илларион, новомученик). Наиболее прямолинейные социалисты открыто заявляли о своей вражде к религии. Так, в постановлении французской социал-революционной партии 1901 г. говорилось: «Граждане члены партии обязываются ни при каких обстоятельствах не выполнять каких бы то ни было религиозных актов совместно с представителями какого-либо вероисповедания». Приведя эту цитату, В. А. Троицкий формулирует позицию церкви: «Представители церкви не заискивают пред социализмом, подобно некоторым „обновленцам“, но решительно отрицают несогласное с христианством. В этом видно уважение и преклонение пред истиной христианской, а если кто не уважает своих верований, тот никогда не научит и других уважать эти верования», и далее отдает должное инициативам церкви католической: «Католическое духовенство, которое отличается именно уважением к своей церкви, давно уже высказалось против социализма и вступило с ним в борьбу» [27]27
Троицкий В. Христианство и социализм. (На современные темы) // Христианин. Сергиев Посад. 1910. Т. 1. Янв. – апр. С. 77, 84.
[Закрыть].
Православие Зайцев воспринимает как более старшую ветвь христианства, перед его взором стоит картина небывалых в истории гонений на веру: «…первому ему пришлось принять и выстрадать Голгофу нынешней эпохи. Странным образом сейчасмы ощущаем себя как бы старше наших западных братьев. <…>…Величайший, громовой удар антихристианства выпал на долю нашей Церкви». У католиков отсутствует трагедийность, свойственная миросознанию русского человека, пережившего революцию. Определяя дух папского послания словом «бестревожность», Зайцев задумывается, не развернутся ли в будущем гонения и на католическую церковь – вплоть до высылки духовенства из Ватикана. По его мнению, имея общего с православием врага – богоборческие режимы современности (радикалы-социалисты в Испании, коммунисты в России, фашисты в Италии), западное христианство медленно, но неукоснительно также входит в полосу трагедии, однако «в одном можно вполне быть уверенным: с великою твердостью и мужеством встретит католическая церковь гонения».
Мужественному сопротивлению богоборцам, подвигу самопожертвования, гонениям за веру посвящена написанная вскоре после «Гласа Ватикана» следующая глава «Дневника писателя» – «Война». Зайцев делится впечатлениями от посещения павильона Католических миссий, бывшего частью международной Колониальной выставки, проходившей в Париже в 1931 г. Выставка впечатляла своими масштабами, ее посетило около 34 миллионов человек. Были и многие русские эмигранты, о чем косвенно свидетельствуют строки из письма М. И. Цветаевой к А. А. Тесковой от 3 июня 1931 г.: «Нынче на Колониальной выставке (весь Париж перебывал, я – кажется – последняя)…» [28]28
Цветаева М. Спасибо за долгую память любви…: Письма к Анне Тесковой. М., 2009. С. 189.
[Закрыть]
Озаглавливая свой очерк, Зайцев имеет в виду войну с силами зла, которую ведет Церковь на протяжении веков: «…кровь проливается в ней лишь одною стороной. Другая претерпевает и несет свое оружие: Крест, Распятие, Евангелие, школу, больницу, борьбу против рабства. Генеральный штаб этой армии – Рим». Автор рассказывает об экспонатах, о миссионерской деятельности католической церкви, о подвиге милосердия, когда тысячи юношей и девушек отправляются в иные страны, чтобы послужить больным и немощным, научить вере, в безвестности и смирении сложить свои головы. Однако картина эта воспринимается автором не однозначно-идиллически. В порыве ехать в чужие страны Зайцев видит молодой порыв, романтический восторг, готовность «биться за веру среди диких». Но в самой стране, во французской глубинке вера в упадке, а людей, готовых вести миссионерскую работу среди убожества, власти лавочников и мещан, – не находится. Зайцев приводит свои свидетельства: «Наши крестьяне, на берегах Марны, складывали скирды пшеницы, жгли какие-то кучи, заходили в бистро. На Успение, 15 августа, никто, даже заезжий на велосипеде аббат, не служил в церкви». В современной французской провинции, номинально католической страны, он видит «убожество, тесноту и мрак духа».
Очерк сопрягается с литературной тематикой: в качестве примера самоотверженной миссионерки Зайцев приводит Сабину, героиню романа Марселя Жуандо «Тит Лелонг», – произведения, по оценке Зайцева, «замечательного». Сабина, сильная девушка, склонная к гордости и самоуничижению, гневу и восторгу, обрела смысл жизни в просвещении язычников далеко от родных краев. Но, полагает Зайцев, «Сабина могла воевать за свою Истину и не уезжая в Китай. В ее родном Шаминадуре, наверно, столько же детей, ничего не слыхавших о Христе и Евангелии».
ХРИСТИАНСКИЙ ИДЕАЛ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВООткрывать миру спасительные духовные сокровища Святой Руси, нести частицы евангельской Истины собратьям, выполнять духовно-просветительскую работу – сложно для любого мирянина, но вдвойне сложно для художника. «Светский, но православный» (9, 222) – вот точное самоопределение Зайцева. Свою проповедь он осуществлял эстетическими средствами, среди которых на первом плане неизменно оказывается передача чувства, ощущения, впечатления, т. е. импрессионистическое освоение бытия. Он избегает прямых нравоучений, понимая, что Истину невозможно доказать, как математическую теорему, но ее можно пережить. «Полнейший образ красоты, искусства всегда говорит „да“, всегда за Божье дело, если у него и нет напора боевого. Оно радует, веселит сердце чистым и возвышенным веселием» (9, 37), – писал Зайцев о Пушкине, но эти же слова всецело относятся и к его собственному творчеству.
Поэтому писатель столь чуток к опытам воссоздания мира горнего в творчестве современников.
В 1929 г. в Риге в русском переводе вышла книга немецкого писателя Эмиля Людвига под названием «Сын Человеческий. Жизнь Иисуса» (на немецком книга «Der Menschensohn» издана годом ранее). Зайцев откликнулся на нее в «Дневнике писателя» рецензией «Сын Человеческий». Эмиль Людвиг (1881–1948) – автор популярных романов-биографий. Его метод заключался в том, чтобы показать в исторических личностях прежде всего «все человеческое», доказать, что «великие» испытывают те же страхи и влечения, что и все люди. Во многих его психологических штудиях сказывается влияние 3. Фрейда.
По мнению Зайцева, попытка Людвига изобразить Христа как «обычного» человека, попытка применения «сплошной психологической живописи» по отношению к вещам духовным и сверх-реальным оказалась беспомощной, в итоге привела к созданию убогого, пошлого сочинения, «где Христа нет». Зайцев критикует Людвига с позиций даже не вероисповедных, но прежде всего художественных. Он ведет разговор о создании произведений в жанре «художественной биографии», о проникновении во внутренний мир личности. Приводя в пример имена французских беллетристов, тактично не называет своих сочинений – между тем сам этот жанр становится важнейшим в наследии Зайцева – беллетризованное житие «Преподобный Сергий Радонежский» (1925), биографии русских писателей «Жизнь Тургенева» (1932), «Жуковский» (1952), «Чехов» (1954).
Плодотворным для художника-биографа Зайцев полагал метод «вчувствования», «всматривания», суть его он формулирует и в рецензии: «…для того чтобы действительно изобразить чью-то душу, надо спуститься в нее, хоть на мгновение, чудесной интуицией ее коснуться, на мгновение перестать быть вполне собой…» В противоположность этому «Людвиг ничего не боится, ибо лишен художнического помазания». Отсутствие таланта и претензии привели к тому, что вместо «образа Христа» получилась мертвая и скучная книга, «пошлая и развязная журналистика».
В рациональном, сугубо приземленном подходе к духовной реальности Зайцев усматривает вслед за К. Н. Леонтьевым приметы «среднего европейца»: «Европейский середняк-писатель написал для европейского середняка-читателя».
Интересен полемический прием Зайцева: рецензия начинается и заканчивается обширными автоцитатами – сценами из романа самого Зайцева «Дальний край», где герой, бывший революционер и скептик, впервые чувствует неведомый, но реальный мир, впервые сердцем ощущает присутствие Христа. Не упоминая своего авторства, Зайцев словно дает понять, как возможно говорить о священных и спасительных смыслах христианства, как передать ощущение невидимого.
Евангелие – таинственная и загадочная книга, она иной, таинственно-божественной природы. Действие ее на душу человека – органично и внеразумно. Свои художественные принципы освоения духовной реальности Зайцев изложил в одной из исповедальных дневниковых заметок: «Есть истины, которые созерцаются, есть истины, которые переживаются… Нельзя объяснить, что такое добро, свет, любовь (можно лишь подвестик этому). Я должен сам почувствовать. Что-то в глуби существа моего должно – сцепиться, расцепиться, отплыть, причалить… Я помню ту минуту, более пятнадцати лет назад, когда я вдруг почувствовал весь свет Евангелия, когда эта книга в первый раз раскрылась мне как чудо. А ведь я же с детства знал ее» (9, 58).
Спустя три года после отклика на книгу Э. Людвига в своем «Дневнике писателя» Зайцев вновь обращается к теме художественного воссоздания духовных реалий и образа Спасителя. На этот раз речь идет о только что вышедшей первой части книги Д. С. Мережковского «Иисус Неизвестный». Начинается разговор, как часто это бывает у Зайцева, с цитаты – признания самого Мережковского, что он тридцать лет живет с Евангелием и постоянно читает его. Этот факт должен расположить к труду философа потенциального читателя.
Мережковский, как и Людвиг, многое додумывает, пишет своеобразный апокриф и не скрывает этого. Однако установка философа иная: движет им, по словам Зайцева, любовь, а смысл Евангелия автор признает «великим и таинственно-неисследимым». Как обычно, образные, импрессионистические оценки Зайцева вместе с тем весьма точны в определении сути: жанр книги Мережковского обозначен им как «книга всматриваний припавшего ко Христу».
В анализе книги Мережковского, как и Людвига, превалируют оценки эстетические. На этот раз Зайцев принимает стилистику книги, сравнивая ее образность, характер с любимой им итальянской живописью, находя слово автора легким, патетическим, временами – пронзительным. Признавая, что некоторым церковным людям писание Мережковского покажется слишком дерзновенным, что некоторые откажут в праве приписывания Христу чувств и мыслей – Зайцев все же оправдывает Мережковского за его искренность, за любовь к изображаемому: в попытке «все знать о Христе» нет кощунства. Заслуга книги, таким образом, – ощущение тайного, волнующая читателя попытка заглянуть «за видимую часть спектра». Для Зайцева важно, что книга будет выполнять миссионерскую задачу: пропитанный рационализмом читатель XX в. способен будет почувствовать нечто большее видимого, земного бытия.
Спустя тридцать лет Зайцев вновь обратится к фигуре философа, посвятив ему объемный очерк «Памяти Мережковского. 100 лет» (1965). О художественных достоинствах произведений Мережковского Зайцев выскажется на этот раз куда более сдержанно: «Настоящим художником, историческим романистом (да и романистом вообще) Мережковский не был. Его область – религиозно-философские мудрствования, а не живое воплощение через фантазию и сопереживание. Исторический роман для него, в главном – повод высказать идеи» (6, 341–342).
«РОССИЯ СВЯТОЙ РУСИ»В 1926 г. в Париже вышла книга протоиерея Сергия Четверикова «Оптина пустынь», а в 1929 г. в Белой Церкви – книга о. Василия Шустина «Запись об о. Иоанне Кронштадтском и об оптинских старцах». Эти сочинения послужили поводом к созданию Зайцевым очерков «Иоанн Кронштадтский» и «Оптина пустынь» (они следуют в «Дневнике писателя» друг за другом). Очерки воплощают одну из главных тем в зарубежном творчестве художника – воссоздание России Святой Руси. Оказавшись в 1922 г. в эмиграции, Зайцев открывает «Россию Святой Руси, которую без страданий революции, может быть, не увидел бы и никогда» (9,17). Отныне свою миссию русского писателя-изгнанника он осознает как приобщение и соотечественников, и западного мира к тому величайшему сокровищу, которое хранила Святая Русь, – православию; как «просачивание в Европу и в мир, своеобразная прививка Западу чудодейственного „глазка“ с древа России…» (9, 287).
Специфика очерков Зайцева о святынях и подвижниках, а также его книг «Преподобный Сергий Радонежский», «Афон», «Валаам» – взаимодействие мемуарного и документального пластов. Сопрягаются памятные писателю из детства лица, события, переживания – и вновь открывающиеся ему из современных публикаций документальные свидетельства. Он переплавляет их в единое целое.
Точно так же и в очерке об о. Иоанне Зайцев пересказывает самые впечатляющие свидетельства подвижнической деятельности и чудотворений святого, заимствованные им из книги о. Василия Шустина и содержащихся в ней заметок старца Варсонофия Оптинского. Но обрамляет их своими воспоминаниями: во время своей поездки в Калугу в мае 1895 г. «всероссийский батюшка» посетил десятки учебных, духовных и богоугодных заведений, в том числе и реальное училище, где тогда учился Зайцев [29]29
Зайцев допускает случайный или намеренный анахронизм: он рисует обстановку калужского реального училища, которое в действительности посещал о. Иоанн, но называет его «гимназией», а учеников – «гимназистами».
[Закрыть].
Впоследствии, в автобиографическом романе «Тишина» (1938–1940) Зайцев более детально, на нескольких страницах описывает посещение о. Иоанном училища, реакцию педагогов, священников, учеников. Юноша был «разочарован» этим событием: знаменитый пастырь, «некоторыми считавшийся почти святым», не обратил на него никакого внимания. Однако портрет передан объективно: бледно-голубые глаза, несшие «легкую, поражающую живость, невесомо-духовную», легкость тела, властные руки, высокий, резкий голос (4, 228).
Очерк об о. Иоанне имеет кольцевую композицию: в первых строках подвижник предстает взлетающим по лестнице калужской гимназии, в финале – восходящим уже по небесной лестнице в видении старца Варсонофия. Как и в портретах мирян, Зайцев находит характерные приметы личности, акцентирует их, придает им характер метафоры. Если радонежский чудотворец представал как «святой плотник с благоуханием смол русских сосен», слегка «суховатый» и «прохладный», а в св. Серафиме подчеркнуто ослепительное сияние его личности, «раскаленный свет Любви», то в о. Иоанне – стремительность, легкость и дерзновенность. «Ощущение острого, сухого огня. И малой весомости. Будто электрическая сила несла его». «Смел, легок, дерзновен».
Под впечатлением от упомянутых книг С. Четверикова и В. Шустина и по свежим следам событий в СССР (в 1923 г. была закрыта Оптинская обитель) Зайцев написал очерк-эссе «Оптина пустынь». Описания внешнего вида монастыря, переезда на пароме, облика старца Амвросия и паломников опираются на эти издания, но Зайцев фокусирует отдельные факты, вводит свои детские воспоминания. Благодаря этому возникает ощущение живости и естественности, граница между документом и авторским повествованием стирается.
Духовный путь Бориса Зайцева отмечен характерной особенностью: его детство, юность прошли вблизи величайших святынь русского православия, но он оставался вполне равнодушен к ним. Зайцев несколько лет жил неподалеку от Оптиной пустыни, но ни разу не побывал в ней; часто проезжал в имение отца через Саровский лес, но Саровская обитель не вызывала у него никакого интереса. И только в эмиграции, навсегда лишенный возможности поклониться этим святым местам, Зайцев постигает их великое духоносное значение и в своих очерках пытается воскресить их в памяти, посетить их хотя бы в мыслях. Такое «мысленное паломничество» становится характерным приемом Зайцева в очерках о святынях Руси.
Очерк «Оптина пустынь» проникнут любовью и благоговением к великим оптинским старцам. Зайцев размышляет о том, как могло бы протекать его путешествие в Оптину в конце прошлого века, представляет в воображении свою встречу со старцем Амвросием – человеком, «от которого ничто в тебе не скрыто»: «Как взглянул бы он на меня? Что сказал бы?» Зайцев задает себе вопрос, смог ли бы он отдаться целиком в его волю: «…я должен безусловно, безоглядно ему верить – это предполагает совершенную любовь и совершенное пред ним смирение. Как смириться? Как найти в себе силы себя отвергнуться? А между тем это постоянно бывает и, наверно, для наших измученных и загрязненных душ полезно…» Зайцев преклоняется перед безмерной любовью старца к людям, «расточавшего», «раздававшего» себя, «не меряя и не считая». Старец Амвросий, как и другие оптинские старцы, «в противоположность о. Иоанну Кронштадтскому… вполне далеки от экстаза и нервной экзальтации. Спокойная и кроткая любовность – основа их».
Завершается очерк скорбными словами о разрушении и запустении Оптиной в годы «новой татарщины». Но Зайцев никогда не считал, что Святая Русь погибла окончательно, и верил в ее грядущее возрождение. Провидческими оказались строки о том, что Оптина ушла «на дно таинственного озера – до времени».
К теме Оптиной Зайцев обратился спустя 30 лет, написав очерк «Достоевский и Оптина пустынь» (1956), носящий в большей степени популяризаторский характер. В нем развивается мысль о том, что Оптина стала духовно-культурным центром, «оказалась излучением света в России XIX века», и рассказывается о поездке Достоевского к о. Амвросию в 1878 г. Зайцев подчеркивает, что великая русская литература в лице Гоголя, Толстого, Достоевского, Леонтьева и других «шла к гармонии и утешению на берега Жиздры», в Оптину. «Встреча с Оптиной Достоевского, кроме озарения и утешения человеческого, оставила огромный след в литературе. „Братья Карамазовы“ получили сияющую поддержку. Можно думать, что и вообще весь малый отрезок жизни, отданный целиком „Карамазовым“, прошел под знаком Оптиной» (7, 393).
В творческом проекте Зайцева, который можно озаглавить «Россия Святой Руси», занимают место отклики на появляющиеся книги, непосредственно связанные с русским православием. Как всегда, написанные в свободной форме, они неизменно включают религиозно-философские размышления и самого Зайцева.
Книга Федотова «Святые Древней Руси» (Париж, 1931) не могла не привлечь внимания автора жизнеописания преподобного Сергия Радонежского. Зайцев посвящает ей главу «Дневника писателя», озаглавленную «История русской души». Мы предполагаем, что сам этот труд Федотова создавался не без влияния книги Зайцева, вышедшей пятью годами ранее [30]30
Любомудров А. М. Книга Бориса Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский» // Русская литература. 1991. № 3. С. 112–121.
[Закрыть]. По мнению Зайцева, Федотову, «современному верующему ученому», удалось передать дух русской святости, описать смирение и «мягкосердечие» Руси. Вывод Федотова о характере русской святости («светлая мерность», отсутствие крайней аскезы) близок Борису Зайцеву – еще в книге о преподобном Сергии он утверждал: «Если считать – а это очень принято, – что „русское“ гримаса, истерия и юродство, „достоевщина“, то Сергий явное опровержение. В народе, якобы лишь призванном к „ниспровержениям“ и разинской разнузданности, к моральному кликушеству и эпилепсии, – Сергий как раз пример, любимейший самим народом, – ясности, света прозрачного и ровного» (7, 69).
«Счастье» – глава «Дневника писателя», посвященная знаменитой книге «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». Книга впервые была издана в 1881 г. и впоследствии неоднократно переиздавалась. Зайцев познакомился с этим выдающимся памятником духовной литературы только в Париже, когда издательство «YMCA-Press» выпустило ее с предисловием Б. П. Вышеславцева.
Первая половина рецензии – изложение главных моментов, пересказ некоторых сцен. Затем Зайцев переходит к разговору о собственно литературных, художественных особенностях текста. Он отмечает дар рассказчика, умение воссоздать словом «Божий мир, необычайно широкий, вольный». Задача, которую пыталась решить русская классика, создание образа «положительно прекрасного человека», воплощение христианского идеала в литературном произведении, всегда привлекала внимание и Зайцева. Он усматривает в «Откровенных рассказах…» удачное осуществление этой задачи, воплощение «просветленно-приветственного взгляда на мир», присутствия духовной реальности.
Мысль о неуничтожимости «Святой Руси» Зайцев повторял многократно, и именно тогда, когда факты убийств, террора, разрушения, разгул «стихии демонической», наполняющей советскую Россию, говорили, казалось, об обратном. Книга Странника вселяет в Зайцева надежду на то, что и сегодня есть старцы, молящиеся за Русь. Эту надежду выражает концовка рецензии: «И тем не менее… если возможно счастие, видение рая на земле: грядет оно лишь из России. Не знаем нынешних ее странников, святых, страдальцев – за дальностью туманов и пространств. Но никто меня не убедит, что в подземных рудах родины не таятся те же, о, все те же „самоцветные камени“… (Вопреки всему! Вопреки ужасу – верю.)»