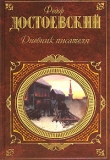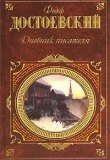Текст книги "Дневник писателя"
Автор книги: Борис Зайцев
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Нередко Зайцева воспринимают как «кротчайшего», «блаженного», умиротворенного художника, видят в нем лишь лирика, тонкого эстета, «тишайшего» акварелиста. Христианство его называли «розовым», не воинственным. О том, что это было совсем не так, свидетельствуют публицистические выступления художника. Узнавая о проявлениях зла в мире, Зайцев бескомпромиссно обличает гонителей и преступников, вступается за страдающих. Столь несвойственные, казалось бы, Зайцеву, открыто негодующие и обличительные интонации особенно ярко проявились именно в «Дневнике писателя» – в заметках «Бесстыдница в Афоне» и «Крест».
С конца 1920-х гг. образ Афона надолго привлек внимание Зайцева. Паломничество на Святую гору в мае 1927 г. Зайцев считал впоследствии провиденциальным, важнейшим событием в своей биографии. Итогом поездки стала книга «Афон» (Париж, 1928), которую заключают строки: «В своем грешном сердце уношу частицу света афонского, несу ее благоговейно, и что бы ни случилось со мной в жизни, мне не забыть этого странствия и поклонения, как, верю, не погаснуть в ветрах мира самой искре» (7,146). Частица афонской святости действительно бережно сохранялась Зайцевым всю жизнь. Но не только Афон дал нечто драгоценное художнику. В творческой биографии Зайцева есть еще одна чрезвычайно интересная страница, когда ему, обычно смиренному и благодушному, пришлось вступить в открытый бой, защищая Афон.
«Монастырская» тематика демонстрирует своеобразную эмоциональную окраску публицистики Зайцева, которую можно определить как смиренная непреклонность. Казалось бы, публицистический жанр менее других приспособлен для проявления христианских настроений. Большей частью публицисты самоуверенно и напористо судят мир. Зайцев, откликаясь на злобу дня, не судит никого, но созерцает. События окружающей жизни он высвечивает вечностным светом. В статьях и заметках Зайцева смирение по-прежнему выступает как отказ от гордыни и самоутверждения; в центр ставится не личность автора, но Божественная воля. Вместе с тем смирение – «меч» в борьбе с грехом и человеческими страстями. Эта особенность «духовной публицистики» проявилась и в заметке «Бесстыдница в Афоне», непосредственно касающейся монашеской жизни.
Спустя два года после поездки Зайцева на Афон в Париже вышла в свет книга Маризы Шуази «Месяц среди мужчин» (1929), в которой она утверждала, что ей якобы удалось, переодевшись в мужское платье (пребывание женщин на Афоне запрещено), проникнуть на Афон и познакомиться с тамошней жизнью. Шуази глумилась над православием, афонскими монастырями, причем особую неприязнь у автора вызывали русские монахи. Для доказательства подлинности поездки к книге была приложена фотография Шуази на фоне монастырей.
Из слов Зайцева о «некоей Шуази» следует, что это имя было ему неизвестно. Личность же ее весьма неординарна. Французская писательница и философ Мариза Шуази была последовательницей Зигмунда Фрейда. Увлекшись психоанализом, она стремилась ввести его элементы и в свои романы, чтобы придать большую глубину характерам. Она основала движение, которое назвала «сюридеализм», тесно общалась с французским писателем Жозефом Дельтеем, которому посвятила очерк. Создавая свои книги, Шуази погружалась в ту действительность, которую хотела познать и описать. Трудно судить, насколько можно верить ее заверениям, что она провела месяц в публичном доме при подготовке книги-репортажа «Месяц среди девиц» (1928): Зайцев доказал, что ее поездка на Афон – вымысел.
В заметке «Бесстыдница в Афоне», открывающей цикл «Дневник писателя», он свидетельствует, что описания Шуази ничего общего не имеют с увиденной им монастырской жизнью и, не теряя своего смирения, вступает в мужественную, бескомпромиссную борьбу со злом. При этом он выражает подлинно христианский взгляд на присутствие зла в мире: «…разумеется, это допущено. <…> Значит, для чего-то это надо. Не для того ли, для чего вообще допущена свобода зла? Шуази не одинока. Напротив, зло лезет изо всех щелей, и Бог допускает зло. Ибо свободно должен человек и бороться со злом. Борьба идет, г-жа „писательница“, по всему фронту!»
Здесь мы встречаемся, быть может, с пиком негодования Зайцева: «…книжка разжигает на борьбу, молодит. Мы с автором ее из разных лагерей. Мы не можем щадить друг друга. „Их“ больше. „Они“ богаче. Давая пищу злу, низменным вкусам и чувствам, они успевают житейски. Их клеветы оплачиваются иудиными сребрениками. „Нас“ меньше и „мы“ беднее. Но как бы ни были мы неказисты и малы личными своими силами, мы во веки веков сильнее „их“, потому что за нами Истина. Вот это скала, Шуази! Ничем вы ее не подточите. Она дает нам силы жить, питает и одушевляет наше слово и наше перо. Наше негодование, как и наша любовь, непродажны…»
Показательна концовка, где точно расставлены акценты: Зайцев обличает зло, но не человека. Даже явного клеветника он не берется осуждать, предваряя суд Божий, и надеется на возрождение души даже и завзятого врага православия, приглашая его к покаянию: «В вашем лице клеймлю зло. Но как был бы я счастлив, если бы вы вдруг устыдились того, что написали – если бы чистосердечно признались в своей неправде, в соделанном вами дурном деле… Вряд ли это случится. Впрочем, кто знает. Судьбы наши загадочны».
Эта, казалось бы, совершенно утопическая надежда удивительным образом оправдалась. Вскоре после пика своего «сюридеалистического» творчества (особенно плодотворным оказался 1930 г., когда вышли ее книги «Дельтей совсем голый», «Корова в душе», «Любовь в тюрьмах») Шуази переживает религиозный переворот, в результате которого она начинает скупать и уничтожать тиражи выпущенных ею книг. Она призналась, что написанное ею не удовлетворяет трем критериям Сократа: правда, полноценность и доброта. Шуази всецело посвятила себя психоанализу, который, как она полагала, должен внести свой вклад в человеческое счастье, и написала ряд трудов по этой теме. Историю своего обращения она изложила в книгах «Сказки для моей дочери и для других» (1946), а также «На пути к Богу вы сначала встречаете дьявола. Воспоминания, 1925–1939» (1977).
Про ревностную защиту Зайцевым святогорцев узнали на Афоне. Игумен Пантелеймонова монастыря о. Мисаил, получив фотографию Шуази, сообщил Зайцеву, что такого человека никогда не было на Афоне, а фото – поддельное. В знак благодарности и благословения он прислал писателю икону Иверской Божией Матери с надписью: «За защиту поруганного Афона» и образ Св. Пантелеймона. Об этом Зайцев не преминул упомянуть в дневниковой заметке «Вновь об Афоне».
К бедам и скорбям Афона Зайцев остался неравнодушен и впоследствии, посвятив ему около десятка заметок в 1930-1960-е гг. Характерной их особенностью является неизменное соотнесение Афона с судьбами Вселенной. В той же заметке «Вновь об Афоне», приводя письма знакомых иноков с Афона, он со скорбью сообщал о пожарах, растущей нужде, о болезнях, проникших на Святую гору. Спустя четыре года в «Афонских тучах» – заметке к годовщине землетрясения на Афоне, происшедшего в праздник Крестовоздвижения, 26 сентября 1932 г., – он напоминает, что подобные знамения на Афоне всегда свидетельствуют о «политических бурях», и связывает землетрясение с тем, что 1932-й стал самым страшным для голодной России годом [31]31
Зайцев Б. К. Афонские тучи // Возрождение. Париж. 1933. 1 окт. № 3043. С. 4.
[Закрыть]. В материале «Афон. К тысячелетию его» (1963) Зайцев публикует отрывки из своей книги, предваряя их заметкой, где с благодарностью вспоминает девятнадцать проведенных на Афоне дней, мысленно поклоняется его святым местам, отдает дань памяти встреченных там людей – все они перешли уже в мир иной… [32]32
См.: Зайцев Б. К. Афон. К тысячелетию его // Русская мысль. Париж. 1963. 23, 25, 27 июля. № 2024–2026.
[Закрыть]Наконец, уже в 1969 г., за два года до кончины, восьмидесятивосьмилетний писатель вновь вспоминает Святую гору. Толчком к написанию заметки «Дни. Афон» послужило известие о новом пожаре в Пантелеймоновом монастыре. Появляются новые чеканные строки о великом смысле пребывания Афона во Вселенной: «…Афон более созерцателен и молитвен, чем действен. Молитва, за себя и за мир – выше реального врачевания. Прославление Божества, в тишине благоговейной, как бы выше действий на пользу ближнему земную». Как и все на земле, Афон подвержен скорбям, но вновь Зайцев утверждает идею о непостижимом до конца смысле страданий, которые необходимо принимать, достигая больших и больших степеней смирения: «Значит, надо было еще пострадать делу духовному в земном облике. Все это область высшего Плана. Афон же был и есть, он существует, пожары и несчастья могут его уязвлять; как и всем, ему суждено страдание <…> Но Афон независим от пожаров, нашествий иноплеменных, иконоборцев и атомных бомб – мало ли что может придумать наш милый век… Афон есть образ духовный, никаким бомбам неподсудный, а, как все живущее, бедам подверженный. Беды проходят, вечное остается. Афон остается» [33]33
Он же. Афон // Зайцев Б. К. Дни. М.; Париж, 1995. С. 439, 441.
[Закрыть].
Столь же горячо и резко звучит публицистическое слово Зайцева в другой главе «Дневника писателя», «Крест» – отклике на похищение в Париже генерала Кутепова.
Русская эмигрантская пресса была переполнена сообщениями об этом событии. Газета «Возрождение» требовала от властей немедленно произвести обыски в советском полпредстве на рю де Гренель. Возмущались разбоем советской агентуры в Париже и французские газеты. Однако правительство, не желая обострять отношения с СССР, не приложило никаких усилий к поиску преступников.
В среде русской эмиграции отношение к Кутепову было далеко не однозначным. Но Зайцеву, лично почти не знавшему генерала, не столь важны его политические привязанности: для писателя он стал «знаменем мученичества, знаменем России распинаемой… Он не может не быть своим каждому русскому». И Зайцев призывает соотечественников молиться о страждущем собрате.
Горькой патетики исполнено слово публициста, обличающего и тех, кто распинает Россию, и тех, кто соглашается с неправыми делами. «На Кресте наша Родина» – и ничто не способно заслонить от писателя этот образ.
Зайцев всегда особенно чутко относился к страданиям за Христа, поэтому столь значима в его творчестве тема современного мученичества. И в далекой России, и в современной Франции он видит и всегда откликается на примеры реальных страданий за веру. Тема Креста, новой Голгофы остро волнует художника. Он часто пишет о том, что в нынешнее время, в XX в., как бы возвращаются времена первохристианства, когда Церковь снова становится беспощадно гонимой, а подлинные христиане бедствуют и нищенствуют, идут на страдания и смерть за исповедание своей веры. И он стремится увековечить память тех, кто принял муки от безбожных гонителей.
Трагическое событие подтолкнуло Зайцева к размышлению об исторической судьбе России, о современном ее этапе. «Годы долгой, крестной муки российской – вот подходят они к пределам». В 1930 г. Зайцев, как и многие эмигранты, еще надеется на временность советской власти, на скорый конец владычества «новых татар». С годами лишь с большей тревогой и горечью звучит вопрос: как скоро это произойдет?
Следующая часть заметки – обвинительный акт. Зайцев предъявляет факты самых чудовищных злодеяний режима, мучающего свой народ, уничтожающего святыни. Он напоминает о планомерном уничтожении крестьянства и интеллигенции, морали и религии. Именно в эти годы многие страны Европы начали устанавливать дипломатические отношения с СССР, тем самым признавая законность ее новых властей. Зайцев обличает западные страны в равнодушии к судьбе русского народа, в предательстве и попустительстве, в сотрудничестве с палачами России.
Зайцев, таким образом, диаметрально противоположно воспринимал культуру и политику Запада. Культурные традиции Франции, Италии безусловно близки художнику, но политическая деятельность правительств этих стран часто подвергалась им резкой критике.
Заметку завершают исполненные внутренней силы проникновенные слова о том, как должно существовать в присутствии зла: «А дальше идет вера. В силе – ждать. Не вечно так будет. Из скопившегося может грянуть такой гром, такая молния, что зашатается сатанинский престол. Когда это будет – не знаем. Но нас этот час должен застать бодрствующими, не расслабленными и не падшими».
Видно, как меняется стиль Зайцева. Почти нет метафор, поэтических образов. Звучит чеканное, громкое слово писателя-публициста, исполненное горькой патетики, обличающего и тех, кто распинает и терзает Россию, и тех, кто соглашается с этими неправыми делами, их «подлость и продажность». «На Кресте наша Родина» – и никакой голубой воздух Франции, никакие красоты не способны заслонить этот стоящий перед писателем «облик Креста».
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКАИсследователь литературно-критических жанров в творчестве Зайцева А. В. Яркова отмечает: «Рецензии Зайцева интересны в отношении поэтики. Придерживаясь традиционного жанрового канона, писатель создает лирические эссе, которые в ряде случаев перерастают рецензию, превращаясь в литературный портрет, исповедь, мемуарный или лирико-философский очерк. Они могут содержать мемуарные, исповедальные или публицистические включения. Метод „вчувствования“ в художественный текст, стремление уловить „душу“ писателя свидетельствует о принадлежности Зайцева к традиции импрессионистической критики начала XX века» [34]34
Яркова А. В. Жанровое своеобразие творчества Б. К. Зайцева 1922–1972 годов. Литературно-критические и художественно-документальные жанры. С. 41.
[Закрыть].
В «Дневнике писателя» есть несколько литературно-критических разборов. «„Памяти твоей“ Георгия Пескова» – образец одного из них. Зайцев проявлял неизменное внимание к новым именам в литературе, в его наследии много благожелательных оценок и напутствий начинающим литераторам.
То, что за псевдонимом скрывается женщина, не могло не быть известным Зайцеву, но он не раскрывает псевдонима. Лишь в одном месте можно усмотреть намек на пол автора – когда критик говорит о «совершенно неженских страстях» писателя.
Темы большинства произведений Пескова связаны с революционной эпохой в России, и Зайцев строит разговор на противопоставлении творчества Пескова советской литературе, оценки которой бескомпромиссны: «Советские писатели не-духовны, даже (в большинстве) не-душевны. Изображают факты, внешность». Песков же «изображает не вещи, а человека». Зайцев называет отличительные качества прозы Пескова: изображение иной, мистической реальности, внимание к страждущим и отчаявшимся людям, постоянный интерес к силам зла.
Литературно-критические оценки Зайцева отчетливо импрессионистичны. Поэтику Пескова он определяет как «сумрачный офорт»; слово писателя «сгущенно, кратко и суховато». Далеко не все в прозе Пескова оказывается близким Зайцеву, он высказывает собственные оценки, не претендуя, впрочем, на поучение («нельзя никому ничего навязывать»), и желает молодому автору «побольше… воздуха… света, красок, благоуханий».
Приоритет нравственных и религиозных проблем над социальными – характерная черта Зайцева-критика. Заканчивается статья трезвым признанием места христианского писателя в современном мире: «Я думаю, что Сирин будет иметь больше успеха. Неверие и безнадежность современному сердцу близки. Песков – довольно редкий тип писателя христианского. Это ему обойдется дорого».
С Франсуа Мориаком Зайцев общался на Франко-русских собеседованиях, был знаком с его романами «Женитрикс», «Судьбы», «Тереза Декейру». В «Дневнике писателя» Мориаку посвящена статья «Виноградарь Жиронды», где Зайцев намечает некоторую эволюцию Мориака и помещает в центр разбор его нового романа «То, что было потеряно». Рассматривая этот материал, Т. М. Степанова отмечает присущее Зайцеву умение «максимально плотно, информационно и концептуально насыщенно излагать сюжетную суть анализируемого произведения, лаконично обрисовывать характеры, обстоятельства, не упуская контекст и подтекст произведения, касаясь и изобразительно-выразительной природы каждого текста. Эмоциональные, образные оценки чаще всего преобладают в рецензиях Б. Зайцева» [35]35
Степанова Т. М. Художественный мир публицистики русского зарубежья. Борис Зайцев. С. 204.
[Закрыть].
Французский собрат по перу воспринимается как «душа мужественная, мрака не боящаяся, остро и современность чувствующая». Для Зайцева важна глубинная, корневая связь Мориака с родным краем, с природой: «Кровь, стихия рода, близка этому писателю»; «Он любит идущее из почвы. Его люди наделены страстями и грехами яркими, возросшими на первозданном»; «Таков он – плод южной, французской земли, но не провинциал. Знает Жиронду и Ланды, но и Париж, т. е. мир. Он католик – но не типа захолустного кюре. Никакой благонамеренной агитки нет в нем и не может быть».
Последняя фраза вводит в разговор о творчестве Мориака, и в этом разговоре Зайцев акцентирует внимание на христианском содержании романа, которое именно в новой книге Мориака проступило более явственно: «…впервые открыл Мориак себя глубже: благодать, помощь, надежда – все это есть, тут же рядом. Несчастные „потеряли“ важнейшее. Без него тьма, гибель. Но вот рядом – тайное дуновение благодати: и спастись можно». Вопрос о творчестве писателя-христианина, волнующий самого Зайцева, неоднократно обсуждается им в разных частях «Дневника писателя». Зайцев понимает недопустимость для художественного текста какого бы то ни было поучения, прямой проповеди, увлечения «схемой». В этом отношении новый роман Мориака представляется ему рискованным экспериментом – «потому что в нем тезис», однако же в целом некоторая искусственность искупается «подземным пламенем, бьющим из всех щелей. Сердце несентиментального автора слишком потряс мир скорбный, холодеющий, черствеющий».
Спустя семнадцать лет Зайцев посвятил Мориаку очерк «Встреча» (1947), где определяет французского романиста как писателя-христианина, который пишет о грехе и о спасении. Он отмечает, что в творчестве Мориака с годами стали все более преобладать публицистические жанры, что вызвано «желанием прямо говорить о мире» – эволюция, которая была присуща и самому Зайцеву. И завершает очерк словами об одиноком славящем Бога художнике – «гласе вопиющего в пустыне» (9, 230–232).
ТЕАТРАЛЬНАЯ КРИТИКАОдна из частей «Дневника писателя», «Искусство актера», являет нам еще один талант Зайцева – театрального критика. Специфика театрального искусства, тенденции русского театра начала века были хорошо ему знакомы; Зайцев общался не только с литературной, но и театральной элитой. Поэтому, когда в 1930 году в Париже открыл сезон театр Михаила Чехова, Зайцев с интересом следил за его деятельностью. Видимо, гастроли побудили к размышлениям о судьбах русского театра в целом. Жанр «театральных» мемуарных очерков в творчестве Зайцева активно развивается именно в это время: в декабре 1930 г. появляется очерк «П. М. Ярцев», в июне 1931 г. – «Надежда Бутова», в декабре 1931 г. – очерк о Михаиле Чехове в «Дневнике писателя», в ноябре 1932 г. – очерк «Начало Художественного театра».
Глава «Дневника…» «Искусство актера» посвящена одному из самых ярких и талантливых русских актеров – Михаилу Александровичу Чехову (1891–1955). В отличие от других очерков театральной тематики, здесь собственно театрально-критический анализ преобладает над мемуарной стихией.
Фигура Чехова представлена на фоне его учителя, К. С. Станиславского. Начинается очерк с краткого эссе о великом режиссере. Зайцев отдает должное заслугам и таланту Станиславского, прослеживает эволюцию его «от некоего изящества с лирическим оттенком – к большей яркости, густоте и скульптурности». Однако, очень деликатно, Зайцев подводит читателя к весьма нелицеприятному выводу: «…Станиславскому как-то вообще не хватало духовного фона для его искусства. Само по себе замечательное, оно шло как-то без резонанса, становилось тесным, душноватым. <…> От артиста его калибра хотелось бы некоей духовной установки».
Эта оценка Станиславского сложилась у Зайцева не без влияния актрисы Н. С. Бутовой. В посвященном ей очерке, написанном за полгода до «Искусства актера», Зайцев привел ее высказывания о Станиславском: «Поэзии, духовного не чувствует, для него этого нет, он весь, весь тут… и литературы не чувствует, и многого – высшего – вовсе не знает. Комедийный актер, не духовный… Не нравились клистирные трубки Мольера, смешные штучки „кавалера“ в „Хозяйке гостиницы“» (6, 85). В «Искусстве актера» Зайцев развивает эту мысль: физические находки, приемы Станиславского были смешны, но недостаточны: не было у режиссера «ни диккенсовского благодушия, ни глубины Гоголя (трагической), ни человеколюбия чеховского…». И в очерке «П. М. Ярцев» Зайцев развивал сходные мысли о противостоянии «бытописательного реализма» и нового, еще не оформившегося духовного театра (6, 76).
Впервые Зайцев увидел игру Чехова в годы революции: в 1921 г. на сцене 1-й студии МХАТ Чехов играл Эрика XIV в одноименной пьесе Стриндберга. Разговор о Чехове Зайцев начинает со своих воспоминаний об этом спектакле, отмечает успех актера как достойного воспитанника школы Станиславского в «Ревизоре» и «Гамлете».
В конце 1930 г. Чехов переехал в Париж, где дал несколько концертов, а затем с актерами своей труппы в течение двух сезонов играл в ряде спектаклей. 8 ноября 1930 г. состоялся литературный вечер Московского землячества в честь артиста МХТ М. А. Чехова, которого представил парижской публике Б. К. Зайцев. Чехов прочел несколько отрывков из «Гамлета», исполнил с артистами своей студии три юморески. Зайцев делится своими впечатлениями и от этого вечера, и от только что увиденных им спектаклей труппы Михаила Чехова (очерк опубликован через три недели после премьеры пьесы «Дворец пробуждается», состоявшейся 9 ноября). Центральная часть «Искусства актера» – о природе дарования Чехова. Зайцев считает его блестящим комедийным актером. Но сам Чехов пытался воплотить на сцене идею высокого театрального искусства, которое воспитывало бы, возвышало и просветляло людей. Эту свою мечту об особом, нравственно-художественном театре Чехову удалось осуществить в дальнейшем, во время работы в Англии и Америке.
Казалось бы, чеховская концепция театра должна была найти отклик у Зайцева, писателя утонченного и возвышенного. Однако Зайцев, как художник и как критик, вынужден констатировать: первые попытки Чехова реализовать свои идеи (в пьесах «Гамлет» и «Дворец пробуждается») неудачны. Зато отнюдь не самый «возвышенный» жанр, комедия, живет, блистает, дает настоящую радость художества. Зайцев имеет в виду пьесу Бергера «Потоп» – именно здесь игра Чехова (в роли Фрезера) трогает и волнует зрителя, именно здесь находит воплощение подлинное искусство. Зайцев объясняет это так: «…чеховский Фрезер наш брат, такой же малый и греховный человек, как все мы, так же за жизнью рвущийся, завидующий, страдающий, способный на гадость и на добрый порыв…» Сравнивая Чехова со Станиславским, Зайцев даже склонен считать, что Чехов пошел дальше своего великого учителя, по крайней мере в жанре комедии: он «светлее и добрее», «живее, непосредственнее, глубже Станиславского в комедии», в нем нет «холодка найденных приемов».
Зайцев, однако же, отдает должное смелости, поиску актера, который пускается в «эксперименты фантастические» и предпочитает поражения в неиспробованном – верному успеху в «прежнем». Понятия «жизнь», «живое» были особенно значимы для Зайцева, противопоставлявшего их всякого рода мертвящим схемам, искусственным «приемам» и сухой расчетливости. И очерк о Чехове он завершает похвалой органическому, не чисто «умственному», творчеству: «…всегда пожелает зритель живого, теплого, зачерпнутого из самой жизни».
* * *
«Дневник писателя» включает в себя 23 части. В парижской газете «Возрождение» записи «Дневника…» публиковались под номерами, очевидно данными редакцией, однако в процессе публикации неоднократно происходили сбои в порядке следования номеров. Так, вслед за рецензией «„Памяти твоей“ Георгия Пескова», опубликованной 16 марта 1930 г. под номером 10, следующей по времени стала заметка под номером 13 «Флобер в России» (11 мая), далее, 15 июня напечатана запись «Счастье» под номером 12. Под одним и тем же номером (15) опубликованы записи «Виноградарь Жиронды» и «Новые книги Муратова». Записи под номером 19 не существует (вслед за 18-й идет 20-я), наконец, под одним номером (23) напечатаны завершающие «Дневник…» части «Старый барин» и «Иисус Неизвестный». В настоящем издании части «Дневника…» публикуются без номеров, в хронологической последовательности.
В комментариях приводятся сведения об источнике публикации.
Орфография и пунктуация приведены в соответствие с современной нормой. Допущенные в ряде случаев отступления от этого принципа диктовались стремлением сохранить индивидуальные особенности авторской манеры. Своеобразная, порой отступающая от норм современной ему русской грамматики пунктуация Зайцева сохраняется в тех случаях, когда она оправдана стилистически и интонационно.
Авторство примечаний Б. К. Зайцева оговаривается, все остальные подстрочные примечания принадлежат публикатору.
В угловых скобках заключены конъектуры публикатора. Исправлены явные опечатки. Слова, которые Зайцев выделял полужирным, курсивным начертанием или разрядкой, в данном издании даются курсивом.
В работе над книгой были использованы библиографические издания: Борис Константинович Зайцев: Библиография / Сост. Р. Герра; Ред. Т. А. Осоргина. Париж, 1982; Б. К. Зайцев: Биобиблиографический указатель / Сост. В. А. Дьяченко. Калуга, 2001; Яркова А.В. Б. К. Зайцев: Семинарий. СПб., 2002.
Публикатор выражает глубокую благодарность Евгении Кузьминичне Дейч за помощь в работе.