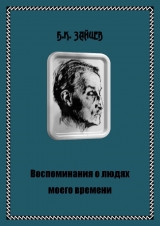
Текст книги "Воспоминания о людях моего времени"
Автор книги: Борис Зайцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПШЕНИЦА
… Годы после войны прожили мы в деревне, тульском имении отца. Не могу сказать, чтобы нас обижали. Меня не только не убили, но и заложником не взяли. Не лишили и крова. Я занимал по-прежнему свой флигель. Мне вернули книги, реквизированные во время моей отлучки: все Соловьевы и Флоберы, Данте, Тургеневы и Мериме не без торжественности возвратились (в розвальнях) домой – на родные притыкинские полки. Правда, пришлось воевать: молодой бешеный коммунист в Кашире, местный министр просвещения, библиотеки не хотел возвращать. Когда жена моя явилась к нему с разными «мандатами», он отказался их исполнить. В исступлении кричал:
– Вижу, что подпись Каменева! Пусть Чека из Москвы едет, пусть меня расстреляют, не отдам народного достояния!
– Да ведь это муж на свои деньги чуть не всю жизнь собирал…
– Ваш муж и так все знает – зачем ему книги, а народ жаждет просвещения…
В товарище Федорове, или Федулине, была искренность. Он искренне ненавидел нас, по его мнению, угнетателей народа. Малограмотный – искренне полагал, что «народ» жаждет прочитать Вячеслава Иванова и «Образы Италии» Муратова. Хуже, конечно, было то, что половина книг оказалась на французском языке. Комическое же состояло в Чеке: из Москвы жене удалось достать столь грозные бумаги, что ими МОЖНО было припугнуть каширского Сен-Жюста. К чести его, он не испугался.
– Хотя бы сам Карл Маркс пришел и потребовал – не отдам. Пускай расстреливают, наплевать.
Через несколько же дней потух, успокоился, и сдался на простое соображение: книги для меня орудия производства.
– Орудия производства мы обобществляем, – хмуро сказал было сначала.
– Да, в капитализме. Но я кустарь-самоучка.
На самоучку возражать не пришлось. Народ моими книгами не просветился.
Слух же о том, что «молодой барин» может раздобыть такой мандат, по которому и книги возвращают, в деревню проник. Это укрепляло наше положение. Жили мы с крестьянами отлично, все-таки не вредно было иной раз показать свое могущество.
В начале революции Кускова и Осоргин издавали в Москве кооперативную газету – очень приличную. Я там кое-что печатал. Писали иногда и обо мне. И вот раз, во флигеле, жена показала некоей собирательной Анютке номер газеты.
– Ну, видишь это, чье тут имя? Анютка по складам прочла.
– Бариново.
– А тут?
Та не без трепета разобрала: При-ты-ки-но. Жена сложила газету.
– А дальше сказано, что если барина хоть пальцем тронут, так деревню артиллерией снесут …, понятно?
В тот же вечер вся деревня это знала – артиллерия Кусковой и Осоргина выступила на мою защиту.
***
К осени 20-го года выяснилось, что семян для озимого у нас мало. Еще мать могла кое-что посеять, на деревне же у крестьян почти все было съедено (то есть остатки реквизиций и разверсток). Жуткая вещь – очутиться без семян! Сограждане мои забеспокоились. Да и нам приходилось туго.
И тогда пришла мне странная (но к революции подходящая) мысль: спуститься прямо в пасть львиную, что-нибудь оттуда выудить. Съездить в Москву, добыть семян у того самого «правительства», которое нас обирало.
Нерадостно вспоминаешь поездки того времени: тряску в телеге, мытарства с разрешениями, билетами, забитые толпой вокзалы, запакощенные вагоны. Только осенние поля наши, крестцы овсов, запах мякины, конопли в деревнях, теплый дымок над трубами, спутанные лошади в ложочке – вечный пейзаж России – всегда прекрасны. В Кашире пришлось прожить целый день. Мы останавливались у знакомой дамы-железнодорожницы. Привозили ей ковриги хлеба, а она выхлопатывала билеты. От скуки забрели на митинг – в это время воевали с Польшей. Попали как раз на речь приятеля нашего библиотечного. Он громил с эстрады, перед сотней слушателей Польшу. От волнения побледнел, задыхался, грозил кулаком – но «панская Польша» ему не давалась, все он кричал: – Товарищи, покажем империалистам польской панши… – Или: – Польская панша, вооруженная до зубов…
Слушатели равнодушно принимали паншу – может быть, даже больше так нравилось, – за Окой видны были синеющие леса, августовское солнце бледнело, и тощи казались деревца, запыленные в садике. Русь, Кашира! Пусть Дворянская называется улицей Карла Маркса, но такая ж скакучая мостовая на ней, такие ж булыжники, пыль, запах дегтя, заборы, и так же милы сады каширские – много-яблочные, много-вишенные, над ними звонят колокола белых церквей.
Тяжким, ночным путем добрались до Москвы.
Через несколько дней удалось побывать и у Каменева. Он дал записку к комиссару земледелия. Тот и должен был все сделать.
Комиссар Середа помещался со своим учреждением на Пречистенском бульваре, в доме Управления Уделов. Ясным утром осенним подходил я, не без волнения, к этим Уделам: некогда гостил тут Тургенев, здесь читал друзьям «Дворянское гнездо», а теперь вот приходится подыматься по лестнице, в чем-то убеждать, чего-то просить у какого-то Середы… Ничего не поделаешь: голод есть голод.
И не сразу, конечно, дался Середа. Плотненькая, но приветливая барышня, секретарша, потомила – однако каменевское имя имело вес. Провели в угловой, огромный кабинет, весь залитый солнцем. Над большим столом увидал я черную народническую бороду (наверно, в этой комнате – лучшей – и жил Тургенев!).
Думаю, Середа был не большевицкой закваски, а эсеровской и обще-интеллигентской: что-то человеческое, более мягкое, в нем чувствовалось. Над столом он сгибался, как сотрудник «Русских ведомостей», тяготел к общине, летом, наверно, ходил в калошах. Бороду утюжил под Михайловского.
Я ему передал прошение наших крестьян, подтвердил, что положение вправду тяжелое, рассказал об общине – одним словом, получился разговор двух народолюбцев семидесятых годов. Середа успел разгладить, вновь завертеть свою бороду, опять разутюжить ее – и признал, что без семян сеять трудно.
Опять секретарша, машинки, печати – и через день, по всем правилам, предписание складу: выдать гражданам сельца Притыкина столько-то пудов семян озимой пшеницы.
Успех настолько удивительный, что за него простишь и Тургенева, и дом Уделов.
***
«Мандат» мой пpoизвел в деревне впечатление огромное.
Крестьяне, в осторожности своей и вековечной подозрительности, не очень-то сначала и поверили (все Дуньки и Анютки мигом перекинули победу из нашей кухни на деревню). Но на сходке я документ показал. Его ощупали, обнюхали, осмотрели: все в порядке!
Надо было решиться на одно: обозом двинуться в Москву, оттуда привезти семян – таково условие подарка. Начались разногласия. Мудрецы утверждали – что-нибудь тут да не так. Почему это ни с того ни с сего двести пудов пшеницы? И без возврата? На это ответили: а как же книги вернули? Он, барин-то, ты не смотри, что у себя во хригеле все книжки читает. Он свой интерес понимает: у бабушки (так называли мою мать) семянов тоже нет, он и хлопочет. Взяло верх мнение, что ехать надо. Мы считались «гражданами сельца Притыкина», и от нашего двора выехал гражданин Климка, наш работник, знаменитый святою своей дуростью. Баба Авдотья голосила, что у ней нет лошади и подводы, «а семенов-то и на моих дармоедов, на моих праликов надо» (у ней были дети) – ей решили уделить сообща. После долгих сборов, споров, проволочек – обоз, наконец, тронулся. До Москвы сто тридцать верст, осень сухая, дней в пять-шесть обернутся…
Не без волнения ждали мы их. Мандат мандатом, но ведь Бог их знает, комиссаров.
На седьмой день Климка въехал на серой кобыле во двор – с нагруженным, укрытым брезентом возом.
– Что ж, хорошо в Москву съездил?
Климка был человек сумрачный, неразговорчивый. Да и слова не особенно гладко из него шли.
– Москва-то тебе понравилась?
– Понравилась… понравилась. Я тебе семянов привез… а ты… понравилась.
«С е м я н о в» привез не один Климка – вся деревня.
– Даже замечательной пшеницы дали, – рассказывал на другой день Федор Степаныч, наш приятель и «комиссар деревни», неглупый, бойкий человек, из бывших приказчиков. Он немного кашлял, шея у него замотана шарфом.
– Так что, знаешь-понимаешь, не задаром в Москву съездили… И мужики премного вам благодарны.
Началась моя слава. Слава вообще связана с ужасом, особенно в «народных массах». Некоторый тихий ужас возник и вокруг моего «хригеля». Если возвращают книги, дают семена; если Кускова с Осоргиным угрожают артиллерией, значит же… И в те дни случалось, что в дверь ко мне раздавался стук. Отворял ее робкий посетитель откуда-нибудь из Мокрого, Оленькова, даже с Мордвеса.
– Значит, как мы слыхали, что вы очень до семянов ходовиты, то селение наше и кланяется, а насчет чего прочего мы завсегда поблагодарим…
Выходило что-то из «Ревизора». Бобчинский с Добчинским не являлись, но плакалась и баба, и вообще, будь у меня характер Хлестакова, я мог бы процвесть.
Но Судьба не так долго держала меня на подмостках. Пшеницу посеяли. Кто подоверчивей – всю. Мудрецы (в том числе Федор Степаныч), смололи ее и пустили на пищу, а посеяли из остатков урожая – хотя зерном пшеница была превосходная: с Северного Кавказа.
Она взошла удивительно. На вечерних прогулках нередко я любовался ее мощной густой изумрудной зеленью. Стебелек к стебельку, как под щетку. Уже грач мог почти прятаться в ней, когда начались заморозки. Утром зеленя стояли седые – спутанные лошади, которые паслись на них – оставляли темно-зеленые следы и борозды.
И к удивлению моему… стал я замечать, что днем всходы не так изумрудны. Они бледнели, с каждым днем прибавлялись погибшие стебельки.
Через несколько дней с нашей же кухни пришло известие: пшеница вся вымерзла. Середа подкузьмил – вместо озимой дал яровую.
***
– Куда же вы смотрели, когда брали? – спрашивал я Федора Степаныча.
– Оно, действительно, вышло ошибочно, но на глаз она что озимая, что яровая, одинаково оказывает, никак не разберешь, да и начальство спутало… Я не могу и тут жаловаться: слава моя уходила под горизонт, наподобие солнца: медленно и непоправимо, но лояльно. Меня никто не укорял. Но в дверь больше не стучали, ходоков не присылали, и вокруг меня устанавливалась прохладная пустота.
Впрочем, это были последние вообще мои месяцы деревенские: с падением Перекопа и мы отступили на Москву.
ПАСТЬ ЛЬВИНА
Памяти недавно скончавшегося Я.Л.Г.
Всякому, кто Москву знает, ясно, что за Никитским бульваром, почти параллельно ему, идет Мерзляковский переулок (прямо к «Праге»), а около него ютятся разные Скатертные, Хлебные, Столовые и другие симпатично-хозяйственные: барская, интеллигентская Москва, Скатертный д.№ 8, в нижнем этаже, помещалось писательское содружество – «Книгоиздательство писателей». На началах артельных выпускали там альманахи и собственные сочинения Бунин, Шмелев, Вересаев, Телешов, Алексей Толстой, Сургучев, я, другие. Управлял делами некий Клестов. Предприятие было поставлено основательно. Книги авторов прочных, альманахи отлично шли, писатели зарабатывали.
Войну книгоиздательство выдержало, даже преуспело. В революцию произошла такая вещь, что Клестов отошел к большевикам, Бунин, Толстой, позже Шмелев, уехали. Остались книжные склады, Вересаев, Телешов да я. Клестов издали, но по старому знакомству покровительствовал. Власти не закрывали – частью недоглядели, да и Вересаева настоящая фамилия Смидович. Значит, большая рука в правительстве.
Мы кое-что продолжали печатать, кое-как держались. Благодаря различным комбинациям дипломатическим, в 21-м году председателем оказался я: выбрали оставшиеся пайщики.
***
Вместо Клестова хозяйством заведовал теперь секретарь, старичок Яков Лукич. Прежде он служил бухгалтером в лабазе на Ильинке – худенький, носил очки, сгорбленный, несколько напоминал Ключевского. Имел какое-то отношение к старообрядцам – работник был замечательный и человек дотошный. К нам относился сочувственно, но слегка покровительственно, как к людям книжным, не практическим. Я покорно подписывал разные бумажки, какие он мне подавал, а он посматривал на меня иногда, строго, маленькими глазками, из-под очков. Я немного смущался. Что понимаю я в его бухгалтериях? Того и гляди, поставит «неполный балл», как некогда инспектор в гимназии.
Раз, в начале апреля, захожу в издательство. Яков Лукич расстроен – сразу видно.
– У нас маленько затрудненьице-с…
– Что такое?
– Выселяют. Что, мол, за писатели такие, вы больше контрреволюционеры, да и то ни черта не издаете. А мы коминтерн. И квартиру вашу заберем, и типографию.
Невесело, Яков Лукич.
– До веселья даже весьма далеко.
– М-м… что же мы будем делать?
Яков Лукич призадумался.
– Что ж тут поделаешь… Аки в пасть львину махнем. На двенадцатое число – изволите видеть? – он показал бумажку, назначено заседание в Московском совете. Коминтерн выступит. Ну и мы… тово, не должны бы лицом в грязь ударить. Мы же кооперация, не забудьте! Трудовое товарищество, и зарегистрированы, и книжечки издаем, работаем…
– Отлично. Вы с Викентием Викентьевичем и займетесь… Яков Лукич ухмыльнулся не без яду.
– Нет-с уж, какой там Викентий Викентьевич. В бумажке прямо сказано: объяснения должен дать председатель Правления.
– Да ведь у Викентия Викентьича брат в совете…
– Мало бы что. Сказано – председатель, они иначе и разговаривать не станут… Да ведь и вы с товарищем Каменевым знакомы-с? Чего же проще.
Правление наше вполне подтвердило взгляд Якова Лукича: идти мне, а секретаря взять с собой – для справок, отчетности и тому подобного.
У Подколесина было окно, куда выскочить. Мне – куда же? Значит, надо идти.
***
Апрельский мягкий день. Лужи, почки на тополях, нежная московская дымка над полу-замученным городом.
Дворец генерал-губернатора. Стучат машинки, входят и выходят товарищи, аккуратные барышни бегают. У входа два красноармейца.
– Я вчера у св. Андрея Неокесарийского в толковании к Апокалипсису читал-с… да, я теперь знаю уж точно… насчет коминтерна-с.
Яков Лукич, в потертом пальто, сильно закутав платком шею, в огромных калошах, входил со мной в вестибюль. Мрачный у него был вид. Хорошо бы закрестить всю эту дьявольскую чепуху.
Мы подали кому следует свою бумажку, сколько надо ждали, потом нас попросили в зал заседаний. Узкая комната с окном на площадь. Длинный стол, в центре Каменев, по бокам «товарищи», больше молодежь.
– Ваше дело теперь скоро, – шепнула барышня. – Можете здесь побыть.
Каменев сидел несколько развалясь, побалтывая под столом ногой. Ботинок снят, очевидно натер. Он – председатель совета, а тут заседание президиума. «В самое ихнее пекло и попали-с…» – шепнул Яков Лукич. И стал разбирать свои бумажки. (Там у него подробно, тщательно было разрисовано, какие мы когда выпускали книги, в каком количестве, как работала типография, и т. п.)
Нельзя, впрочем, сказать, чтобы по виду пекло было страшное.
Каменев кивнул почти любезно, «разбойнички» имели тоже веселый вид – слесаря, вроде приказчиков, булочники, некоторые с залихватскими вихрами. Во френчах, кожаных куртках. Тоже поглядывали на нас с любопытством. «Про Короленку, Владимира Галактионовича, не забудьте, про Короленку, – шептал Яков Лукич. – Что, мол, такого знаменитого писателя тоже издаем. Они его уважают. И Кропоткина… Гаршина, обязательно надо…» – «Яков Лукич, а как бы это не наврать, какой у нас с первого-то января баланс?» Яков Лукич не без раздражения тычет ведомость с колонкой цифр – все это я приблизительно знаю, да вдруг собьешься перед коминтерном. – «Я уж ведь вам показывал-с… А ежели, извините, собьетесь, – только уж не уменьшайте…»
Нельзя отрицать, симпатичные молодцы действовали решительно. До нас были дела тоже мелкие, хозяйственные по Москве. Отпуск дров районному совету, ремонт казарм, довольствие пожарным москворецкой части. Долго не разговаривали. Раз, два – готово. По правде сказать, темп и решительность даже понравились мне.
Наконец:
– Дело книгоиздательства писателей и коминтерна… Кто присутствует? А, председатель, так. Сядьте сюда. Коминтерн? Товарищ Герцберг… Слушаем. Товарищ изложите свою претензию.
Товарищ Герцберг оказалась сытенькая, стриженая барышня еврейского вида. У нее тоже была какая-то папка, она разложила ее. Я сел рядом, справа Яков Лукич. «Про Толстого-то, Толстого не забудьте, – побледнев, зашептал Яков Лукич. – Он хоть Алексей, а для них вполне за Льва сойдет».
О, если бы слышала это товарищ Герцберг! Но она поводила плечами в кожаной незастегнутой куртке, напирала грудями на свою папку и сразу пошла галопом.
– Товарищи, так называемое Книгоиздательство писателей в прежнее время издавало реакционную литературу, но вот уже два года находится в полном интеллигентском параличе…
То ли слишком велик был ее азарт, то ли она не подготовилась, но ничего лучшего для нас и представить себе нельзя было. Она утверждала, что мы существуем лишь на бумаге, книг не издаем, квартира пустует, типография не работает… – в то время, как бедный коминтерн теснится, жмется в каких-то углах, у него нет ни помещений, ни достаточного количества типографских машин.
Говорила быстро, по-одесски. Все знает, все понимает товарищ Герцберг. Даже удивлена, что ей, представительнице могучей организации, приходится доказывать… (таков был тон).
Всякое собрание есть театр. На каждом представлении родится атмосфера, спасающая пьесу или ее губящая. Не ту ноту взяла товарищ Герцберг – и сразу это почувствовалось.
Каменев холодно разрисовывает круги.
Пугачевцы недовольны. Что-то говорят друг другу вполголоса. Неприязненно улыбаются. (Позже мы узнали, что у Московского совета именно тогда и были нелады с коминтерном.)
– Товарищ, кратче, – сухо сказал Каменев.
Она рассердилась и стала еще красноречивей.
– Хорошо, все ясно. Представитель другой стороны.
Не нужно было быть ни Маклаковым, ни Плевакой, чтобы по шпаргалке прочитать, сколько книг, и на какую сумму издали мы в этом году. (При имени Кропоткин, Толстой, – победоносные усмешки на лицах слесарей.) На следуюший месяц предположен Короленко – избранные сочинения… Типография работает. В квартире издательства телефон и постоянные часы приема.
Коминтерн нервно попросил слова. Опять митинговая речь. «Гаршина-то, Гаршина позабыли…» – шептал сбоку Яков Лукич тем тоном, как некогда, в молодости, говорил мне объездчик Филипп на охоте: «Эх, барин, опять черныша смазали!» Но теперь сам коминтерн на нас работал.
Каменев, наконец, вмешался.
– Все это, товарищ, известно. Вы повторяетесь. Мы теряем время.
– Довольно, довольно, – раздалось кругом.
Каменев предложил высказаться президиуму. Сказано было всего несколько слов. Трудовое товарищество работает, – и пусть работает. Издает великих писателей, как Толстой. Мешать не надо.
Товарищ Герцберг, не спросясь, перебила говорившего, вновь громя нас. Каменев рассердился.
– Товарищ я лишаю вас слова. Мнение президиума? Да.
Так. Постановлено: коминтерну отказать. Секретарь, следующее там что у вас?
***
Через полчаса мы сидели уж в Скатертном. Мимо окон проходили прохожие. Закат сиял за Молчановками, Поварскими. Недалеко особняк Муромцевых. Недалеко дом Элькина, где когда-то мы жили. Мирная, другая Москва.
– Что ж, Яков Лукич, пасть львина уж не так страшна?
Победили мы с вами коминтерн – два таких воеводы? – Изумляюсь, поистине…
Он встал и отворил шкафчик.
– Тут у меня на лимонной корочке настойка есть, то и следовало бы по случаю поражения иноплеменных чокнуться.
Нашлись две рюмки. И мы чокнулись.
– Разоряют Москву, стервецы-с, – сказал вдруг грустно Яков Лукич. – До всего добраться хотят, это что-с, квартира наша, типография. Пустяки. Подробность. Они глубже метят. Им бы до святыни дорваться..
Он помолчал.
– А что мы с вами так фуксом выскочили, это действительно…
– И то слава Богy, Яков Лукич. Я не надеялся.
Он вдруг засмеялся тихим смехом, погладил стол, кресло. – Все теперь опять наше… И квартира, и типография. А как вы скажете, ежели по второй?
Выпив, Яков Лукич поднялся. Невысокий, сгорбленный, показался он мне дальним потомком дьяков московских, родственником Ключевского. Трепаная бороденка – не то хвост лошадиный, не то редкие кустарники по вырубкам.
– У св. Андрея Неокесарийского про этот самый коминтерн весьма даже ясно сказано.
И, трижды показав дулю невидимому врагу, обернулся ко мне. Что-то строгое мелькнуло в умных его глазках.
– А Гаршина вы все-таки изволили позабыть.
ПОБЕЖДЕННЫЙ
Я встретил Блока в первый раз весною 1907 года, в Петербурге, на собрании «Шиповника». Он мне понравился. Высокий лоб, слегка вьющиеся волосы, прозрачные, холодноватые глаза и общий облик – юноши, пажа, поэта – все показалось хорошо. Носил он низкие отложные воротнички, шею показывал открыто – и это шло ему. Стихи читал как полагалось по тем временам, но со своим оттенком, чуть гнусавя и от слушающих себя отделяя – холодком. Сам же себя туманил, как бы хмелел.
В те годы Блок переходил от «Прекрасной Дамы» к «Незнакомке». То, первое, весеннее от него впечатление более связалось с ранней его настроенностью (именно с настроением души, а как художник он вполне уж отходил от «первоначальной» своей манеры).
Июль 1908 года мне пришлось жить у Г. И. Чулкова, на Малой Невке. Осталась память о воде, прохладе, влажном Петербурге, запахах смоленых барж, рыбы, канатов. О взморье, о ночах туманно-полу-светлых, о блужданьях – и о Блоке. Не глубокое воспоминание, и не скажу, чтобы значительное. Все-таки осталось. Блок заходил к нам, мы бывали у него. Его образ, ощущение его в то лето отвечали кабачкам, где мы слонялись, бледным звездам петербургским, бродячей, нервно-возбужденной жизни, полу-искусственному-полу-естественному дурману, в котором полагалось тогда жить «порядочному» петербургскому писателю.
Помнится, у Блока резче обозначились уже черты, вес в них прибавился, огрубел цвет лица. Уходил юноша, являлся «совсем взрослый». В этом взрослом что-то колобродило. Каким-то ветром все его шатало, он даже ходил, как бы покачиваясь. И на сердце невесело – такое впечатление производил. Мы ездили в ландо на острова, в ночные рестораны, по ночным мостам с голубевшими шарами электрическими, с мягким, сырым ветром.
Много и довольно бестолково пили, рассуждали, разумеется, превыспренно, особых незнакомок, впрочем, не встречали. Блок был довольно хмур, что-то утомленное, несвежее в нем ощущалось. Он нездоро́во жил, теперь-то это ясно, а тогда мы мало понимали.
От вина лицо его приняло медный оттенок, шея хорошо белела в отложных воротничках, глаза покраснели, потускнели. Но стеклянность взгляда их даже и возросла. Странные вообще были у него глаза.
В эти годы и последующие Блок написал книги, глубоко вошедшие в нашу поэзию. Из них особенно пронзающей казалась мне «Снежная маска». Ее отчаянье заражало. Сильный, почти трубный звук был в ней. «Прекрасная Дама» рухнула, вместо нее метели (сильно Блоком, как и Белым, почувствованные), хаос, подозрительные незнакомки – искаженный отблеск прежнего, Беатриче у кабацкой стойки. Спокойным это не могло быть. Рыдательность, хотя и сдержанная (Блоку не шел бурный экстаз), все проникала – и большая искренность. Блок никогда не писал для «стихописанья». Формальное никогда его не занимало. У него не было особой выработки, «достижения» его не весьма велики. Стихом хмельным, сомнамбулическим записывал он внутренний свой путь. Его судьба – в его стихах. А так как выражал он и судьбу некоей полосы русской жизни, то он идет в числе немногих «обязательных» в нашем веке.
В предвоенные и предреволюционные годы Блока властвовали смутные миазмы, духота, танго, тоска, соблазны, раздражительность нервов и «короткое дыханье». Немезида надвигалась, а слепые ничего не знали твердо, чуяли беду, но руля не было. У нас существовал слой очень утонченный, культура привлекательно-нездоровая, выразителем молодой части ее – поэтов и прозаиков, художников, актеров и актрис, интеллигентных и «нервических» девиц, богемы и полу-богемы, всех «Бродячих Собак» и театральных студий был Александр Блок. Он находил отклик. К среде отлично шел тонкий тлен его поэзии, ее бесплодность и разымчивость, негероичность. Блоку нужно было бы свежего воздуха, внутреннего укрепления, здоровья (духа).
Откуда бы это взялось в то время? Печаль и опасность для самого Блока мало кто понимал, а на приманку шли охотно – был он как бы крысоловом, распевавшим на чудесной дудочке – над болотом.
***
16 августa 1912 года, свежим утром, на Мясницкой у Эйнем, я встретил Блока – и запомнил встречу потому, что это был день важного события в моей семье – рождение нашей дочери. Радостно было встретить именно тогда Блока московского, спокойного, приветливого, дружески поздравившего и приславшего жене моей цветы и свои книги с очень ласковой надписью. Эти книги долго странствовали с нами, в разнообразных положениях страшной эпохи, – теперь развеяны по ветру.
А сам Блок надолго тогда ушел из поля зрения. Я жил в Москве, он в Петербурге – там и вел то сражение, которое есть земной наш путь. Ударила война. Он на нее как будто бы не отозвался (общее тогда явление в России). За нею революция, конец всего того и зыбкого и промежуточно-изящно-романтического, что и был наш склад душевный. Блок стал уж признанной звездой литературы. За это время написал «Розу и Крест» – одно из самых тонких и возвышенных своих произведений, с удивительною песнью Гаэтана. Пьеса – в очень разреженном воздухе. Печаль ее неразрешима.
Затем, уже в революцию, шел «Соловьиный сад» – прощанье с прежним – наконец, «Двенадцать».
Ясно помню вечер, в одном литературном доме, когда подали мне серый лист газеты.
– Вот, смотрите, что Блок написал.
Фельетоном была напечатана поэма. Блок на сером и унылом листе газеты. Но Блок иной. «Прекрасной Даме», «Розе и Кресту» шла готика. «Двенадцать» – другой мир, уже клубившийся вокруг нас – шинелей, и винтовок, и махорки, и мешочников, и крови. Ну, что же, взять его, не побояться, дать грозную его поэзию, возвести к высшему, разрешить… чем не задача?
Я принялся читать. А позже – возвращался домой снежной, бурной ночью. Трамваев не было уже. Кой-где постреливали и, нередко, грабили. К обычному в те дни свинцу на сердце Блок подвесил гирьку новую своей поэмой.
***
«Наш, наш!» – завопили одни, и кровавыми объятиями стали «обымать». – Блок с нами, вон он как попа продернул, и буржуя, и длинноволосого интеллигента… Ну, понятно, у самого пережитки… в белом венчике из роз, впереди Исус Христос… старый словарь… Но это первые шаги, а там он разработается.
Другие отходили – некоторые резко, иные с грустью. – Блок стал большевиком! Такой поэт… и с ними!
Ни те, ни другие сполна правы не были, а основания имели.
Действительно, двусмысленна поэма.
Появление Христа, ведущего своих двенадцать апостолов-убийц, Христа не только «в белом венчике из роз», но и с «кровавым флагом» – есть некоторое «да». Можно так рассуждать: идут двенадцать разрушителей старого (и грешного), тоже грешные, в крови, загаженные. Все же их ведет – хоть и слепых – какой-то дух истины. Сами-то они погибнут, но погибнут за великое дело, за освобождение «малых сих» – и Христос это благословляет. Он простит им кровь и убийства, как простил разбойника на кресте. Поэтому им «да», и «да» – их делу. Чем не мысль? И чем не тема для поэмы? А пожалуй, даже и мистерии? Какое грандиозное разрешение?! Сам Христос, за мир свою кровь изливший, сам омоет прегрешения?!
Все это хорошо, но Блок такой поэмы не написал. Быть может, он хотел бы написать, – не смог.
Он написал не поэму разрешения, а духоты. В «Двенадцати» нет воздуха, ни света, и ни пафоса, ни искупления. Живое гибнет в ней, как в «Снежной маске» (но еще сильней) – ибо нет духа животворящего. «Скучно!» – так кончается восьмая главка. Как не быть скучно в атмосфере смерти?
«И сказал Иисусу: помяни мя, Господи, егда приидеши во царствие Твое!»
«Сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю».
Это Священное Писание. Но Достоевский не – священный, просто писатель, и у него «убийца и блудница» читают вместе Евангелие, – только Евангелие – никакого Христа олеографического нет – и это трогает, и очищает. У Блока же все вышло мертво. В одном лишь «Петьке», застрелившем сдуру «Катьку», что-то шевельнулось – и заглохло. Разве дадут «этому» процвесть «апостолы»?
Не такое нынче время,
Чтобы няньчиться с тобой!
А раз Блок написал такую «скушную», «безвоздушную» и безнадежную революцию, то на что он, в сущности, революционерам? Разве может его поэма кого-нибудь воодушевить? Нет, ибо в ней нет духа. Потому-то она и двусмысленна, потому-то более умные из «тех» должны вполне от нее открещиваться, она полна того маразма, нигилизма, с каким вообще ничего сделать нельзя, – даже человека убить.
Мертва духовно, и проникнута поэзией, вот удивительно! В «Двенадцати» есть поэзия, всегдашний блоковский хмель, и тоска, и дикая Русь, и мрак. И еще удивительно: «Двенадцать» менее всего «произведение искусства». Это явление, происшествие. Показание на некотором суде. Блок тут себя предъявил. И можно понимать поэму как порыв в борьбе, отчаянную контратаку в жизненном сражении – на давно наседавшего врага.
– Любви, любви! И разрешения! И воздуха!
Вот чего надо было Блоку. Надо было что-нибудь да полюбить, на чем-нибудь да утвердиться. Прекрасной Дамы давно нет, черти слопали ее, и даже Незнакомки нет, все это прежнее, «Соловьиный сад», а трудно жить ведь без чего-то «по ту сторону», да еще такому поэту – Блоку. И вот явилось «человечество», и «революция». Отдаться бы им!
Как будто бы отдаться. Как будто бы почувствовал трагедию полюбленного, и мелькнуло разрешение. Писал в подъеме очень сильном (поэтическом подъеме), звуки, слова, ритмы… из-под ног же земля уходила. Опереться не на что. «Музыка революции» дана, а разрешение…
Дело простое.
Чтобы Христос действительно сошел, чтобы действительно была оправдана, возведена трагедия, нужно, чтобы Блок действительно полюбил и революцию, и Христа. Этого не было. Христос мелькнул ему, призрачный и туманный, потому что зова настоящего в нем не было – исчез. Мелькнуло и видение революции, как ложная незнакомка.
И получилось то двусмысленное, путаное, мрачное, немалое и жуткое, поэзия и смерть, где имя Христа всуе помянуто, и что есть – «Двенадцать».
***
Вначале Блок читал свою поэму часто. Время шло. Революция двигалась, а он стоял на одном месте, после «Двенадцати» умолк. С некоторых пор и перестал читать эту вещь. Раз, на вопрос о Христе, ответил: – у меня Христос компилятивный.
Что этим хотел сказать, не очень ясно. Вряд ли ответил бы так тот, кто Христа живого чувствует.
Весной 1920 года приезжал Блок в Москву. Под аккомпанемент взрывов на артиллерийских складах он читал стихи в Политехническом музее. Но «Двенадцать» не прочел. Был очень мрачен, на вопрос моей жены ответил:







