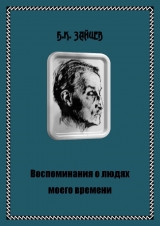
Текст книги "Воспоминания о людях моего времени"
Автор книги: Борис Зайцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Спираль долго еще выносила Россию на простор – море детских и юношеских гробов, море концлагерей, сотни тысяч погибших, раскулаченных… но мы с Белым в тот вечер искренне думали, что вот уже кончается Голгофа: наверно, потому, что хотелось и этого. Спираль же украшала желание.
***
В 1921 году отъезд Белого за границу, прощальный вечер у нас в Союзе писателей на Тверском бульваре, в Доме Герцена. Некая нелепость ранней полосы революции: правительство дало нам особняк, мы устроились там довольно основательно, коммунистов же в Союз никаких не принимали. Ни одного коммуниста у нас не было.
В напутственном слове Белому можно было еще сказать: – Дорогой Борис Николаевич, передайте эмиграции, что литература в России жива…
Много прошло лет, а и сейчас чувствую, как спазма сдавила мне горло, надо было сделать усилие над собой, чтобы докончить: – И никогда… никому… ни за что не уступит своей свободы. Говорил я от лица Союза как его председатель. Белый сидел за столом напротив меня – в зале стало мертвенно тихо. Прекрасные его глаза расширились, весь он напрягался, что-то пролетело, метнулось, будто живая птицеобразная душа без слов сказалась. А потом он вскочил.
– Да, скажу, скажу…
В тy минутy, быть может, так и думал. Но сомнения нет, что, сев в вагон, все сразу же и забыл.
Через год встретились мы уже в Берлине, для нас в «новой жизни», для него это был эпизод: скоро возвратился он в Россию.
Берлинская его жизнь оказалась вполне неудачной. Берлин как бы огрубил его. По всему облику Белого прошло именно серое, берлински-будничное, от колбасников и пивнушек, где стал он завсегдатаем. Лысинка разрослась, руно волос по вискам поседело и поредело, к концу он несколько и обрюзг, от эмалевой бирюзы арбатских глаз, глаз его молодости, мало что сохранилось. Они сильно выцвели, да и выражение стало иное. Он походил теперь на незадачливого, выпивающего – не то изобретателя, не то профессора без кафедры. Характер сделался еще труднее. С одной стороны – был он антропософом, и в этом направлении даже переделал (очень неудачно) свои прежние стихи, вышедшие в Берлине, строил даже в Дорнахе антропософский храм, Гетеанум. Потом вдруг накинулся на Рудольфа Штейнера с яростью:
– Я его разоблачу! Я его выведу на свежую воду!
И вот из Берлина, являвшегося ему обликом мучительной пустоты, решил опять бежать в Россию. (И опять я согласен со Степуном: что он любил, собственно? Россия для него такой же призрак, как и все вообще.)
Его пустили.
На прощанье жена моя повесила ему на грудь образок Богоматери и сказала:
– Не снимай, Борис. И помни: будешь в Москве, поклонись ей, и Родине нашей поклонись. И не вешай на нас, на эмиграцию, всех собак!
Он помахивал лысо-седой головой, бормотал:
– Да, я поклонюсь. Да, Вера, я не буду вешать на вас собак! Я уважаю берлинских друзей. Даже люблю их. Я буду держать себя прилично.
Он уехал в Россию в плохом виде, в настроении тягостном. Не знаю точно, что говорил там об эмиграции, о «берлинских друзьях» (с одним из которых, Ходасевичем, успел поссориться еще в Берлине, на прощальном обеде в русском ресторане). Кажется, говорил, что полагается. Обвинять его за это тоже нельзя. Есть, пить надо. И в концлагерь мало кому хочется.
Но в России революционной все же не преуспел. Видимо, оказался слишком диковинным и монструозным.
Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел…
Да, в Крыму, в Коктебеле. Жарился на солнце, настиг его солнечный удар.
И лишь в самое последнее время дошла до меня весть, что на пораженном «солнечными стрелами» нашли тот образок, который Вера повесила ему на грудь в Берлине.
Богоматерь как бы не покинула его – горестного, мятущегося, всю жизнь искавшего пристани.
БАЛЬМОНТ
В поэзии серебряного века место Бальмонта немалое, вернее – большое. Я не собираюсь давать здесь облик его литературный. Всего несколько беглых черточек из далеких времен его молодости, расцвета.
***
1902 год. В Москве только что основался Литературный кружок – клуб писателей, поэтов, журналистов. Помещение довольно скромное, в Козицком переулке, близ Тверской. (Позже – роскошный особняк Востряковых, на Большой Дмитровке.)
В то время во главе кружка находился доктор Баженов, известный в Москве врач, эстет, отчасти сноб, любитель литеpатуры. Немолодой, но тяготел к искусству «новому», тогда только что появившемуся (веянье Запада: символизм, «декадентство», импрессионизм. Появились на горизонте и Уайльд, Метерлинк, Ибсен. Из своих – Бальмонт, Брюсов.
Первая встреча с Бальмонтом именно в этом кружке. Он читал об Уайльде. Слегка рыжеватый, с живыми быстрыми глазами, высоко поднятой головой, высокие прямые воротнички (de I'epoque), бородка клинушком, вид боевой. (Портрет Серова отлично его передает.) Нечто задорное, готовое всегда вскипеть, ответить резкостью или восторженно. Если с птицами сравнивать, то это великолепный шантеклэр, приветствующий день, свет, жизнь. («Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…»)
Читал он об Уайльде живо, даже страстно, несколько вызывающе: над высокими воротничками высокомерно возносил голову; попробуй противоречить мне!
В зале было два слоя: молодые и старые («обыватели», как мы их называли). Молодые сочувствовали, зубные врачи, пожилые дамы и учителя гимназий не одобряли. Но ничего бурного не произошло. «Мы», литературная богема того времени, аплодировали, противники шипели. Молодая дама с лицом лисички, стройная и высокая, с красавицей своей подругой, яростно одобряли, я, конечно, тоже. Юноша с коком на лбу, спускавшимся до бровей, вскочил на эстраду и крикнул оттуда нечто за Уайльда. Бальмонт вскипал, противникам возражал надменно, остро и метко, друзьям приветливо кланялся. Тут мы и познакомились. И оказалось, что по Москве почти соседи: мы с женой жили в Спасо-Песковском вблизи Арбата, Бальмонт в Толстовском переулке, под прямым углом к нашему Спасо-Песковскому. Совсем близко.
Это было время начинавшейся славы Бальмонта. Первые его книжки стихов «В безбрежности», «Тишина», «Под северным небом» были еще меланхолической «пробой пера». Но «Будем как солнце», «Только любовь» – Бальмонт в цвете силы. Жил он тогда еще вместе с женою своей, Екатериной Алексеевной, женщиной изящной, прохладной и благородной, высококультурной и не без властности. Их квартира в четвертом этаже дома в Толстовском была делом рук Екатерины Алексеевны, как и образ жизни их тоже во многом ею направлялся. Бальмонт при всей разбросанности своей, бурности и склонности к эксцессам, находился еще в верных, любящих и здоровых руках и дома вел жизнь даже просто трудовую: кроме собственных стихов, много переводил – Шелли, Эдгара По. По утрам упорно сидел за письменным столом. Вечерами иногда сбегал и пропадал где-то с литературными своими друзьями из «Весов» (модернистский журнал тогдашний в Москве). Издатель его С. А. Поляков, переводчик Гамсуна, был богатый человек, мог хорошо угощать в «Метрополе» и других местах. (На бальмонтовском языке он назывался «нежный как мимоза Поляков».)
После нежного как мимоза Полякова Бальмонт возвращался домой не без нагрузки, случалось, и на заре. Но был еще сравнительно молод, по натуре очень здоров, крепок. И в своем Толстовском усердно засаживался за стихи, за Шелли.
В это время бывал уже у нас запросто. Ему нравилась, видимо, шумная и веселая молодежь, толпившаяся вокруг жены моей, нравилось, конечно, и то, что его особенно ценила женская половина (после «Будем как солнце» появился целый разряд барышень и юных дам «бальмонтисток» – разные Зиночки, Любы, Катеньки беспрестанно толклись у нас, восхищались Бальмонтом. Он, конечно, распускал паруса и блаженно плыл по ветру).
Из некоторых окон его квартиры видны были окна нашей, выходившие во двор.
Однажды, изогнув голову по-бальмонтовски, несколько ввысь и вбок, Бальмонт сказал жене моей:
– Вера, хотите, поэт придет к вам, минуя скучные земные тропы, прямо от себя, в комнату Бориса, по воздуху?
Он уже однажды, еще до Екатерины Алексеевны, попробовал такие «воздушные пути»: «вышел», после какой-то сердечной ссоры, прямо из окна. Как не раскроил себе черепа, неведомо, но ногу повредил серьезно и потом всю жизнь ходил, несколько припадая на нее. Но и это тотчас обратил в поэзию:
И семь воздушных ступеней
моих надежд не оправдали.
Слава Бoгy, в Толстовском не осуществил намерения. Продолжал заходить к нам скучными земными тропами, по тротуару своего переулка, сворачивал в наш Спасо-Песковский, мимо церкви.
Раз пришел в час завтрака и застал меня одного. Я был студентом, скромно ел суп с вареной говядиной, изготовленный верною Матрешей. Позвонили. Матреша кинулась отворять, потом вскочила ко мне в столовую, почесала пальцем в волосах, испуганно тряхнула огромной медной серьгой в ухе, сказала озабоченно:
– Вас спрашивают. Энтот рыжий, что у нас читает. Да сегодня строгий какой… Будто и не очень в себе они.
Бальмонт вошел, сразу заметно стало, что он не совсем «в себе». Вероятно, нынче не успел хорошенько отойти от угощений нежного как мимоза Полякова.
Был несколько и мрачен – Матреша права: «строг». Бальмонтисток никого не оказалось, вина тоже. Я налил ему тарелку супу с отличной говядиной.
– Где Вера? Люба Рыбакова?
Тон такой, будто я виноват в чем-то.
– Их нет.
– Вы один едите этот ничтожный суп?
– Суп неплохой, Константин Дмитриевич. Попробуйте. Матреша хорошо готовит.
Бальмонт сумрачно воткнул вилку в говядину, вынул кусок и стал водить им по скатерти. Нельзя сказать, чтобы жирные узоры украсили ее.
– Я хочу, чтобы вы читали мне вслух Верхарна. Надеюсь, у вас есть он?
Верхарн был тогда очень в моде. Бальмонт сказал внушительно. К счастью, под рукой как раз оказался томик стихов Верхарна. Если бы не было, возможно, он сказал бы мне колкость. («Поэт не думал, что в доме начинающего писателя нет моего бельгийского собрата…» – нечто в этом роде. Себя он нередко называл в третьем лице, как и все его поклонницы). Я начал читать – и читал очень плохо. Частью стеснялся, по молодости лет, главное же потому, что вообще мало знал французский язык – хотя Верхарна как раз читал.
Продолжая путешествие по скатерти, Бальмонт спросил:
– Вы понимаете то, что читаете? Мне кажется, что нет… Я все-таки протестовал. Понимать-то понимал, но читать вслух – другое дело.
Бальмонт недолго просидел у меня. Ушел явно недовольный.
***
Но бывал он и совсем другой. К нам заходил иногда пред вечером, тихий, даже грустный. Читал свои стихи. Несмотря на присутствие поклонниц, держался просто – никакого театра. Стихи его очень тогда до нас доходили. Память об этих недолгих посещениях, чтениях осталась вот как надолго – хорошее воспоминание: под знаком поэзии, иногда даже растроганности.
Помню, в один зеленовато-сиреневый вечер, вернее в сумерки, пришел он к нам в эту арбатскую квартиру в настроении особо лирическом. Вынул книжку – в боковом кармане у него всегда были запасные стихи.
Нас было трое, кроме него: жена моя, ее подруга Люба Рыбакова и я. Бальмонт окинул нас задумчивым взглядом, в нем не было никакого вызова, сказал негромко:
– Я прочту вам нечто из нового моего.
Что именно, какие стихотворения он читал – не помню.
Но отлично помню и даже сейчас чувствую то волнение поэтическое, которое и из него самого изливалось и из стихов его, и на юные души наши, как на светочувствительные пленки, ложилось трепетом. Кажется, это было из книги (еще не вышедшей тогда) «Только любовь».
На некоторых нежных и задумчивых строфах у него самого дрогнул голос, обычно смелый и даже надменный, ныне растроганный. Что говорить, у всех четверых глаза были влажны.
В конце он вдруг выпрямился, поднял голову и обычным бальмонтовским тоном заключил (из более ранней книги):
Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце,
А если Свет погас,
Я буду петь, я буду петь о Солнце
В предсмертный час.
***
Случалось и опять по-иному. Вот появляется он днем, часа в четыре, с Максом Волошиным (огромная шляпа, широченная лента на пенсне, бархатная куртка – только что приехал из Парижа. Полон самоновейшими поэтами французскими, посетитель кафе Closerir de Lilas и т. п.). Бальмонт в мажоре, как бы «заявляет», что будет читать стихи. У нас состав прежний – хозяева и неизменная красавица Люба Рыбакова («Милой Любе Рыбаковой, вечно юной, вечно новой…» – в альбом от Бальмонта).
На этот раз он победоносно-капризен и властен.
– Поэт желал бы читать свои произведения не в этой будничности, но среди рощ и пальм Таити или Полинезии. – Но откуда же нам взять рощи и пальмы, Бальмонт? Он осматривает нехитрую обстановку нашей столовой.
– Мечта поможет нам. За мной! – И подходит к большому, старому обеденному столу, – Макс, Вера, Люба, Борис, мы расположимся под кровлей этого ветерана, создадим еще лучшие, чем в действительности, пальмы. И он ловко нырнул под стол. Волошину было трудно, он и тогда склонен был к тучности, дамы проскочили со смехом, по-детски. Но «Борис» не пошел.
Вскоре из пальмовой рощи Спасо-Песковского раздались протяжные «нежно-напевные» и «певуче-узывчивые» строфы его стихов. Я не запомнил, что он оттуда читал. Но что я не полез в эти рощи, он запомнил.
Много лет спустя, уже в эмиграции, сказал вдруг мне, с кривой, несколько вызывающей усмешкой, в которой была и обида.
– Однако некогда в Спасо-Песковском гордый поляк не пожелал слушать Бальмонта в дебрях Полинезии. (Он нередко называл меня поляком, находя нечто польское в облике.)
***
Бальмонт был, конечно, настоящий поэт и один из «зачинателей» серебряного века. Бурному литературному кипению предвоенному многими чертами своими соответствовал – новизной, блеском, задором, певучестью.
Но потом времена изменились. Все эти чтения, детские чудачества, «бальмонтизм» и бальмонтистки кончились – наступили суровые, страшные годы войн, революций. Не до Бальмонта. Он отошел, и до сих пор полузабыт. Написал очень много. Некий пламень двух-трех книг его возгорится. Надо думать, придет это с Родины.
В 1920 году мы провожали Бальмонта за границу. Мрачный как скалы Балтрушайтис, верный друг его, тогда бывший литовским посланником в Москве, устроил ему выезд законный – и спас его этим. Бальмонт нищенствовал и голодал в леденевшей Москве, на себе таскал дровишки из разобранного забора, как и все мы, питался проклятой «пшенкой» без сахару и масла. При его вольнолюбии и страстности непременно надерзил бы какой-нибудь «особе…» – мало ли чем это могло кончиться.
Но, славу Богу, осенним утром, в Николо-Песковском (недалеко от нас), мы – несколько литераторов и дам – прощально махали Бальмонту с присными его, уезжавшему на вокзал в открытом грузовике литовского посольства. Бальмонт стоя махал нам ответно шляпой: это были уже не рощи Полинезии, не ребячьи выдумки, а тяжелая, горестная жизнь.
Этим ранний Бальмонт и кончается. Эмиграция прошла для него уже под знаком упадка. Как поэт он вперед не шел, хотя писал очень много. Скорее слабел – лучшие его вещи написаны в России. Продолжалась и тут бурная жизнь, расшатывавшая здоровье. Да и возраст не тот. Он горестно угасал и скончался в 1942 году под Парижем в местечке Noisy-Ie-Grand, в бедности и заброшенности, после долгого пребывания в клинике, откуда вышел уже полуживым.
Но вот черта: этот, казалось бы, язычески поклонявшийся жизни, утехам ее и блесткам человек, исповедуясь пред кончиной, произвел на священника глубокое впечатление искренностью и силой покаяния – считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить.
Некогда, на заре нашей литературы, другой поэт, тоже великий жизнелюбец, написал стихи, над которыми позже плакал Лев Толстой:
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Казалось бы, Пушкин мало подходящ для покаяния, а написал это до дуэли, до трагедии своей, когда на смертном одре, как и Бальмонт, священнику «плакася горько».
Все христианство, все Евангелие как раз говорит, что ко грешникам, которые последними, недостойными себя считают, особо милостив Господь,
Верю, твердо надеюсь, что так же милостив будет Он и к усопшему поэту русскому Константину Бальмонту.
С. С. ЮШКЕВИЧ
(1869–1927)
Я много лет знал покойного Семена Соломоновича, но впервые его «почувствовал» как следует и, быть может, понял, лет десять назад, в Москве, – мы встречались довольно часто в пестром и шумном предреволюционном кафе Бома. Большой лоб Юшкевича, большие руки, уши, нервный и горячий говор, удивленные, светлые и добрые глаза с очень детским oттенком живо помнятcя среди мягких диванов Бома, в накуренной комнате, где встречались прапорщики, писатели, актеры, вечно были разные дамы. Юшкевич всегда горячился и всегда спорил, со cтpастью yтверждал свое, он очень любил разговоры о литературе, кипел бeззaвeтно и самым искренним образом воспламенялся… Именно тогда я увидел в нем «нашего», очень, навсегда отравленного литературой – а значит, сотоварища. И добрую его природу тогда же почувствовал.
Эти впечатления потом только подтвердились. В эмиграции еще чаще приходилось с ним встречаться. Он так же любил шумно и горячо говорить о литературе, хохотать, сидя в дружеской компании за бутылкой вина, и еще ясней раскрылась (для меня) одна его прекраснейшая, трогательная черта: беспредельная, воистину «неограниченная» любовь к семье – жене, детям. Даже казалось, что его жизнь вообще ориентирована по этим близким, что и слава, и возможность заработка интересны не столько для писателя Юшкевича, сколько для Юшкевича – мужа и отца.
Но одной стороны раньше я в нем не знал, или, может быть, на чужбине она сильней выступила: это общая горечь отношения к жизни, пессимизм, безнадежность. Сыграло ли тут роль изгнанничество? Надвигавшаяся болезнь, упорно направлявшая его мысль к рассуждениям о смерти? Или дало себя знать безысходно-материалистическое его миросозерцание? Как бы то ни было, за шумностью, нервностью, иногда и за смехом Юшкевича в Париже или в Жуан ле Пэн (где так дружественно и бесконечно приветливо принимал он нас с Буниным этим летом!) – всюду ясно чувствовался какой-то «хриплый рог». Смерть ли это давала ему сигналы?
Он очень тосковал по России, и тяжелей других переносил изгнание. Тут приближаемся мы к его писательскому облику. Юшкевич нередко говорил (мне и Бунину):
– Вам хорошо, вы рождены Москвой, а я Одессой.
Этим хотел сказать, что его родина, которую он так любил и с которой так тесно был связан, юг России, иерархически как бы подчинена, второстепенна рядом с Великороссией.
– За вами целая великая литература, – кричал он иногда. – Россия! Какой инструмент языка!
Тут он был и прав, и не прав: прав в иерархическом предпочтении Москвы Одессе, и не прав в мрачных выводах о себе: сам-то он очень ярко и сильно выражал южнорусский народ, русско-еврейский – и в этом была главная его сила, как художника. Так, Мистраль (с которым у Юшкевича ничего нет общего в натуре) выражал свой, южнофранцузский, провансальский народ с таким гением, которому бы позавидовал всякий скверный француз.
Да, Юшкевич был писатель «региональный». Лучшее в его писании связано именно с русским югом, с Одессой, с ее живым, нервным, говорливым и бурливым народом. Юшкевич, будучи евреем, нередко будто бы евреев задевал в своем писании, давал так называемые «отрицательные типы» («Леон Дрей») и даже, кажется, в еврейских кругах это ему ставили в некий минус. Если стоять на этой точке зрения, то следовало бы нашего Гоголя совсем заклевать – уж кажется, ни одного порядочного русского на сцене не показал. Конечно, у Юшкевича была сатира (и, кстати, он как раз Гоголя очень ценил, и сам весьма тяготел к гротеску)но подо всем этим, конечно, пламенная, кровная, органическая любовь к своему народу. Юшкевич был органический писатель, в этом его главная сила, он достигает наибольшего тогда, когда живописует художнически-любимых им людей Одессы, когда дает неподражаемый их язык, трепет и нервность, и неправильность этого языка, и их облики, сплошь живые.
Вот потому, что он был такой кровный и настоящий, ему пришлось столь трудно за границей, в том Париже, который он знал с молодости, – но где нет Одессы. В одном небольшом его очерке, уже здесь, в эмиграции, трогательно и ярко изображена тоска двух одесситов по Одессе. Все тут хорошо, а там лучше, и акации, и море, и Франкони… Если угодно, это древний плач на реках вавилонских. Возможно, что в каждой еврейской душе есть тоска по Земле Обетованной и горечь безродинности. Для Юшкевича жизнь так сложилась, что на склоне лет солнечная и веселая, разноязычно-пестрая и яркая Одесса была отнята у него, и его плач стал еще пронзительней.
Совсем, совсем недавно мы сидели с ним на берегу Средиземного моря, под пиниями, в солнечном дыму каннского залива, и он искренно всем этим восторгался, но сердце неизменно направлялось на Россию, и никакими Каннами утешить его было нельзя.
А тому назад месяц со вздохом кинули мы по пригоршне латинской земли в могилу на прах нашего дорогого сотоварища, талантливого и честнейшего писателя, добрейшей, открытейшей души человека.
Вечная ему память!







