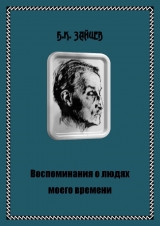
Текст книги "Воспоминания о людях моего времени"
Автор книги: Борис Зайцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 22 страниц)
«Нет больше прекрасного человека, бесконечно дорогого каждому, кто знал его»».
***
«Когда я глядел, как он бродит между соснами, сгребая палочкой сухие листья, думалось: хорошо, должно быть, высоко, честно на душе этого большого человека и большого художника.» – Ал. Толстой. (О Горьком, 15 октября 1932).
– Ну, вот, профессор, вы пожили в Москве, многих видели… Скажите, что говорят теперь о Горьком?
Иностранец: Одно говорят, я всегда одно слышал, – проданный человек.
Некогда – это кажется теперь случившимся сто лет назад – Горького избрала Академия, наравне с Чеховым и Короленко, академиком по разряду словесности. Государь его избрания не утвердил. В виде протеста Чехов с Короленко сложили и с себя звание академиков.
«Еду в Петербург спекулировать». «Бесконечно дорогой Феликс Дзержинский».
– Проданный человек.
Перевернутся ли в гробах Антон Чехов и Владимир Короленко? Тот, кто не пустил Горького в русскую Академию, зверски убит с семьей горьковскими друзьями. Лицо Горького, с щетинистыми усами, смешное и жалкое, отпечатано на советских марках.
***
Не дорого тебе, Литва,
Досталась эта голова.
Лермонтов
Низость людскую большевики хорошо знают. Умение закупать – их дело. Список велик, есть и европейские «звезды», типа Бернарда Шoy.
Госиздат покупает сочинения нужного европейского писателя – хотя может печатать и даром, конвенции нет. Но купить лучше.
Горький мог, разумеется, изменить свое мнение о советах и их правлении. Вот если бы сказал он им «осанна!» и с осанною этою избрал бы бедность и безвестность, то пришлось бы над его судьбой задуматься. Но ему заплатили хорошо… Доллары, особняк, вино, автомобили – трудно этими аргyментами защищать свою искренность.
Дали ему не только деньги. Дали славу. «На вольном рынке» ее не было бы, даже Западу Горький давно надоел. Но на родине «приказали», и слава явилась. Она позорна, убога, но ведь окончательно убог стал и сам Горький. В сущности, его даже и нет: то, что теперь попадается за его подписью, уже не Горький. У каждого есть свой язык, склад мысли, человеческий облик. Горький отдал его. Чрез него говорит «коллектив». Нельзя разобрать, Горький ли написал или барышня из бюро коминтерна! Горькому дорого заплатили – но и купили много: живую личность человеческую.
Слава же его, кроме позорного, имеет и комическое: назвать Горьким Нижний, Тверскую… Утверждать, что он выше Толстого и Достоевского. Окрестить именем его Художественный театр, созданный и прославленный Чеховым…
***
Тяжело писать о нем. Дышать нечем. Пусть он сидит там, в особняке Рябушинского и плачет от умиления над собою самим – слава Богy, что ни одному эмигрантскому писателю не суждена такая слава и такое «благоденственное» житие: Бог с ним. На свежий воздух – «дайте мне атмосферы»!
Милый праведник Чехов!
СУДЬБЫ
Конец прошлого, начало нынешнего века – письма Горького к Леониду Андрееву.
Андреев еще молод, очень живописен, прекрасные глаза, собирается жениться (на А. М. Виельгорской. И женился. К несчастью, она скоро умерла). Слава его еще впереди, но уже не за горами.
Андреев в Москве – летом на даче в Бутове, на опушке березовой рощи – Горький в Нижнем, живет там под надзором полиции. Он старше Андреева на семь лет, уже известный писатель. Андрееву покровительствует. «Постараюсь… пристроить Ваши вещи в «Журн. для всех» и в «Жизнь», также в «Мир Божий».
Дает литературные советы. Они разумны и довольно самоочевидны. «Пишите… как вам кажется лучше». «Сжатости изображения учитесь у Чехова, но Боже вас сохрани подражать его языку! Язык Чехова неподражаем». Дальше, про этот же чеховский язык фраза, вдруг раскрывающая самого Горького: «Это красавица, но бесстрастная, она никому не отдается».
Горький был очень упорен, много работал над собой, о себе как писателе отзывался скромно – думаю, только отзывался, вообще же считал себя роковым «буревестником», да и был им, но не в литературе. (Таково, приблизительно, было мнение о нем и Чехова.)
В Горьком, при большой даровитости, сидела великая безвкусица. Вот он и учился у Толстого, Чехова преодолевать ее. К концу жизни многого добился. Но в годы переписки с Андреевым писание его вполне отзывает Скитальцем; «Бей мещанина!» (из письма Андрееву). «В течение жизни моей я стучал кулаками по многим истинам, чтобы узнать, что у них внутри, и все они звучали, как пустые горшки».
Не знаю, как дальше пойдут письма, не все еще опубликованы.
Но с Горьким Андреев разошелся, и довольно скоро, это я помню не из писем.
Андреева с юных лет близко знал, очень любил, по-молодому, все в нем тогда нравилось: и горячность, и глаза, и приветливость, и сочувствие начинающему.
Но с «Жизни человека» трещина: просто не понравилось – пафосом, сухостью, схематизмом. (А вот Блоку как раз нравилось!)
Слава же его тут-то и развернулась. Художественный театр, альманахи «Шиповника», лекции, диспуты. Поклонники, поклонницы.
Раз входили мы с ним в ресторан «Прага» – румынский оркестр в честь его заиграл вальс из «Жизни человека». Вся зала поднялась, аплодируя. Как будто в те годы (1907–1910) затмил он даже бывшего своего покровителя и наставника Горького.
***
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.
У Пушкина это покаянный псалом. Здесь просто годы жизни, годы ушедшего, оно вдруг появляется, вызванное хотя бы этими письмами, с силой горестности невозвратного.
У каждого свой путь, и теперь, издали, вот следишь за чужими судьбами со спокойствием и грустью.
Странные судьбы, действительно, Андреев (некогда звал я его просто Леонидом и был с ним на ты – Горький назвал его в раннем письме «Леонушко») – Андреев испытал столь бурную и стремительную славу, как редко кому дается. Легко пришла, и ушла легко. В Ростове-на-Дону писали, что он выше Шекспира, в годы начала войны и перед революцией его бессмысленно попирали и заушали.
В то время жил он в Финляндии (с 1907–1908 гг.), на своей вилле «Аванс» (вся была построена на авансы «Шиповника»), близ Черной речки, за Териоками.
Мы однажды гостили летом с женой у него на этой вилле.
Постройка – «северный модерн», а внутри старушка мать московских древних времен (позже ходила она к нему на могилу читать вслух), бесконечные самовары, много прислуги, та русская бестолковщина, беспорядок, которые почти везде тогда и были, но и русская приветливость, душевность. Здесь он писал свои фантастические схемы («Царь-Голод», «Океан»), а маляры, раскрашивая наличники, напевали рядом вековую русскую песнь.
Несмотря на «богатство», славу, семью, это полоса жизни была, думаю, очень для него тяжела! Все колебалось. Он это чувствовал. Слава уходила, несмотря на огромные еще, по-тогдашнему, тиражи книг и авансы. Леонид ездил на моторной лодке по заливу, дома пил бесконечные чаи, по ночам писал, и во всем этом было нечто надрывное.
Когда в 1935 г. мы с женой проезжали мимо дачи, где некогда гостили, – и не нашли следа ее, все уничтожено, свезено куда-то, продано, просто голое место: сердце сжалось. Тут мы разводили философствования с хозяином, слушали пение маляров над окном нашей спальни, разговоры классической писательской мамы (мать Гоголя считала, что сын ее изобрел и пароходы). И от всего этого – ничего.
Но Леонид скончался у себя: никому не поклонился и не подчинился, остался в одиночестве и при своих взглядах. С побежденными, но вольными. Как писатель он сильно сейчас забыт – нечто о себе в «Жизни человека» угадал. Но если бы в эмиграции было больше толковости, то вместо зверских переводов американских писателей вполне можно было составить хороший однотомник Леонида Андреева. Совершенством его писание не отличалось, стихийное же ядро в нем было, и очень сильное: чувство ночи трагедии, одиночества. Это не буревестник. Но какую-то трещину, томление и тоску он обликом своим выразил – накануне страшных дней России.
***
Легких судеб нет. Все трудны. Леонид Андреев достаточно испил горечи. Но в судьбе Горького есть нечто особо-тягостное, в другом роде.
Как писатель он оказался гораздо выдержаннее Андреева, больше работал над собой и в некоторых своих поздних писаниях очень окреп.
Но… – подготовлять революцию, видеть триумф ее, оттолкнуться сначала от ее крови и ужаса (в Нижнем он водил все же знакомство с Короленко), – да, оттолкнулся и некоторых даже спас – а потом всему этому низко поклониться! (В эти же первые годы оказался приятель Короленко и Чехова видным нэпманом: любил предметы роскоши, скупал их во времена разгрома по дешевке.)
Однако в некий час будто вовсе не выдержал: уехал за границу, как бы порвал с Советами. Жил в Германии, Италии (Сорренто). К эмиграции не пристал, держался одиноко. «Одиночество и свобода» – Адамович хорошо назвал свою книгу. Горькому не удалось ни одиночество, ни свобода. В конце двадцатых годов, по зазывам и соблазнам из России, он вернулся. И помирился. С Андреевым поздно уже было переписываться: если бы даже остались добрые отношения, Леонида не было уже в живых: он скончался в 1919 году, еще на своей вилле, на той же Черной речке. (Могиле его мы с женой смогли поклониться в 1935 году, она сохранилась, простая и скромная, на недальнем кладбище. Украшена была шиповником. Как слезы висели капли росы в листиках.)
И если бы даже был жив, если бы оставался приятелем Горького, вряд ли бы переписка могла возникнуть: Андреев одиночка, на чужой земле, пишет свое обращение «S.O.S.» к Западу – Горький чуть ли не друг Сталина, глава всей советской «изящной» литературы (помнится, это он и изобрел «социалистический реализм») – тут уж не скажешь начинающему, как прежде: «пишите… как Вам кажется лучше». Казаться должно начальству. А наш брат пусть «перевыполняет».
Горький в это время вельможа, советский Потемкин. И как раз попал к полосе коллективизаций, концлагерей.
Его отправляли куда-то на север, к Белому морю, смотреть, как перевоспитывают в этих лагерях. Он растрогался, чуть ли не прослезился от умиления. Все превосходно! Новые люди умеют перевоспитывать, и т. п.
Страшный его шаг. Страшное пятно на памяти. Да, «они» обработали-таки его вполне. Чехов ездил когда-то на Сахалин и не плакал, увидел много тяжелого. После его поездки и книги назначена была сенаторская ревизия каторги. Русский писатель никогда не благословлял каторги. Но Чехов принадлежал к настоящей, великой христианской русской литературе, прославившей русское имя. Горький… – да стоит ли о нем много говорить?
В Москве жил он роскошно, но уже хворал – болезненным был с ранних лет.
Вот тут и пришло завершение мутной и безвкусной жизни.
Троцкий в воспоминаниях своих объясняет дело очень правдоподобно: Сталин как будто и дружил с Горьким, и превозносил его социалистический реализм. И все-таки в пору террора тридцатых годов, при Ежове, Горький оказался неудобен – даже Горький! Может быть, не все одобрял (в молодости водился все же с Чеховым и Короленко, бывал у Толстого). Может быть, лишнее говорил заезжим иностранным журналистам. Бог их там знает. Жутко приближаться к этим людям. Только, по Троцкому, Сталин через Ягоду, Ягода через врачей подтолкнул его. «Вредный старик, с уклончиками». И несчастные врачи поторопили несчастного Горького уходить с этого света. Сталин же потом обернул все это против самого Ягоды и врачей. «Отравили, отравили моего лучшего друга!» Лучший друг умер, не зная, кто старался вокруг него. В общем-то все погибли, начиная с Ягоды, потом и Ежов, и сам Троцкий, да вернее всего, что и Сталину «дали понять»: пора, пора, надоел, стал опасным для «нас». Как именно поторопили, может быть, наши дети узнают. А может, и они не узнают.
Из «блестящих» людей эпохи, по литературному отделу, хорошо уцелел Алексей Толстой. Этот при всех плавал и выплывал, и пил, и зарабатывал сколько хотел, и скончался без принуждения. Но и за гробом продолжается фарс всей его жизни. В Москве поставили ему недавно памятник. А следующий за ним будет – Ломоносову! Так что «Алешка» – и Ломоносов. «Горьким смехом моим посмеюся».
***
Надо ли вызывать прошлое? Может быть, и не надо. То великое, настоящее, что в нем было, останется и без нас. А жалкое и ничтожное сгинет. Но мы все же люди, вот иной раз и захочется сказать о виденном, слышанном и пережитом. Письма Горького к Леониду Андрееву, связанные с почти наивными временами, потянули за собой воспоминания, забредшие в страшный мир. (Аминь, аминь, рассыпься…)
ДАВНЕЕ
О поле, поле, кто тебя усеял
мертвыми костями…
ЛУНАЧАРСКИЙ
Этого молодого блондина в пенсне, довольно благодушного, встретил я некогда в Петербурге, в доме знакомых: студента естественника и его жены акушерки. Сам я тоже студент, место сумрачное, где-то меж Лиговкой и Пятью Углами. Маленькая квартирка, таинственные личности, «явки». Сам Ленин там бывал (но я его ни разу не встретил). Совсем нет солнечного луча в этом мире, где приятельница моего детства, друг хозяев, благоговейно наливала и подавала Ленину кофе и где сильно попахивало воздухом «Бесов».
Но человек молод, ему все еще интересно, мир так не ясно-огромен, в нем всему есть место – и жаргону с «массовками», «студенчеством», «рабочими массами», «путейкой», и мечтам, и тоске.
Какие-то личности появляются, довольно таинственные, шепчутся с хозяином – исчезают. Я тут случайно, из другого мира. Думаю, здешние относились ко мне иронически. Но вот этот блондин как-то приветливей, вносит оживление, смех, не чужд искусствам и литературе – вообще впечатление от него более легкое, даже с каким-то просветом.
Петербург ушел, вместе с раннею юностью, одиночеством и заброшенностью. В Москве легче. И жизнь не та. Намечается будущий путь. И крылатым сиянием входит в нее спутник – уже навсегда.
В этой московской жизни, на первых литературных шагах кое-где Луначарский – воспоминание о Петербурге: но беглое. На страницах журнала «Правда», где печатаешь кое-что из первых своих рассказиков и подрабатываешь корректурой – длиннейшие статьи этого Луначарского, неразборчивейший почерк, но это только преддверие. Журнал-то марксистский, а литературой ведает Бунин. Его скоро, впрочем, выставят. Меня тоже. Мы, конечно, неподходящие. Тут нужны Ленин, Скворцов, Луначарский, Богданов.
И вот вновь идет жизнь, о Луначарском не думаешь, вновь бываешь в Петербурге, но уже вдвоем, молодым писателем, совсем по-другому, и все тот же ветер молодости выносит и в более просторный мир.
Весна в Париже, а там май, чрез Швейцарию, мимо Лаго Маджиоре скатываемся в благословенную Италию, сияющую и светозарную Флоренцию, залитую златистым, голубоватым, реющим и волшебным.
В городе этом, как из-под земли, и тоже вдвоем с молодой женой (сестрой Богданова) – вновь Луначарский. Тут уже не подполье Лиговки и Пяти Углов. Да и Лениным не пахнет. Здесь Albergo Corona d' ltalia залитой солнцем, здесь крик осликов на улицах, смех, веселый говор простой итальянской толпы. Но здесь и наши друзья Боттичелли, Донателло, Беато Анжелико и Кастаньо, и сам Микель Анджело. Тут ходил некогда Данте, а теперь воздымается его памятник и на многих улицах надписи на дощечках стен – из «Божественной Комедии». Все настоящее, все мировое.
Надо сказать: Луначарскому это нравилось. Он тоже любил Флоренцию, в нем была жизненность и порыв к искусству, он и сам кое-что писал по нашей части (но по-любительски и легковесно).
Во Флоренции мы превесело вчетвером с ним заседали в разных ресторанчиках «Маренго» на Via Nationale, распивали кианти, он горячился и ораторствовал – теперь о флорентийской живописи. Пенсне прыгало на его носу, он вдруг обнимал и целовал Анну Александровну (очень был пламенен по этой части), потом опять кричал о Боттичелли. Единственно чем меня доезжал тогда – многословием. Глаза соловели у слушателя от усталости, а остановить его нет возможности.
Мы ходили вместе по Флоренции и раз очень весело и смешно сидели на вечерней иллюминации над Арно – на парапете набережной, как-то верхом сидели, хохотали, дамы взвизгивали от фейерверков и забавлялись как хотели.
А потом мы с женой уехали в Виареджио, к морю, и они очень нам помогли: дали адрес в рыбацкой части – тогда очень скромного еще Виареджио – у каких-то синьоров Luporini. Внизу маленькая остерия, наверху сдавали комнату. Луначарские сами жили раньше у них и оставили, видимо, хорошее о себе воспоминание: раз мы amici dei signori Lunaciari, так мы тоже будем свои. (Италия есть Италия!)
В скромной комнатке рыбацкого домика, где Madonna висит над двуспальной кроватью с тюфяком, набитым морскими травами, кутаясь, бродя, вдыхая солнце и прелесть Италии, провели мы недели две-три идиллически-райски. А потом вернулись во Флоренцию. Луначарские были еще тут, но вид у них вовсе иной: очень кислый и отощалый. Дело простое: уже с неделю сидели они без гроша. Анатолий Васильевич снял пенсне, протер, опять надел и дернул слегка за шнурок его. Вид несколько смущенный.
– Не могли ли бы вы дать мне взаймы сто лир? Это меня очень выручило бы.
Теперь кажутся те времена младенческими. Сто лир! Но комната в отельчике нашем «Corona d' Italia» стоила три лиры, завтрак в «Маренго» лиры полторы.
Я повел всех в это «Маренго», угощал, пропитали мы лир десять-пятнадцать, у Луначарского в кармане было уже сто, он опять хохотал, целовал Анну Александровну, – к некоему удивлению (впрочем, сочувственному) – гарнизонных офицеров, столовавшихся здесь же, несколько опереточных, в голубой форме с длинными саблями. В окно выскакивала на улицу собака здешняя, потом весело впрыгивала обратно. Маленький черненький Джиованни, наш приятель, вихрем носился по ресторану, с макаронами, бифштексами, фиасками кианти. Только и слышалось его: «Pronto!» – всюду успевал. Все имело необыкновенно мирный и простодушный вид.
На другой день мы уехали, уже при страшной июньской жаре, в Равенну, по пути домой. Луначарские остались со своими ста лирами, в ожидании подхода подкреплений.
Все обернулось благополучно. А в Москве, через некоторое время, контора Юнкера вернула мне итальянские златницы в русских рублях.
***
И вот идут годы, и чем дальше, тем менее похоже на идиллию Флоренции и Виареджио. Луначарский в это время для меня за сценой. Вряд ли даже мы встречались с ним в России между 1907 г. и ноябрем 1917 г. Слишком разные миры.
Тут все фантастически меняется. Наступает другой эон. Осень 1917 г. мы проводили в Тульском именьице отца. А по России шли события, значения которых мы недооценивали. (Идут, и вот скоро пройдут.)
Я попал в Москву после восстания конца октября. Москва разбита, не столь материально, как внутренне. Что-то надломилось в прежней жизни. Хаос во всем. Так чувствовали мы, интеллигенция. Победители в обмотках и с наганами, наверно, по-другому (многие, впрочем, и сами не верили в длительность свою).
Луначарский, с которым пили мы кианти во Флоренции, теперь министр, «народный комиссар» – кажется, по народному образованию.
Вот тут произошло нечто вовсе не похожее ни на ресторанчик Маренго, ни на споры о Боттичелли. Мы вступали в полосу страшную и кровавую, даже и не представляли, сколь кровавую – в ней воспоминание, связанное с Луначарским, вызывает теперь улыбку.
Во время восстания снарядами большевицкой артиллерии были повреждены некоторые купола Соборов в Кремле и, кажется, даже сбит крест. Символично, конечно, но сравнительно с тем, что творилось позже, это очень, очень мало – сколько церквей потом вовсе разрушили, начиная с храма Христа Спасителя, сколько епископов, священников, монахов замучили, сколько истребили крестьян («кулаков») – рядом с этим шрапнельные ранения на куполах… Но тогда это привело меня в почти истерическое негодование. В Москве не вся пресса была еще казенная. Издавалась, например, еженедельная газета кооператоров-демократов, если не ошибаюсь, «Власть Народа». Думаю, именно в ней поместил я открытое письмо Луначарскому. Это было что-то невообразимое. Дорого обошлись ему московские купола. Что именно написал, не помню, но чуть ли не площадная брань. Кажется, упрекал его в сумасшествии, алкоголизме, и, наверно помню, кончалось тем, что никогда я больше не подам ему руки.
Как смогла газета напечатать такую штуку, неведомо. Но моя шрапнель била уж совсем мимо. Луначарский оказался совершенно ни при чем. Он сам был в ужасе от разрушений, крови и насилий, в частности и от повреждения древностей. Настолько, что, как передавали тогда, заявил Ленину о выходе из партии, за что получил такой нагоняй, что поспешил отступить.
Ни мне, ни газете не попало за письмо нисколько. Вероятно, не до того было им самим. Что же до Луначарского, то я почти уверен, что он письма моего просто и не читал.
***
Положение же его самого оказалось довольно аховым. Он был интеллигент и человек вовсе не кровавый. А попал в теплую компанию. «Они» не очень-то его жаловали. Он старался смягчать, заступаться, поддерживать артистов, писателей, налаживать разные академические пайки, и т. п. По этой части кое-что сделал. Но в террор и убийства смягчения никакого не внес.
В 21–22 гг. мы жили в самой Москве. Это было время нэпа, сравнительно легче. Луначарский устраивал иногда у себя в Кремле чтения и приемы, приглашал и писателей не-коммунистов. (Бывали у него Вяч. Иванов, Балтрушайтис, Гершензон, Чулков.) Мне после открытого письма не так удобно было встречаться с ним – я и не бывал на чтениях его пьес. По делам же Союза писателей приходилось нам, Правлению, ходить иногда в «Орду» – хоть и не были мы русскими князьями. Выхлопатывали Союзу разные льготы, пайки, охранные грамоты.
Но тут больше имели дело с Каменевым, тогда председателем Московского Совета. Все-таки, раз были и у Луначарского в Кремле. Помню, ухитрился я как-то тогда, в группе сотоварищей своих, не поздороваться с ним. Помню, стараясь выказать свою независимость и презрение к новому строю, я как-то особенно нагло разваливался в кресле, раскачивал его, высокомерно (как мне казалось) рассматривал, заставлял скрипеть, чтобы наглядно показать, как ничтожно это «высокое место» – кабинет кремлевского вельможи – в моих глазах.
Но не всегда мне так везло.
На Знаменке жил мой издатель – и приятель давний Зиновий Исаевич Гржебин. Был он близок к Горькому, но навастривал лыжи за границу, хотел и устроил в Берлине начала 20-х гг. собственное издательство. А пока занимал отличную квартиру недалеко от Румянцевского Музея.
Я у него бывал нередко, по литературным и личным делам. Помню великолепный подъезд, двойные стеклянные двери, светло, тепло, только швейцара нет, а то будто довоенный быт.
Вот поднимаюсь с улицы на несколько ступенек, берусь за ручку двери – она покорно отодвигает ко мне свое стекло, а выходящий из дома человек в отличной шубе и меховой шапке тянет к себе другую, внутреннюю дверь, тоже стеклянную.
Чрез несколько секунд оба мы, нос с носом, сталкиваемся в этой ловушке меж дверями, шуба поправляет знакомым жестом пенсне, взглядывает на меня и оказывается просто-напросто Луначарским.
– А-а, здравствуйте! – и приветливо протягивает руку. Совсем будто в Италии, сейчас начнет спорить о Боттичелли (только сто лир ему теперь не нужны, и там шубы такой не было).
Да, и я протягиваю ему руку. После торжественного печатного заушения – а вот тут, между анафемскими этими дверями протягиваю и жму…
Потом скорей шмыг в переднюю, в подъемник и к Зиновию Исаевичу. Там свой мир, литература, издательство, давняя доброжелательность с обеих сторон. Я рассказываю ему, он смеется. – Анатолий Васильевич только что у меня был.
Я смущенно смеюсь.
– Ведь в печати сказал, что никогда руки не подам…
– Мало ли что в печати… А тут вышло непечатное.
И мы стали говорить о другом – о готовящемся нашем отъезде, о книгах моих, которые он собирался издавать в Берлине.
Так все и вышло. И попали в Берлин, и книги мои он там выпустил – Гржебину, Зиновию Исаевичу, во многом обязан и тем, что попал на Запад. Его уже нет в живых. Скончался он здесь, в Париже, гораздо позже. Благодарную память о нем храню.
***
Я никогда больше не видел Луначарского. Он продолжал быть «Наркомпросом». Думаю, все меньше, меньше подходил к эпохе, особенно, когда умер Ленин, и Сталин забрал все в свои руки.
Почти все люди того времени ушли. Умер и Луначарский.
Воспоминания о нем главнейше связаны с юными, счастливыми годами, райскими днями Италии. Теперь, издали, улыбнувшись на многое, но и вздохнув, скажешь: «Все-таки слава Богу, что умер Анатолий Васильевич естественной смертью, а не в подвале Чека».
КАМЕНЕВ
Времена доисторические, еще до японской войны. Москва, университет. Был у меня знакомый один, Яхонтов, тоже студент, но старше меня и образованней. Он мне нравился: простой, негромкий и приветливый, с русской интеллигентской бородкой. Думаю, был этот Яхонтов социал-демократ, но умеренного толка (а может, и народник).
Вот он пригласил меня однажды к себе на вечеринку. Русская студенческая вечеринка! Не времен Герцена или Толстого (без мундиров и жженки), нечто после Достоевского, чай с лимоном и папиросы, окурки на блюдцах, сизый дым в комнате и споры, споры… Не помню, о чем именно спорили, наверно, о политике – не по моей части. Я и помалкивал, просто смотрел, вглядывался.
Студент, довольно кудловатый, с широким открытым лицом, серыми спокойными глазами, сняв тужурку и устроившись верхом на стуле, так что спинка служила ему опорой и кафедрой, что-то толково разглагольствовал. Его слушали. Видно было, он здесь известен, что-то за ним есть.
Яхонтов нагнул ко мне бородку, блеснул стеклами пенсне, шепнул:
– Выдающаяся личность. Умен и начитан. Лев Розенфельд.
Я вас с ним познакомлю.
И действительно, познакомил. И действительно, «Лев Розенфельд» произвел неплохое впечатление. О талантах его политических я не мог судить. Да мало это и занимало. Но так, сам по себе, он мне скорее понравился.
Знакомство это не укрепилось и не удержалось. Все же в те годы мельком, то в Университете, то, кажется, у самого Яхонтова, я его встречал. Но никак не думал, что чрез четверть почти века встречу его в условиях, тогда показавшихся бы фантастическими.
***
Эти условия были – революция, о которой я у Яхонтова, по молодости лет и быть может дурости, вовсе не думал. Но она пришла, не спрашивая, хотим ли мы ее или нет, пришла и как зверь, и как суд над многими делами прошлого.
Фантастичность и в том, что такой Луначарский, занимавший у меня сто лир, вдруг стал министром, что кудлатый студент Розенфельд, переименовавшись в Каменева, обратился в Предс. Москов. Совета. А еще и в том фантастика, что сам зверь – так всегда бывает в революции – сам по себе обратился, много собственных детищ пожрал.
Как и Луначарский, Каменев был образованный интеллигент, тоже склонный отчасти к литературе и искусствам. Жена его – grande dame революции по части театров, выставок картин и т. д. – каменевский «либерализм» зашел так далеко, что как московский генерал-губернатор он закрыл на третьем № «Вестник Чека» за открытый призыв к пыткам при допросах. (Чудный документ для человеколюбивой русской литературы! Лев Толстой, слава Богу, до него не дожил, как и Чехов. У одного из друзей моих литературных этот номер хранился. Интересно бы знать, сохраняется ли он в государственных библиотеках России сейчас, или благоразумно исчез?)
В новом «волшебном» мире все-таки мы как-то жили, копошились, даже писали кое-что, даже Союз писателей (независимых) у нас в Москве был. Карабкаясь, цепляясь, стараясь не унижаться, продолжали путь. На пути этом Каменев попадался не раз, в облике «заступника и покровителя».
Он обосновался на Тверской в бывшем доме генерал-гyбернатора, напротив каланчи и убогого памятника Скобелеву. В прежние времена внизу дворца была канцелярия, где чиновник с длинным вылощенным ногтем на мизинце выдавал нам заграничные паспорта: с ними ездить можно было по всей Европе без всяких виз.
Вот я иду к Каменеву посланцем от Союза. Но по пути, как раз в этой бывшей канцелярии, попадаю в другой мир: баба на коленях перед чекистом: «Батюшка, родимый, отпусти мужа, ведь сколько уж ни за что ни про что держите!» – «Пш-шла вон, убирайся! Держим, значит есть за что!» Так вкушала баба новый мир.
Подымаюсь по лестнице этого нового мира. Трещат машинки, бегают резвые, не без развязности, секретарши, потряхивая грудями. За зеркальными стеклами дворца как призраки, безмолвно проплывают извозчики, детишки тащат салазки, бредут граждане молчаливо, со своими заботами и горем.
После некоего ожидания пускают и в кабинет Каменева. Вот он, кудлатый студент моей молодости, за отличным столом, спиной к зеркальной Москве за ним, где медленно, беззвучно-горестно идет повседневность.
Принял он меня прилично, даже не без любезности, конечно, слегка покровительственно. Удивило, что он поджимал ноги под себя, в одних носках – ботинки стояли рядом: будто жали они ему, он отдыхал.
В Харькове арестовали Ильина (философа), Арсеньева и французского профессора Мазона, Союз хлопочет об освобождении их. Каменев водит пальцем по каким-то спискам.
– За что взяли?
– Ни за что.
– Посмотрим, посмотрим…
Телефонный звонок. Грузно, несколько устало Каменев в своих носках берет трубку.
– Феликс? Буду, буду. Насчет чего? Нет, приговор пока не приводить в исполнение. Буду непременно.
Дзержинский, «Золотое сердце». С дальнего конца проволоки пахнуло не райским.
Каменев положил трубку.
– Если не виноваты, конечно, выпустим.
***
Мне повезло – их выпустили. С этого времени я оказался как бы «спецом» по Каменеву. Возникло мнение, что мне он не откажет, и по малым житейским делам Союза к нему направляли меня.
Например, так: надвигается голод, а Гершензон разузнал, что у Московск. Совета есть двести пудов муки, как бы с неба свалившихся. Хорошо бы до них добраться.
И добрались. На этот раз ходили в Орду уже вдвоем: я и Гершензон, к тому же Каменеву. Гершензон, извилистый, нервный, чем-то напоминавший черного жучка, волновался, нервничал, вместо «здравствуйте» говорил «датуте», и при всей своей высокой одаренности, духовном аристократизме обладал загадочным тяготением к новой власти. Казалось бы, все обратное: он индивидуалист, смиренный книжник, самый мирный человек – но сила, ломка, беззастенчивость почему-то магически подавляли его и он бормотал нечто совсем неподходящее. Меня стеснял несколько его тон с Каменевым на этом свидании о муке, он слишком робел, находился на границе подобострастия – давал повод Каменеву держаться слишком снисходительно-покровительственно.
Вообще-то миссия наша была нелегка (внутренно), но подгонял голод, а Гершензон не облегчал.
Миссия удалась. Каменев держался все же прилично, «хлеб наш насущный» мы получили, и вскоре по зимним улицам Москвы везли из склада на салазках кульки этой муки и Айхенвальд, и Бердяев, и Гершензон, и аз грешный, и Осоргин, и Муратов.







