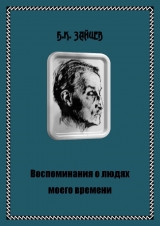
Текст книги "Воспоминания о людях моего времени"
Автор книги: Борис Зайцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
П. М. ЯРЦЕВ
Для одних – «известный театральный критик и драматург», для меня – Петр Михайлович, «Ярчик», как мы его звали.
Редеющие каштановые волосы, зачесанные назад. Большой лоб, впору шекспировскому. Под ним светлые, огромные глаза, так глубоко засаженные, что глядят точно из пещер, обрамленных крепкими, костистыми арками – худоба и остроугольность их удивительна. Низ лица явно стремится к треугольнику с рыжеватой бородкою. Мягкая и не первой юности шляпа, черный галстук, длинный сюртук, крылатка и серые матерчатые перчатки, голова несколько вдавлена в плечи, брови насуплены – так проходит Ярцев в скромном старомодном облике своем по переулкам Москвы, близ Арбата, по Плющихе, в Левшинском…
Петр Михайлыч появляется в моей памяти зимою 1905 года. Художественный театр репетировал тогда «У монастыря», трехактную лирическую его пьесу. Автора вовсе не знали в литературе. Что-то ставил он в Петербурге, чуть ли не у Суворина. Но Художественный театр… Сразу мог он дать славу, деньги, положение. Говорили, что Немирович увлекается новой пьесой и новым драматургом. Драматург жил в небольшой квартирке на Плющихе. В кабинете его висел Ибсен, лежало несколько книг. Стол был покрыт серым сукном, обои серо-зеленоватые. Тут писал, курил, пил крепчайший черный кофе хозяин. Он и дома сидел в сюртуке – очень длинном, не весьма новом. Нечто и донкихотское, и монашеское было в его облике.
Ему поручили отдел театра в одном журнале – он меня пригласил писать. Кажется, я почти ничего и не написал, но мы познакомились и сдружились на многие годы.
Репетиции шли. Он потирал тонкие руки, шагал из угла в угол ибсеновского кабинета. Московские морозы трещали за окном с темными занавесками. Приближалась премьера – декабрьская новинка театра.
Кто пьесы ставил, знает, что такое театр. Вероятно, легко это поймут любители азартной игры. Ни книга, ни журнал ничего общего с театром не имеют. Театр есть встречa с публикой без ширм – с толпой. В ее руках успех или провал. В том дуновении сочувствия или вражды, какое вызовешь. Нельзя угадать чувств многоглавого противника. Что-то «доходит», что-то «идет в гроб» – сам великий знаток театра, сам Немирович не раз ошибался.
Неясно помню содержание пьесы. Вращалась она вокруг любви – сложных и туманных чувств. Одно действие происходило в гостинице при монастыре – за окнами снег, зима. Качалов ходит по сцене в мягких, белых валенках. Некую роль играет букетик ландышей. Германова была прелестна. Но пока на сцене мечтательно разговаривали, в зрительном зале упорно молчали, молчанием равнодушным.
Знаток театра ошибся. Если «доходила» тишина чеховская, то ярцевская не дошла. Спектакль медленно, как-то беззвучно уходил в небытие – без раздражения или неодобрения: просто соскальзывал.
В антрактах кое-где появлялся автор в длинном сюртуке, с прекрасными глазами, нервными, худыми руками. Зрители равнодушно беседовали о постороннем.
***
Пьеса, написанная «для себя», успеха не имела. Она шла – выдержала десятка полтора представлений, но автора не прославила. Ярцев остался тем же: глубокой и тонкой натурою артистической, публику не победившей. Он держался замкнуто, благородно. По-прежнему пил крепкий кофе, курил в ибсеновском кабинете, пожимал сухощавые руки и много о чем-то думал.
Он жил совершенною птицей небесной. Более беззаботного, бессребреного и неприспособленного человека я не встречал. Правда, и время было особенное. Четверть века, прошедшая с тех пор, кажется столетием. Что сказал бы кто-нибудь из нас о пайках, смычках, пятилетках! Считалось, что настоящий человек – это романтик, живущий неуловимыми томлениями сердца, красотой (стиха, Италии, театра). «Хлеб наш насущный» – второстепенно. (И по более легким условиям той жизни хлеб этот легче и приходил. Культа же сытости не было…)
Все-таки, вспоминая Петра Михайловича, думаю, что, будь он один, вряд ли бы выдержал: мера его отвращения к практицизму все превосходила. Но за ним стояла подруга, верная и преданная, Мария Зиновьевна, Мария и Марфа[4]4
Сравнение с Евангельскими сестрами Марфой и Марией, служившими Христу.
[Закрыть] одновременно.
Она его опекала и берегла. Делила радости, горести, волновалась писанием, волновалась и тем, как платить за квартиру, где достать денег. Ее мягкая, большая фигура, тихий голос, улыбка черных глаз – тоже неразрывно с ним связаны, как и он с ее обликом.
Ярцев отрицал собою всякий склад и порядок. Никакое «крепкое и зрелое» общество не может на таких людях держаться. Или он загадочно пьет свой кофе, или уходит – неизвестно куда и неизвестно на сколько.
– Петр Михайлович, ты будешь дома обедать?
– Да, Машенька… Да, может быть, буду.
– Я ведь должна наверно знать.
– Ну да, конечно… Я непременно постараюсь.
Одно дело стараться, другое знать. Петр Михайлович был тогда глубоко богемен. Над чашкою кофе мог сидеть без конца в кафе, что-то записывать, о чем-то размышлять. Встретившись с кем-нибудь из молодежи, мог оказаться в кабачке, от сумрачной молчаливости перейти к нервической оживленности, якобы загореться – поправляя галстук и откидывая назад волосы, увлекательно говорить о театре, все на нервах, на нервах… Где же тут знать, когда вернешься? И что именно приготовила Машенька, и на какие деньги!
– Это не то. Это мелочи!
Мы издавали в то время журнальчик «Зори». Ярцев был деятельнейшим сотрудником его и соредактором.
После редакционных событий – чаще всего у Ярцевых – шли бродить по Москве, спорили на бульварах, заседали в кафе или ресторанчике «Богемия» – случалось, там и раннюю весеннюю зарю встречали.
Ярцев любил такую жизнь. Будучи старше нас, загорался не меньше. Хотя нередко – так же быстро и гас: глубоким неврастеником был всегда, и всегда в сердце его лежало зерно горечи. Душевное опьянение лишь временно затопляло эту горечь.
«Романтический человек с раненою душой» – так можно было бы определить его. Он мечтал об особенном театре (исходя, впрочем, от Станиславского), о высоком, духовно-облегченном искусстве. Ему хотелось, чтобы чувства на сцене сквозили чистейшими, прозрачными красками. Действительность, даже в Художественном театре, этого не давала. Чаще всего несла она успех «Детям Ванюшина».
Oгромность требований Ярцева к театру, к любви, к жизни ставила его в тяжкие положения. Во многом и неуспех «Монастыря» с этим связан.
***
На углу площади, у Москва-реки, выходя фасадом на Храм Христа Спасителя, стоял большой красный дом, выстроенный затейливо в стиле северного модерн: с крутоскатною крышей, отделкою зеленой майоликой, большими окнами – известный «дом Перцова». Там были и квартиры, и отдельные студии. В квартирах жили люди более солидные. В студиях художники, актрисы. Там тихо обитала «монахиня» Художественного театра Бутова, удивительный облик благочестивой художницы сцены. Там, с нею рядом, помещался Александр Койранский, – «Саша Койранский» – острый, живой, печальный и резкий. Женоподобный Поздняков пробегал нередко коридором. Осип Самойлович Бернштейн таил свои шахматные комбинации, Балиев начинал «Летучую мышь». Много известных и видных людей Москвы – артистов, литераторов, художников перебывало тут.
В одной из студий Ярцев «раскинул свой театральный шатер».
Он увлекался опытами молодого интимного театра. Пожалуй, это была завязь позднейших театральных начинаний типа Вахтангова и Михаила Чехова. Выбрал он для постановки мою небольшую пьеску «Любовь». Как всегда, намерения его были предельны. В вещи лирической, не театральной, написанной с молодой восторженностью, хотел он передать какой-то трепет, пафос, опьянение. Исполнители – молодежь, барышни из театральных школ, начинающие актеры. Барышни благоговейно смотрели на его глубоко запавшие глаза, но на репетиции запаздывали. Актеры – то кто-нибудь заболевал, то меняли исполнителя, то репетиция начиналась после полуночи, когда кончался театр. Все шло нескладно, беспорядочно. Но создавало удивительный быт. Около репетиции толклись и посторонние. Получался не то клуб, не то кафе, не то театр. Беспрерывно варился кофе, на низких диванах полусидели, полулежали зрители и исполнители, нельзя было и разобрать, кто за чем пришел. Среди ночи пили коньяк. Приезжал Леонид Андреев, треугольный Мейерхольд, кто-то играл на рояле. Борис Пронин, помощник режиссера Художественного театра, с открытой шеей и белым отложным воротничком, как у Блока, вихрем носился, вздувая энтузиазм. Художник писал какую-то декорацию, но, впрочем, никто толком не знал, будет ли декорация, или все пойдет «на сукнах». Главное же, никто не знал, откуда взять денег и как, собственно, все это показать.
– Милый, мама, голуба, – кричал Пронин. – Все будет!
Все чудесно устроится… Ах, да все будет замечательно!
Петр Михайлович пил черный кофе, и, устало закрывая глаза, привычным жестом поправляя на голове волосы, говорил:
– Да, да. Все будет. Все придет. Главное – да. Остальное все мелочи. Это так. Да. Остальное – не надо.
Но тут срывался Борис Пронин, терзая свой артистический галстук.
– Боже мой! О, я идиот! Без десяти восемь. Через десять минут давать занавес в Камергерском… Боже мой!
И улетал.
Мы проводили чуть не целые дни в этом коловращении.
Иногда можно было уйти с Ярцевым в ресторан и тоже просидеть часов пять. Раз случилось, что мы трое – он, я и переводчик Владимир Высоцкий, общий наш друг и приятель Пшибышевских и Тетмайеров, на таком ресторанном заседании чуть не уехали за границу – так, ни с того ни с сего. Выработали даже маршрут – Краков, Венеция, Вена, что-то в двенадцать дней, – и в мечтах пережили все прелести поездки.
Глупо все это? Может быть. Но жилось интересно. Не нам одним. Почему-то толпился же народ в нашей «студии»?
***
Предприятие развалилось, разумеется, деньги оказались не такой «мелочью». Некоторое время Ярцев, в нелегких условиях, прожил еще в Москве. Потом перебрался в Киев.
Его привязанность к театру не остыла. Начались годы театрально-критической работы. Он писал в «Киевской мысли». Но максимализм не оставлял его. Он всегда требовал предельного. Кого любил, тому поклонялся (Станиславскому, например). Но и к любимому был строг. То же, что отвергал, отвергал начисто. В жизни изящный, безобидный, неспособный питать злобу, в писании бывал и резок, беспощаден. Многие актеры ненавидели его.
В Киеве с ним произошел скандал. Однажды, когда в длинном своем сюртуке, скрестив на груди руки, сидел Петр Михайлович в партере, ожидая поднятия занавеса, на авансцену вышел некто и заявил, что, пока Ярцев в театре, актеры не желают играть. Ярцев поправил волосы, застегнул сюртук, встал и спокойно вышел. («Это не то! Это не главное!» – сказал, вероятно.) Но оказалось именно, что главное. За ним поднялась и ушла, в знак протеста, вся киевская пресса. Премьера осталась без рецензентов. Актерам пришлось туго – такого случая насилия над критиком еще в театре не бывало. Киевские рецензенты выступили затем сообща, печатно. За ними поднялись русские писатели и драматурги и в столицах. Актерам предстояло или сдаться, или попасть под бойкот полный. Они предпочли первое. На этот раз Петр Михайлович победил вполне, сам, разумеется, никак не действуя.
Из Киева попал затем в Петербург. Тут писал в «Речи» у Гессена и Милюкова. Художественный театр защищал страстно и во всеоружии (весной художественники всегда являлись в Петербург с новыми постановками). Станиславский окончательно пришел тогда к своей теории театра (внутреннее переживание актера, «сквозное действие» и т. п.). Всем этим он делился с Ярцевым в беседах долгих, увлекательных, всегда Петра Михайловича воодушевлявших. Так что писать он мог о Станиславском не со стороны, а изнутри. Его статьи того времени, вероятно, лучшее, что написано о Художественном театре.
Из Петербурга же уехал он однажды с томом «Братьев Карамазовых» (Достоевского всегда глубоко чтил) в Оптину. Монастырь оказал на него великое, удивительное действие. Всегда ища в жизни и в искусстве чистоты, красоты, святости, он нашел их в Оптиной. Образы старцев – он застал, если не ошибаюсь, о. о. Анатолия и Нектария, – показались ему ни с чем несравнимой высоты и красоты. «Смирись, гордый человек» – Петр Михайлович специфически гордым не был, но тщету, засоренность, грязь нашего земного рядом с истинно святым почувствовал. Своеобразно он ощутил старцев, беседующих с простым народом, – как величайших артистов, полных духовного искусства. Помню, он говорил, что в глазах, руках, благословляющем жесте Анатолия, кроме всего прочего, была несравнимая театральная красота. Она являлась непосредственным выражением духа.
С «Братьями Карамазовыми» в руках изучил он каждую мелочь оптинского пейзажа, обстановки, быта, проверяя Достоевского: и нашел, что, при всей своей фантастичности, здесь Достоевский очень точен.
Петр Михайлович написал об Оптиной несколько замечательных статей. Их следовало издать книжкой. Но не таков был Ярцев, чтобы заботиться о жизненном, реальном.
Сам родом из Коломны, почвенною любовью любил он все русское, особенно же московское. С годами эта любовь росла. В литературе он держался Достоевского, Лескова, Аполлона Григорьева. Театр признавал лишь национальный. Очень высоко в нем ставил Островского и Чехова. И в жизни – к самой Москве, ее храмам, «древлему благочестию», складу, говору, московским людям, московским извозчикам, трактирам, Замоскворечью, баням, – питал неистребимую привязанность.
Одно время, перед войной, жил в номерах на Балчуге, у Чугунного моста. Тут далеко уже было от Прониных и Мейерхольдов. Вставал очень рано, часов в шесть, и шел куда-нибудь в простую чайную. Ему нравились «человеки» в белых рубашках, расписные чашки и подносы, крутой кипяток, простые русские люди в поддевках, с намасленными проборами, торговцы, прасолы. За «парой чая» сидел Ярцев и писал, любуясь видом на Кремль, золотым лучом солнца, типами Oстровского у прилавка.
Полагал он теперь, что театр должен выражать народную душу, суть, теплоту. Щепкина считал основателем русского театра, Станиславского (родом с Хивы, за Яузою) – его достойным продолжателем.
Мы встречались в это время часто. Ездил он и ко мне в деревню. Любил землю нашу, сено, ржи, яблоки, телеги и березы, дрожки, мягкий пейзаж средней России. Мы гуляли довольно много и в Москве, тогда еще мирно-благодатной. Помню, он водил меня в трактир Егорова в Охотном ряду – примечательность московская, о которой не имел я понятия. Невзрачный двухэтажный дом рядом с «Континенталем». Внизу извозчичий трактир, во втором этаже «купецкий». Сюда сходились с раннего утра чаевничать охотнорядцы. В невысокой комнате столики, сидят распаренные купцы, пьют чай (тоже с шести утра! – в десять вечера все закрывалось). В клетках канарейки. Ярославцы и владимирцы в белом, бойко разносят подносы с чайниками, кипятком и стаканами, чудными калачами, баранками. Днем можно обедать. Тут главная приманка Егорова – удивительнейшие осетры, балыки, расстегаи, рыбные солянки – все это на грязноватых скатертях, с колченогими вилками к приборам, с деревянными солонками, но качеством не уступая первоклассным «Эрмитажам», «Прагам».
Трактир Егoрова любил Островский. Мы и обедали в комнате Островского – боковой, с камином, вечно пылавшим, с особыми канарейками, потертыми диванчиками красного бархата и большой, потемневшей картиной во всю стену, если не ошибаюсь, что-то китайское на ней изображалось.
… Тепло, пахнет ухой, поддевками, синеватый туман, дрова трещат; благообразный немолодой владимирец в белом переднике, вкуснее говорящий по-русски, чем та осетрина, которую только что поставил, подает нам шкалик «Ерофеича»; кроме егоровского трактира, не было по Москве нигде этого «Ерофеича» – николаевских времен водки, настоянной на травах. И на потертом диванчике мы сидим… сколько и о чем, можно наговориться с Петром Михайлычем, когда он в духе, в ударе – в обстановке, ему нравящейся!
***
Все это кончилось. Подошла война, революция, не до театра стало, не до поэзии и любования Москвой. В октябре впервые дрогнули купола Кремля под шрапнелями большевиков. Эти шрапнели рвались и над Савеловским переулком, вблизи Остоженки, где жил тогда Ярцев с Марией Зиновьевной. Как и другим, как всем нам, пришлось им быть свидетелями унижения и разгрома Москвы.
Я попал из деревни в Москву побежденную, – под ранним зимним снегом, с сумрачным, карканьем ворон на крестах церквей, с разрытою кое-где мостовой, чуть не со следами запекшейся крови. Впрочем, снежок все заметал – вводил в страшную зиму голода, холода, примусов, разобранных заборов.
Как и все, дрогли и голодали Ярцевы, в сумеречной квартире первого этажа по Савеловскому. Мария Зиновьевна боролась отчаянно. Откуда-то добывала крупу, хлеб… порциями аптечными. Петр Михайлович подтапливал печурку – чем придется. Он такой же все был худой, так же погружен в Русь, так же поддерживался и духовно, и внешне, все тою же Марией Зиновьевной. Когда нечего было есть, сидел покорно и тихо. Питался любимым кофе. Изможденный и тощий, в бархатной кацавейке жены, накинутой на плечи, с воротником, живописно раскинутым вокруг тонкой шеи, подобно жабо, походил остроугольным лицом и бородкой на испанского гранда. Изгнание начиналось для всех нас. Петр Михайлович мог терпеть голод и холод, но не орду, не татарщину, в чьих руках мы оказались. Крики газет, афиши на стенах, митинги, волчьи зубы вокруг, муть, кровь, заплеванность… горько и вспомнить.
Иногда в изнеможении, закрывая огромные глаза, окончательно ушедшие в пещеры, сидел он подолгу перед разогревшейся печуркой, неподвижный, полумертвый.
– Петр Михайлыч, съешь, вот тут осталась корочка.
– Нет, ничего, Машенька. Я не голоден. Я не хочу есть.
Это не то.
Голод был для него «мелочь», «не то».
Не имея ни средств, ни, в сущности сил, сверхъестественным напряжением воли женской, женской любви, вывезла-таки его Мария Зиновьевна из Москвы. Они «отступили» на Киев.
И затем… все, что полагается русским на юге: ужасы разных «властей», погромы, чуть не пешком новые отступления, до самого Понта Эвксинского, до кораблей, увозивших троянцев от пылающего Илиона.
***
Я не видел больше Ярцева, и никогда не увижу. Но теперь, вспоминая эту жизнь, полную тревог, горестей, бедности, энтузиазма и преданности высокому, с большой радостью (странно сказать: почти гордостью) думаю о завершающихся, изгнаннических ее годах. С великим счастием замечаю, что в болгарской столице не пал, а вырос Ярцев. Не растерял в Энеиде своей, а приобрел. Глубокую любовь к России вывез вместе с верной подругой, и на чужой земле потрудился.
Он работал режиссером в болгарском Народном театре. Оптина и «Святая Pycь» не прошли даром. В театральный свой труд внес он всю страстность с л у ж е н и я, бескорыстного и безоглядного. В мои годы, в Москве, лишь начинал путь обращения. В изгнании его заканчивал. Редкий, и русский случай: деятель театра, проникнутый Церковью. Это дало ему, думаю, особые силы. Сгладило угловатости, успокоило, как-то внедрило в жизнь. Все это чувствовали. И маленькая квартирка Ярцевых стала особым центром – привязанности, благожелания, любви. «Весь театр, школа, актеры, от самого маленького до большого, любили его нежно, и в трудных условиях болгарской жизни находили у него прибежище. Все болгарские писатели, художники шли к нему» (из письма). «… Дом был радостный, теплый, уютный… шли люди и находили успокоение у него. Он был очень просветленный и мудрый, очень был религиозен, посещал все службы, молился утром и вечером и ежедневно заходил в церковь».
Последняя его постановка была «Горе от ума». На ней он и надорвался. Приходилось торопиться, спешить к сроку – он сам наблюдал за швальней, носился из этажа в этаж вверх и вниз, даже не пользуясь лифтом. «Он был как на крыльях, и вся швальня работала весело и радостно для него. Они его обожали. Когда кончили все, первый портной подошел к П. М., обнял его, и стал целовать в плечи, и все повторял: «Как я вас люблю, Петр Михалич»…».
Верно и «Петр Михалич» любил простых болгарских людей, как некогда простых русских, – находиласъ в немолодом «Ярчике» теплота, доброта.
После спектакля он слег – не сразу даже к доктору обратились… причина все та же (нужно, чтоб было, чем платить). Начались жжения в груди. Смерть пришла мгновенно, он скончался на руках Марии Зиновьевны.
Ярцев, будто бы человек мирный, тихий, все свои годы воевал. С упорством, страстностью, любовью нечто отстаивал. Умер он на позициях. Самое страшное – быть побежденным: сдаться, в холоде, равнодушии. Он прекрасный пример не сдавшегося, непобежденного. Богатства он не нажил: денег не любил, они к нему не шли, тоже не любили. Но вот сломить его «князь тьмы» не смог.
В глубокой горечи его утраты чувствую и радость: не посрамил земли русской Петр Михайлыч.







