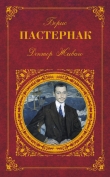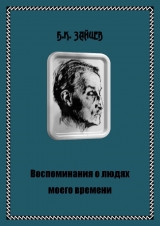
Текст книги "Воспоминания о людях моего времени"
Автор книги: Борис Зайцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
ПАМЯТИ ИВАНА И ВЕРЫ БУНИНЫХ
Перед войной случалось иногда бывать на юге Франции – в Грассе жил Бунин (прелестная вилла Бельведер – простенькая и нехитрая, но с площадки перед домом такой вид на равнину к Канн, на горы Эстерель направо… А внизу черепичные крыши Грасса, собора. Некий тосканский дух чувствовался во всем этом).
Мы гостили у Буниных – и довольно подолгу. Хорошие дни. Солнце, мир, красота. Во втором этаже жили мы с женой, я кое-что писал. Рядом комната Веры Буниной. Внизу, в кабинете своем, рядом со столовой, – Иван. Выбежит в столовую, когда завтракать уже садимся, худой, тонкий, изящный, с яростью на меня посмотрит, крикнет:
– Тридцать лет вижу у тебя каждый раз запятую перед «и»!
Нет, невозможно!
И с той же яростью, чуть не тигриной легкостью захлопнет дверь, точно я враг и нанес ему смертельное оскорбление.
Я не пугаюсь – слишком хорошо его знаю. Он и на Веру кричит (свою), и на себя самого. А кроме того, с «юности моей» он мне нравился эстетически, художнически. Натуру его знал я отлично, чего можно, чего нельзя от него ждать – все известно. А вот нравился.
Уже после премии Нобелевской, когда выходило здесь собрание его сочинений, он держал корректуру в этом самом Грассе.
Сижу у себя наверху, ставлю запятые, вопреки грамматике, перед и, вдруг внизу опять хлопает дверь и на весь дом крик: – Писатель с мировым именем, – и вдруг написал такое… (скажем элегантно: «удобрение»).
Это значит, читает в корректуре «Деревню» и не одобряет. «Ты им доволен ли, взыскательный художник…» – да, взыскательным художником он был, конечно.
Мы с женой слушали эту «Деревню» еще в Москве, он сам читал – брату Юлию, мне да двум Верам, в доме Муромцевых, родителей его жены. Чтец был превосходный.
Сказать правду, эта «Деревня» никогда мне близка не была, Бог с ней, мало нравилась. А вот он вдруг теперь распалился: такой уж нрав.
В Грассе, под провансальским солнцем, написал он многое свое основное, «Жизнь Арсеньева», «Митину любовь», «Цикады».
***
Мы в Грассе только временно бывали, а два лета жили в департаменте Вар, в именьице друзей. Это совсем другое дело. Пустынное и поэтическое, глухое место – леса, оливки, виноградники, ничего яркого и нарядного, но великое молчание и обаянье страны древней, высоко-благородной.
Дом «наш» небольшой, вроде фермы. Ему двести лет, стены расписаны в столовой какими-то наивными фресками, но все это очень мило. Свое вино, свой виноградник. В жаркий солнечный день хорошо подойти к лозам винограда «столового» (для еды, не для вина), сорвать гроздь, солнцем прогретую, и тут же «лозы виноградной» вкусить. Сходить под вечер пешком в Торонэ, деревушку в километре, где худенький молодой аббат наигрывает в одиночестве на органе (иной раз и он к нам заходит отвести душу от пейзан, к церкви совсем равнодушных. Но спрашивает опасливо: уважаем ли мы, католицизм? Ничего, уважаем).
Днем пишешь, в полной тишине, в свете, под музыку цикад.
Их серебро все мы – жена, дочь, я, очень любили – сколь мелодичен звон их, непрерывный, негромкий и не надоедливый: какая-то бесконечная симфония юга и солнца. А вечером совы – тоже друзья, ауканье их нежно.
Хозяев нет в доме, они в других краях. В соседнем домике живет Фердинанд, провансалец, вроде приказчика, типа Тартарена из Тараскона (Додэ) и жена его, толстая итальянка Мадлэна. Она и готовит нам. Обедаем под каштанами, на воздухе, под зелено-золотой, божественной сетью солнца сквозь листву каштанов.
Однообразно, тихо, патриархально. Девочка рисует после обеда свои детские рисуночки, за этим же столом, вечерние прогyлки – нередко в аббатство Торонэ – заброшенный и замечательный цистерцианский монастырь. Там тоже цикады, тоже вечером певучие совушки провансальские.
Вдруг в идиллии этой некое и событие: к нам едут Иван с Верой – Бунины! Из Грасса, навестить. Ну, очень рады.
В назначенный день автомобиль виден из-под наших каштанов, нерешительно он останавливается у поворота с большой дороги, наконец к нам, на скромную дорожку сворачивает. Да, Иван в каком-то шлеме, как путешественник в Индию, коричневатом, Вера в светлом платье, такая же спокойная и сдержанная, как и в Москве девушкой была, в доме родителей своих, Муромцевых.
– Ну вот, дорогой, в какую трущобу забрался, насилу нашли! Что, вы тут одни совсем? Скучища, наверно?
– Ничего, не скучаем.
– Это тебе не Притыкино твое. Вера, вылезай, вылезай!
Пока Вера целуется с моей Верой, он уже нетерпеливо рвется куда-то.
– Показывай, показывай свое Притыкино! Где у вас тут скотный двор? Конюшни где? Сколько лошадей держишь? Почем поденным платишь?
Но это все «так». В общем, он благодушен, в хорошем настроении осматривает дом, заходит в мою комнату – очень скромную, с несколькими рукописями да книжками о Провансе – собственно, вроде кельи.
– Тут вот и «творишь»… Твори, твори. А винцо у вас собственное? Виноградники развел, оливки… Ну, куда там Притыкину угнаться…
И все-таки старый, неказистый, но чем-то благородный дом ему нравится: может быть, неким древним своим запахом, тишиной, прохладой, жужжаньем отдельных шмелей и снаружи треском цикад.
– Да, я сам это люблю, – говорит он уже серьезно. – И Прованс, и глушь, и цикад, и каштаны.
Завтракаем внизу, в полутемной столовой. Иван надевает пенсне, разглядывает «живопись» на стенах.
– Это что же, Рафаэль изображал?
– Да, Рафаэль. Здешний. А жил тут полоумный одинокий старик, владелец имения. Здесь и умер. Будто бы призрак его ходит ночью по комнатам и постукивает.
– Ну, это вранье, конечно. Брехня. Призрак! Пьяница, наверно, был, спивался в одиночку.
– Бог его знает.
– А ты видел? Как он ходит и постукивает?
– Нет, не видел.
– Ну вот то-то и оно-то, душа моя. Все вранье.
Я подливаю ему «нашего» пюжетского вина.
– Будет, дорогой. Винцо хоть свое, притыкинское, а довольно-таки… (и опять словцо на четвертую букву алфавита).
***
Под вечер мы ходили в монастырь Торонэ. Какою-то тропинкой, среди мелкого леса – и вот другая тропинка пересекает ее – в старых, замшелых плитах-камнях.
– Иван, смотри, это древняя дорога в аббатство Торонэ.
По ней ездил сюда на ослике св. Бернард. Тот, кто Крестовые походы проповедовал. Бернард Клервоский – он и считается основателем аббатства. Еще довольно жарко, пахнет нагретой хвоей, цикады неумолчны. Выходим на большую дорогу, современную. Налево красные россыпи боксита, невдалеке романского стиля колокольня.
– Клервоский, Клервоский… – я этих Крестовых походов не видал… а вообще хорошо. Мне нравится. Он снимает свой шлем.
– Да, братец ты мой, на ослике… Как Спаситель, «на осляти».
Иван делается вдруг серьезным – это не шуточки и «Притыкино», сейчас он поэт, как и подобает ему быть. Такой, как некогда читал стихи свои у меня на Спиридоновке.
– Да-а, святой Бернард…
Удивительна эта заброшенность аббатства Торонэ, одного из знаменитых памятников романской архитектуры. Как все сурово, строго тут! Ни украшений, никакой радости для глаза. Как будто сказано: «К чему обольщенья? Веруй, молись».
Голые каменные стены храма, сумрачная трапезная для монахов, портики во дворе на приземистых колоннах, нехитрый колодезь – и ни души! Даже привратника нет. Входи с дороги, кто хочет. Правда, и украсть нечего: сплошной камень, да так уж прочно приторочено, что веками стоит.
Во дворе присаживаемся у колодца, Иван закуривает.
– Да, это не то, что у нас в Ельце или у вас там в Кашире.
А мне нравится. Ей-Богу, нравится. Ты посмотри, как строили… Да-а, писали не гуляли.
На закате солнца мы вернулись уж домой, взошли на взгорье за нашим домом, посидели на поваленном дереве. Тут другое. С возвышенности далеко видно – старинный городишко Лорг, леса, оливки, виноградники, окаймлено все невысокими горами, в туманной синеве сейчас. Это Вар, департамент Прованса, пустынный, поэтический, и откуда пейзане все-таки стремятся перебраться в город или ближе к городу. Поэтично, но и скучно. Сколько заброшенных виноградников, покинутых домов крестьянских, запустелых огородов и вообще развалин. Одно аббатство Торонэ неуязвимо. Таким заезжим и случайным, как мы с Иваном, – нравится, а жить тут постоянно, и особенно зимой… (Воображаю, что за холодище в нашем доме, когда мистраль задует!)
Но сейчас мистраля нет и зимы нет. Есть наступающий вечер, вдруг ставший облачным, в сиреневых сумерках. Спyскаемся домой – Иван начинает торопиться.
– На коней, на коней!!
Внизу, близ дома нашего, видны огни автомобиля.
– Видишь, пора! До Грасса еще далеко. Ночевать тут, что ли? Вера, поторапливайся!
И быстрой, сухой походкой, тонкий и бодрый сбегает вниз. (В движениях моложе своих лет.)
Фердинанд разглагольствует о чем-то с его шофером. Вероятно, что-нибудь по-провансальски-тартаренски врет.
– Ну, душа моя, прощай. Нет, обедать не останусь. Две Веры целуются. Иван, быстро вскакивает в машину. – У-у, Вера, всегда возишься!
– Вот и я сажусь, Ян. Ничего я не вожусь.
– Прощайте! Хорошо у вас тут в Притыкине!
Через несколько минут автомобиль катит к большой дороге. Сквозь деревья мелькают золотые огни его, потом исчезают. Как мгновенно прилетели Иван с Верой, так и улетели.
Так улетело теперь и все то, прошлое, далекое. Вспоминаю обоих во времена бодрости их и хорошей жизни. Вспоминаю и Грасс, где подолгу мы с женой – подругой юности его Веры – гостили. Горестно представить себе предсмертные годы Ивана Алексеевича (только что прочел о них), ужасно грустно. А теперь и Вера ушла. Но вот в памяти они тогдашние остались, как и Прованс в солнце и золоте, Грасс, Пюжет.
О ЛЮБВИ (БАЛТРУШАЙТИС)
И я тебя, мой день,
мой свет небесный,
боготворю!
Ю. Балтрушайтис
С Юргисом Казимировичем и Марией Ивановной знакомство мое давнее, еще со времен Москвы. «Мрачный как скалы Балтрушайтис», назвал его некогда Бальмонт.
Такие слова он любил. А Балтрушайтис был просто умен, не словоохотлив и замкнут, без всякого мрака. В жизни его литературной не было ни шума, ни широкой известности. Он шел медленно и одиноко, в благородной отдаленности. Принадлежал к символистам московским старшего поколения (Бальмонт, Брюсов), их сверстник и сотоварищ. Печатался в «Скорпионе», «Весах». Писал не так много: всего вышло в России две книги стихов: «Земные ступени», «Горная тропа». Читатели знали его мало, писатели ценили и уважали. В 1918 году Юргис Казимирович был избран председателем Союза писателей. На следующий год получил назначение литовским посланником (был литовского происхождения) – в Союзе его заменил другой.
Но личных связей с писателями он не прерывал. В 1920 году помог уехать за границу Бальмонту, в 1922-м мне с семьей в том же содействовал. С тех пор так и остался на дипломатическом посту в Москве до самой войны, погубившей самостоятельность Литвы.
Посланничество его кончилось, Юргис Казимирович с Марией Ивановной поселились во Франции. Здесь вновь пришлось с обоими встретиться, уже при немцах. Свидание произошло зимой, в ледяном кафе Closerie de Lilas – очень дружественно и тепло. Оба они мало изменились. Как тихо и дружно жили раньше, так же и продолжали. Но холод был не в одном Closerie de Lilas – дома у них топить тоже было нечем, Балтрушайтис писал свои литовские поэмы и мерз.
Вместе похоронили мы Бальмонта, тоже мучительной зимой, в условиях тяжких. (Идя за гробом, скромно и грустно улыбнувшись, Мария Ивановна сказала: «Бальмонт был шафером на нашей с Юргисом свадьбе… очень давно».)
Но холода и недоедания эти и самому «Юргису» не прошли даром: в январе 1944 года он скончался.
Произошло то, что для людей, вместе и в любви много лет проживших, всегда самое страшное: разлука.
С виду Мария Ивановна, оставшись одна, не изменилась: такая же спокойная и приветливая, негромко говорящая на отличном московском наречии (урожденная Оловянишникова), какая-то «основательная», «достойная». Старинная мебель в гостиной, вывезенная еще из Москвы, тихий ковер, на стенах гравюры Пиранези, книги в хороших переплетах…
А что от жизни осталось, сосредоточилось на покойном.
Человек и ушел, но для любви он тут, рядом… – не смерти убить его.
Мария Ивановна вполне погрузилась в рукописи и письма.
Все сошлось на писаниях «Юргиса». Разбирала архив его, размещала что надо и подбирала. Кое-что напечатала в «Новом журнале», главное же, готовила книгу его стихов. Начала, сколько знаю, и собственные воспоминания о том времени. В центре, разумеется, покойный.
Ее заботами, трудами и любовью издан лежащий передо мной том: «Лилия и Серп» – белая с голубым гербом изящная обложка. Под ней избранные стихи Балтрушайтиса за много лет.
***
Его раннее писание помню смутно – давно это было, те книги стали редкостью. Здесь, в эмиграции, как бы новая встреча. Общий облик, однако, все тот же, сильней только звук религиозности. Были ли мы тогда сами иные, он ли менялся, но это сейчас лучше слышишь. Замкнутость, немногословие, склонность к раздумьям в нем прежняя. Поэт он философской складки, мистик, благоговеющий перед Творцом, настроения молитвенного. Несколько однообразный, нелегкий, но без всякой дешевки и притязания на успех. Можно представить себе его путником, вот он шагает медлительно, опираясь на посох, по тропам не весьма гладким, но в гору. Вроде Сорделло, трубадура в Чистилище.
Иногда Тютчев вспоминается – по склонности к космическому, некой ночной тишине, возвышенной и отрешенной настроенности. Но в обаянии словесном кому угнаться за Тютчевым? И страстности, кипения тютчевского (в любви) тоже нет. Много стихов названо «Раздумья» – это любил Баратынский.
Но у Балтрушайтиса нет беспросветности. Он был сумрачен с виду (как и на портрете, открывающем книгу, – не считаю его удачным). Но это внешность. Конечное же в нем – поклонение, свет, Божество. И любовь. И вот это, в закатной полосе, особенно ему удавалось. К нему была направлена верная любовь, любовь шла и из его книги. Значит, и из жизни. Не терзающая страсть, как на закате Тютчева, а спокойная и примиренная любовь – боготворение и благодарность.
Пять стихотворений в «Лилии и Серпе» посвящены «Марии Б.» – все изошли из одного источника.
Ты принесла в мой путь, так часто тесный,
Как в ночь зарю;
И я тебя, мой день, мой свет небесный,
боготворю.
***
К гордости, чести литературы русской и русской женщины, я вижу ряд преданных, смиренных в любви к ушедшим вдов. Имен не называю. Но бескорыстное благоговение их единит. Творчество ушедшего друга – их жизнь. Они собирают письма, тратят последнее на издание книг, пишут воспоминания, иногда обрабатывают недоконченное. «Если мне удастся выпустить в свет его труд, значит, Господь не напрасно дал эти годы жизни. Я спокойно уйду», – это слова не Марии Ивановны, но она вполне могла бы их сказать (если и не говорила!).
Годами нести крест одинокой, достойной жизни, годами трудиться не для себя, а для славы ушедшего, годами хранить могилу, ее украшать, если можно, и памятник воздвигнуть: каменный или нерукотворный – годами оберегать память – это и есть та любовь, над которой ничто не властно.
… Мы возвратились в Париж в начале августа. На столе у меня лежала «Лилия и Серп» с надписью Марии Ивановны, начинавшейся словами: «Привет от Юргиса».
Мы знали, что она плохо себя чувствовала еще в июле.
Жена тотчас поехала к ней. Но, приехав, узнала, что уже два дня покоится она на Монружском кладбище, рядом со своим Юргисом: припадок сердца.
Слово в слово – «Я эту книгу выпущу и уйду».
ВОЗВРАЩАЯСЬ ОТ ВСЕНОЩНОЙ
Пойдем по rue de Passy, – сказала жена, когда мы спускались с крыльца, выходя из церкви.
Было половина восьмого, тихий августовский вечер. Сияние его теплело еще в перистых облачках – они высоки, легки. Розовеющее и зеленоватое господствует в небе.
Я не очень люблю rue de Passy. Она кажется мне несколько серой. Но жена не согласилась.
– Нет, помнишь, Бальмонт говорил: «это парижский Арбат».
Правда, похоже.
Может быть, – я не стал спорить. И Бальмонт говорил что-то в этом роде… – ужасно давно, когда в первый раз мы попали в Париж, когда после деревенской Москвы мне казался этот город некиим Вавилоном, хотя мы ездили в нем на омнибусах, в фиакрах, а метро всего две линии существовало, и одна как раз доходила до Пасси.
Бальмонт жил на rue Singer, в двух шагах отсюда. Мы не раз у него обедали. В розоватом тумане из окна шестого этажа был виден Медон. Потом темнело, зажигались там огоньки. Бальмонт победно потрясал рыжеватой бородкой, повествовал что-нибудь об Уайльде или По, сердился на Метерлинка. («Этот жирный фламандец не был учтив с поэтом» – Метерлинк жил рядом и холодно его принял.) Екатерина Алексеевна спокойно, дружелюбно угощала нас.
– В сущности, это Пасси для нас вроде кладбища, – сказал я. Жена согласилась, и трудно, правда, было не согласиться. Ни Бальмонта нет, ни Екатерины Алексеевны, ни второй его жены, Елены Константиновны, да и многих других.
Мы шли медленно, по узенькому тротуару. Париж безлюден. В этом есть свое очарование, прозрачная пустынность августа в столице. Вечер гас. Но принимал сочувственно, как бы приветливо. Этот вечер явно был расположен к нам и способствовал неколдовскому вызыванию теней. Нет, это не заклинание. Просто – воспоминание: то, чему, может быть, и не следует предаваться, но иногда не поддаться трудно.
Вон там, на улице Colonel Bonnet, жили Мережковские, в доме, которого и вовсе не было в первый приезд наш сюда. Гиппиус полулежала в гостиной, покуривала папироску и читала. Дмитрий Сергеевич выходил в туфлях из кабинета – маленький, слегка сгорбленный, потирая рукой лоб. («Зина, а к чаю есть пирожные?» – «Не знаю, надо Володю спросить…» – пирожные пирожными, но до конца дней своих он трудился над Августинами, Паскалями..)
Тоже недалеко, на углу Raynouard u Chemoviz, заседал в пятом этаже «Илюша» Фондаминский, всем помогал, всех устраивал, мирил, был каким-то премудрым Соломоном «Современных записок» (вблизи гнездившихся, на гие Vineuse). Неистощима была его благожелательность к людям.
За спиною же у нас гие Scheffer, где тихо процветало замечательное книжное сокровище. Павел Николаевич Апостол собирал его десятки лет. Большеголовый, элегантно-невысокий, на тоненьких ножках, был он образцом порядочности и культуры, завсегдатай антикваров, аукционеров, букинистов. Редкостные Олсарии, Герберштейны, всякие старинные издания, роскошные и просто художественные, в превосходных переплетах украшали гостиную (книги на полках в три ряда вглубь!). Еврейское происхождение не мешало ему некогда служить в Париже по Министерству финансов (Императорскому русскому). Но Гитлер взглянул иначе. В последний раз видели мы Павла Николаевича в некоем убежище Ротшильда, за Лионским вокзалом – пленником немцев. (Кажется, в 43-м г.) Он от них и погиб, и супруга его, и библиотека. Погиб также Илюша. Вечная память и ему с женой, и Апостолу с Ольгой Николаевной.
А вот здесь, на гие Jean Bologne, прожили мы первые две недели эмигрантской жизни в Париже у Михаила Андреевича Осоргина, приятеля молодых лет, ныне покойного.
***
Русская зона Парижа простирается и на Отёй. Возвращаясь домой по метро, на станции Exelmans вспомнили о Шмелеве – недавно еще «обитал» он в этих краях.
Незадолго до кончины мы его навестили. Он сам отворил, не без трудности, потом зажег свет, лег на постель, худенький, слабый – весьма изменился. Выросла у него борода, небольшая, сребристо-седая, очень его украсившая.
Сначала говорил тихо, потом воодушевился, потрясал худым пальцем, как бы заклинательно, бородка, и этот палец, и всклокоченные на голове волосы рисовали на стене остроугольную, прыгающую тень.
Всегда был Иван Сергеевич – гyстая, древняя Москва из Замоскворечья. Но в тот вечер особенно проступил в нем именно век Василия Блаженного. Даже крестился и ударял перстом в грудь так, как, наверно, делали давние его предки на папертях московских церквей при Иоанне Грозном.
Потом успокоился, встал. За ширмою надел бархатную куртку, волосы, бороду пригладил, сел в кресло к письменному столу и стал несколько другой – тихий и почти даже красивый (чего раньше не было). Во всяком случае, благообразный. Что-то в нем трогало и радовало.
– Если Господь даст жизни еще год, кончу роман…
И вновь перекрестился. И все, что ни говорил, было скромно и ласково. Мы тоже с ним были ласковы. На прощанье он подарил нам «Солнце мертвых» с дружеской надписью. И вот хорошо, простились мы братски.
А он умер скоро. Не год, а два месяца оставалось ему жизни.
Скончался тоже благообразно, в православном монастырьке под Парижем.
Комнату его последнего вздоха хорошо знаю. Сам жил в ней не раз, когда и обители еще там не было. Но думал ли тогда, несколько лет назад, что именно в ней, в первый же день приезда «на отдых», скончается Иван Сергеевич Шмелев, который и знаком-то не был с тогдашним хозяином и владельцем усадьбы?
Значит же, где-то было написано: «Быть по сему».
***
Я довольно давно заметил, что четыре старых русских писателя, все из Москвы, все Россией рожденные и в ней сложившиеся, живут по линии метро Pont de Sevres – Montreuil. Бунин ближе всех к центру, затем Ремизов, Шмелев, дальше всех я. Теперь остался я один. Но это все ничего. Не вечно же тут жить. Не будет и меня. Жизнь идет – «жили-были». Не нами литература началась, не нами кончится. Все хорошо, все в порядке. Вот мы возвращаемся домой от всенощной. Всенощная эта отошла, но она вечна, так же будет звучать через сотни лет, так же будет в конце:
– Слава Тебе, показавшему нам свет! Хор так же ответит:
– Слава в вышних Богy, и на земли мир, в человецех благоволение.
Другие люди опустятся на колени. Но в этом ничего нет плохого. Нечего бунтовать. Мы уйдем, но все правильно. Ничего не случилось.