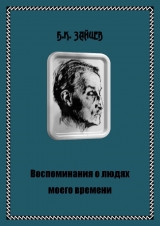
Текст книги "Воспоминания о людях моего времени"
Автор книги: Борис Зайцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
П. П. МУРАТОВ
Давно, вероятно еще в Москве, он говорил мне: – Мой отец умер шестидесяти девяти лет. Я его не переживу. Исполнится шестьдесят девять, и довольно…
Ему и исполнилось – в марте этого года. А в октябре он скончался, в имении друзей в Ирландии.
***
Мы познакомились в 1903 году, он только что кончил Путейский институт в Петербурге, не отбывал ли в Москве воинской повинности? Жил, во всяком случае, у Никитских ворот в доме брата, офицера генерального штаба Муратова – вместе с тем самым отцом, тихим стареньким военным врачом чеховской формации, переживать которого не собирался. (Когда вспоминаю этого отца, его худенькую скромную фигурку в военной тужурке – он бесшумно читает «Русские ведомости» и бесшумно живет – то вот она, фраза няньки из «Дяди Вани»: «Все мы у Бога приживалы».)
Но Павел Павлович (мы тогда звали его дружески «Патя» – так до старости и осталось) – он тогда еще был юн, с мягкими рыжеватыми усиками, боковым пробором на голове, карими, очень умными глазами. Держался скромно. Иногда несколько застенчиво ухмылялся… «Да, Боря, гм…» Ходил уже тогда по-литераторски, а не по-военному, – левое плечо свисало, и вообще по всему облику мало походил на «фронтовика». Нечто весьма располагающее и своеобразно-милое сразу в нем чувствовалось.
При такой тихой внешности обладал способностью постоянно увлекаться – в чем, собственно, и прошла вся его жизнь. При его одаренности это давало иногда плоды замечательные.
Первое из известных мне увлечений Муратова было военное дело, вернее сказать, стратегия, фантазии о движении войсковых масс, флотов и т. п. В 1904 году писал он вместе с братом в московских газетах: он о морской войне, брат о сухопутной (тогда воевали в Японии). Оба были оптимистами… – и на бумаге выходило много лучше, чем в действительности. Но читалось с интересом: вроде военного «магического рассказа».
После войны, кончившейся не так, как предполагали стратеги, Павел Павлович уехал в Париж, там занялся современной французской живописью. Помню весну 1906 года, московский журнальчик «Зори» – Муратов присылал нам из Парижа статьи о новейших художниках. В то время Италии еще не знал и к тому азарту, с каким мы с женой восхищались Италией на всех перекрестках Москвы, относился довольно равнодушно. Его занимали Матиссы, Гогены. Однако же вскоре и он попал в Италию и, так же как мы, навсегда попался. Это была роковая встреча: внесла его имя в нашу культуру и литературу – в высокой и благородной форме.
***
Три тома «Образов Италии» посвящены мне: «в воспоминание о счастливых днях». В этом сходились мы вполне: для обоих лучшие дни были – Италия, а его слова относятся к 1908 году, когда вместе жили мы и во Флоренции, и в Риме.
Во Флоренции в том самом «Albergo Nuovo Corona d'ltalia», который открыли мы с женой еще в 1904 году. (Существует и сейчас, и даже очень процвел.) Оттуда вместе ходили смотреть «Vedova allegra» в Politeama Nazionale, через улицу, за гроши видели знаменитого комика Бенини, вместе помирали со смеху.
Под Римом солнечный ноябрьский день с блаженной тишиной Кампаньи проводили на вилле Адриана, на солнце завтракали, запивая спагетти, сыр прохладным фраскати. (Это вино названо по городку Фраскати.) Рядом стоял осел и мило-бесстыдно ревел от избытка сил. Вдали, за серебристыми оливками, в голубовато-златистом тумане сияли горы. Да, есть чем помянуть… Правда, «счастливые дни» – были они счастливы и в 1911 году опять в Риме (где с Павлом Павловичем и его женой Екатериной Сергеевной – весело мы встречали Новый год). «Образы Италии» и явились плодом этих дней. Их корни в итальянской земле – как все существенное, они рождены любовью. Успех «Образов» был большой, непререкаемый. В русской литературе нет ничего им равного по артистичности переживания Италии, по познаниям и изяществу исполнения. Идут эти книги в тон и с той полосой русского духовного развития, когда культура наша, в некоем недолгом «ренессансе» или «серебряном веке», выходила из провинциализма конца XIX столетия к краткому, трагическому цветению начала ХХ.
***
Война перевернула его жизнь. Какие уж там Италии! Он тотчас оказался призван, как артиллерийский офицер. Сначала в гаубичную батарею на австрийский фронт, потом в зенитную артиллерию. Брата назначили комендантом Севастополя. «Патя» заведовал воздушной обороной крепости. Не знаю, много ли он сбил немецких аэропланов, да и вообще не была ли тогда воздушная война просто детской забавой.
К революции он вернулся в Москву – эти страшные годы мы виделись часто, и оба старались, уходя в литературу, совсем отдаленную от современности, уходить и от проклятой этой современности.
Читали, выступали в Studio Italiano – нечто вроде самодельной академии гуманитарных знаний.
Вот наше Studio Italiano. В Лавке писателей вывешивается плакат «Цикл Рафаэля», «Венеция», «Данте». Председатель этого учреждения Муратов. Члены – Осоргин, Дживелегов, Грифцов, я и др. Читаем в аудитории на углу Мерзляковского и Поварской, там были Высшие женские курсы. В Дантовском цикле у нас и «дантовский пейзаж», и Беатриче, и Дантова символика.
Но не в одном этом был «уход» Муратова – как раз тогда начал он свои опыты в художественной прозе – где-то в Николо-Песковском переулке, недалеко от нашего Кривоарбатского. Урывая время от службы в Охране памятников искусства, написал роман «Эгерия», сборник «Магические рассказы» (есть у него еще книга «Герои и героини»).
«Образы Италии» существеннее и благодарней, сама тема их более привлекает. Их место в литературе нашей неоспоримей. Но роман и рассказы, при некоторой бледности, книжности, слишком заметной связи (в языке особенно) с Западом, едва ли не больше еще раскрывают внутренний его мир: смесь поэта, мечтателя и в фантазии – авантюриста. В жизни он был и практичен, и проникнут внутренно романтизмом. Было в нем и весьма «реальное»; но более глубокий слой натуры – тяготенье к магическому, героическому и необыкновенному – к подвигам, необычайным приключениям, «невозможной» любви. «Эгерия» – это Рим ХVIII века, действуют там разные шведы, графы, графини, иллюминаты, художники, есть Венеция и окрестности ее, и если персонажи скорей названы, чем написаны, все же некая терпкая и пронзающая местами поэзия сочится из этой книги. Можно говорить о маниеризме языка, все-таки обаяние есть.
«Магические рассказы» еще бесплотнее, местами совсем фантастичны и в одиночестве своем, в плетении словесных кружев из фантазий особенно сейчас трогательны: кому, для кого ныне такое? А между тем, несмотря на всю зависимость от Запада, рождено это своеобразной русской душой.
***
Почти в то же время, что и Италией, увлекся он древними русскими иконами. Дело специалистов определить его долю и «вклад» в то движение, которое вывело русскую икону ХV века на свет Божий, установило новый взгляд на нее – насколько понимаю, тут есть общее с открытием прерафаэлитов в половине XIX столетия. Во всяком случае знаю, что Павел Павлович сделал здесь очень много (эстетическая оценка иконописи, упущенная прежними археологами).
Иконами занимался он рьяно, разыскивал их вместе с Остроуховым, писал о них, принимал участие в выставках, водил знакомство с иконописцами и реставраторами из старообрядцев (трогательные типы из репертуара Лескова). Помню, водил нас к ним куда-то за Рогожскую заставу в старообрядческую церковь с удивительным древним иконостасом.
Имел отношение и к работам (кажется, Грабаря) по расчистке фресок в московских соборах. Странствовал на север, в разные Кирилло-Белозерские, Ферапонтовы монастыри. Перед началом войны был редактором художественного журнала «София» в Москве – там писал и о Гауденцио Феррари и о древних наших иконах.
***
Во время революции, повторяю, мы часто и дружески встречались. И в Союзе писателей, в Studio Italiano, Лавке писателей, заходил он и в огромную нашу комнату с печкой посредине, в Кривоарбатском.
Когда начался нэп и открылась свободная торговля, иногда мы у нас даже веселились.
«Патя» вынимал пять миллионов, моя дочь, потряхивая полудетскими косичками, бежала на Арбат, возвращалась с бутылкою Нюи.
В один теплый августовский вечер 1921 года, когда в особняке на Собачьей Площадке чекисты арестовали весь Комитет Помощи Голодающим, членами которого мы оба были, Павел Павлович вдруг (с опозданием) появился около дома.
– Куда, куда ты? – крикнул я ему в окно. – Уходи, тут… Но он ухмыльнулся («ну, Боря, что там…»), не замедлил шага. Неторопливо опуская левое плечо по-литераторски, перешагнул заветную черту, отделявшую нас от свободы.
– Чего там… будем вместе.
И первую ночь на Лубянке, в камере «Конторы Аванесова», мы провели рядом, на довольно жестких нарах. В третьем часу привели молодого Виппера, книгу которого «Тинторетто» я купил здесь в прошлом году, и тотчас вспомнил ту ночь и как Павел Павлович сонно приподнялся, посмотрел на вошедшего, опять усмехнулся, сказал: – Ну, вот, вот и еще… Отодвинувшись слегка, указал ему место с собою рядом. Те немногие дни, что мы провели в тюрьме (нас скоро выпустили), не были еще особенно скучны. Для развлечения – себя и других – мы читали лекции: Муратов о древних иконах, я что-то по литературе, Виппер по истории.
В 22-м году я едва не умер – от тифа. Как и ближайшие мои, Павел Павлович тяжко переживал это.
Верю, что добрым душевным устремлением близких я и обязан почти чудесным выздоровлением.
***
С 22-го года почти все мы, «верхушка из Москвы», оказались за рубежом. Тут пути скрещивались, расходились, опять встречались. Берлин, Рим, Париж. В Риме он и остался. Писал по истории искусства, позже перебрался в Париж, выпустил по-французски «Русские иконы», по-итальянски «Фрате Анджелико», затем книгу о готической скульптуре.
В «Возрождении» писал небольшие, острые, иногда политические, всегда своеобразные, и никакого отношения к Италии не имевшие статьи (например, превосходно написанный «Русский пейзаж»). Впрочем, «не своеобразного» вообще ничего не мог ни говорить, ни писать. С этим умнейшим человеком, которому ничего не надо было объяснять, можно было соглашаться или не соглашаться, но никак не приходилось его упрекать за «середину», «золотую»: он всегда видел вещи с особенной, своей точки. Один из оригинальнейших, интереснейших собеседников, каких доводилось знать.
Дух некоторой авантюры завлек его в Японию, он писал и оттуда. В Токио оказался без средств, едва добрался до Сан-Франциско, но в Америке сейчас же оправился, стал читать лекции – и вернулся в Париж, точно странник какого-то собственного произведения.
В Париже поселился уединенно и начал огромную новую работу: историю русско-германской войны 1914 года!
Однажды, зайдя к нему, я спросил: – Ну как, много написал?
– Да-а… порядочно. Я сейчас на две тысячи пятнадцатой странице.
– А всего сколько будет?
– Думаю, тысяч пять. То есть моих, писаных…
Хоть и «писаных», все-таки я подумал: однако!
Но вторая война прервала этот труд. Он переселился в Англию, к которой всегда имел пристрастие. Знал язык, любил литературу ее. Кроме классиков, ценил Уолтера Пэтера, Вернон Ли (книга ее вышла по-русски в переводе Е. С. Муратовой). Считаю, что и к Италии у него был родственный с англичанами подход.
В Лондоне написал – как бы вспоминая юношеские свои опыты – часть истории самоновейшей войны (в сотрудничестве с г. Аллен. Если не ошибаюсь, опять русско-германской ее части) – это уже по-английски.
Годы войны провел в Лондоне. Бомбардировки, под конец летающие V-2 измучили и его сердце, и нервы. К счастью, удалось перебраться в Ирландию, в большое имение друзей, в тишину, сельское уединение.
***
Перед первой войной Павел Павлович раскопал удивительного англичанина ХVШ века – Бекфорда, написавшего на французском языке полу-роман-полу-сказку «Ватек»: редкостную по красоте и изяществу вещь. «Ватеком» этим меня пленил. Мы с женой перевели текст. Муратов написал вступительную статью, и в конце 1911 года, в Риме у Porta Pinciana я держал уже корректуру «Ватека» – пред глазами моими поднимались стены Аврелиана, за которыми некогда Велизарий защищал Рим.
Павлу Павловичу нравился облик таинственного Бекфорда, автора «Ватека». Нравилось, как уединился он под конец жизни в огромном своем Фонтхилле, приказав обнести все владение высокой стеной, чтобы окончательно отделиться от мира. Там вел жизнь затворническую, отчасти и колдовскую. В «Магических рассказах» появляется у Муратова некий лорд Эльмор, как бы трагический вариант Бекфорда, тоже отделяющий себя стеной от жизни. Ни на Бекфорда, ни на Эльмора Муратов, конечно, не походил. Все же последние его годы, в большом ирландском имении, в одиночестве, книжном богатстве библиотеки, отшельнической жизни, вызывают воспоминание о его собственном писании, о каком-то недописанном персонаже его литературы.
Нельзя сказать, чтоб и раньше он обращен был душой к людям, – нет, скорее к своим интеллектуальным увлечениям. Хоть и был членом Помгола[10]10
Комитет помощи голодающим
[Закрыть] и даже «пострадал за свои убеждения», но это случайность. Узор его судьбы иной: книги, литература, одинокое творчество – в этом он и преуспевал, как бы разнообразны ни были эти увлечения.
В Ирландии привлекали его две вещи: история – на этот раз он занялся отношениями Англии и России в XVI веке – и садоводство.
Что навело его на эпоху Иоанна Грозного, я не знаю. Но какие-то тропинки неисхоженные он нашел, что-то свое, никем не сказанное, конечно, сказал… (это чувствовалось по письмам) – смерть оборвала все. А деревенский дом остался с рукописями его (наклон строк вниз – признак меланхолического склада), с грудою книг по XVI веку.
Садоводство во многом явилось, думаю, из условий жизни (хотя он всегда любил цветы, растения). Это знакомо. Живя в деревне, рядом с большим садом, в одиночестве, охотно занимаешься им, окапываешь яблони, спиливаешь сухие сучья, кусачкой обрезаешь побеги, на время забываешь о надвигающихся бедствиях. Павел Павлыч поставил это в Ирландии на научную почву: выписываются книги, он сам учится – и вот скоро он уже знаток своего дела. Не только запущенный старый сад обратился в образцовый, но даже соседи приезжали учиться плодоводству и садовой премудрости.
Друзья – владельцы имения – нередко уезжали в дальние путешествия. Из-за болезни сердца Павел Павлович никуда не мог тронуться. И раньше, в молодые годы, он чувствовал некое расположение к простым, народным людям. Теперь сближался еще более. Его считали не совсем обычным – что и верно. «Профессором» назвали в околотке. Может быть, для ирландских земледельцев был он отчасти и таинственным заморским персонажем.
Будто в некоей литературной постановке, последний его час пришел в одиночестве. Он скончался от сердечного припадка, безболезненно и мирно, как и жил. Как и у лорда Эльмора, при нем находился только француз-повар, недавно выписанный из Парижа.
«ДУХ ГОЛУБИНЫЙ»
(К. В. Мочульский)
Худенький, живой, с милыми карими глазами – таким и остался в памяти от того лета Константин Васильевич Мочульский. Солнце Канн, зеленая тень платанов над кафе перед морем, теплый ветер, радостное загорелое лицо, а позже автобус в Грасс к Бунину, среди природы почти тосканской.
Я его мало тогда еще знал, но ощущение чего-то легкого, светлого и простодушного сразу определилось и не ушло с годами, как ушло солнце и счастье юга. Мы виделись в тот раз недолго, но одинаково любили море, блеск ряби солнечной в нем, одинаково чувствовали странствия и прекрасные страны: оба преданы были Италии, он знал и Испанию, тоже ею восторгался.
Позже, в Париже, медленно входил он в нашу жизнь. Сначала на горизонте, как приятный, изящный собеседник, незлобивый и просвещеннейший, с родственными интересами. А потом, в войну и житье под немцами – вдруг и сильно придвинулся.
Было тогда чувство большого одиночества. Полупустой Париж, кровь, насилия и истребления – оставалась кучка людей, которых никакие режимы не могли переделать. Ясно, что более, более мы тяготели друг к другу, люди страннического и вольного духа, единившиеся в религии и искусстве.
С этих лет что-то братское и родное появилось для меня в нем (мы даже называть стали друг друга по-иному, ласково-шутливо).
Мрачные, полуголодные, нервные годы. Но встречи с ним светло вспоминаются. Он приходил к нам, мы обедали, потом вслух читали: я ли ему мое писание, он ли мне главы из «Достоевского». Я, жена, он – мы были трое, упорно наперекор окружающему твердившие что-то свое.
Наше содружество выдерживало. Мы по-своему жили. По улицам могли шествовать патрули, в одиннадцать надо быть дома, в любой миг могла взвыть сирена – бомбардировка прервала бы чтение: все равно, пока тихо и есть время домой возвратиться, он слушал тринадцатую песнь «Ада» по-русски или отрывок из романа, а я о женитьбе Достоевского или о князе Мышкине. Мы были писатели закоренелые, но и братья.
А летом пришлось жить вместе в Бургундии, вместе с архимандритом Киприаном, «насельниками» в дружеском русском доме, вместе гулять, собирать грибы, восторгаться природой, иногда любоваться детскими чертами горожанина Мочульского, который любил горячо закаты, тишину леса, но отличить подосиновик от боровика или колос пшеницы от овса весьма затруднился бы.
***
Семьи у него не было, он жил один, вечный странник, но не совсем одинокий: вместо семьи друзья. Может быть даже, в них семья для него и заключалась – не по крови, а по душевному расположению. Он любил дружбу и в друзьях плавал. Были у него друзья и мужчины, и женщины, женщин больше – маленькая, верная республика, клан, небольшое племя. Корысти быть не могло: «нищ и светел» – этот отсвет единственная корысть его друзей. Он давал только себя – излучение чистой и тонкой души.
Как человек одаренный, был на себе сосредоточен, был очень личный, но дружбу принимал близко. Без нее трудно ему было бы жить. А жизнь он любил!
Родом с юга России, нес в себе кровь исконно русскую (предки со стороны отца священники), и греческую – мать гречанка. Вышел русским, но и «средиземноморским». («… А я больше всего на свете люблю море, Средиземное море Одиссея и Навзикаи».) Сколько мы с ним мечтали о странствиях! По любимой Италии, по Испании, где ему (при всей скромности средств) удалось побывать, по Греции.
Но путешествия теперь просто фантазия. Жизнь же идет, куда ей надо. В ней друзья, рядом с любовью и радостью, несли и страдание. В те годы погибли ближайшие его – мать Мария (Скобцова), ее сын Юра, студент. Оба в лагерях немцев.
Можно думать, что в этих потерях проступило и для него самого нечто смертное. Внутренно он не оправился. Летом 43-го года тяжело заболел – очень долго лежал у друзей под Парижем.
***
Был уже автором книг – и значительных – о Гоголе, Соловьеве, Достоевском (в рукописи). Замышлял нечто о Блоке.
А душевный сдвиг давно определился, путь избран – христианский. Он уже не эстет довоенного Петербурга, а «чтец Константин». В церкви Лурмель читает в стихаре Шестопсалмие, часы. Только что не монах. А если б и постриг принял, не приходилось бы удивляться. Но жизнь кратка, дни малы. Недуг развивается.
И он – вне обычной жизни. Помню его в санатории Фонтенбло, – сумрак зеленых лесов с папоротниками, сумрак неба и дождь, и он худенький, слабый. Но рад, что приехал «свой».
– Правда, у меня лучше вид?
Лучше, лучше. Посидим, побеседуем под шум дождя, потом он проводит до большой дороги в огромных платанах (дождь перестал) – и задыхается уже, но, конечно, ему лучше. Всегда должно быть лучше. И не надо противоборствовать. С тем и уедешь. С тем уехал однажды и он сам в дальний пиренейский край, столь целебный для туберкулезных.
Одно время казалось, что край этот вылечит. Зима прошла хорошо, весной он вернулся, жил под Парижем, считая, что уже оправился. Но к осени стало хуже. Снова надо в Камбо.
***
В старых письмах всегда раздирательное – образ прошлого, неповторимого. Что сказать о писании близкого человека, одиноко вдали угасавшего – и угасшего?
Друзья не оставили его. К нему ездили, при нем жили, и какую радость это ему доставляло! («Так мне больно без Ромочки». – Она побыла у него, сколько могла, и уехала. «Но нужно уметь всем пожертвовать. И от этого увеличивается любовь».)
Он, конечно, переживал свою Гефсиманию: с приливами страшной тоски, потом просветлением и примирением – опять богооставленностью и унынием. «Бывают дни скорбные, с мутной и горячей головой, когда с утра до вечера лежишь с закрытыми глазами, а бывают и благодатные часы, когда чувствуешь близость Господа и становится так радостно».
Рома рассказывала нам, возвратившись:
– В нем точно бы два мира. Физическому так тяжко, такая печаль в глазах, а духовный все выше, точно предвидит свет.
И еще: когда солнце заходит и краснеющий лучик передвигается рядом на стене, он с такою любовью за ним следит. «Прощается».
Да, жизнь любил. Но в предсмертных томлениях и испытаниях все принял и примирился. Это уж несомненно – и в письмах, и по рассказам. Исповедовался, причастился прекрасно. А еще раньше писал: «Одышка такая, что трех шагов не могу сделать. И все же лежу и не горюю – рад принять из пречистых рук Господних и жизнь и смерть».
От Бога и смерть – радость. В письмах же, чем далее, чем рука слабее, тем тон выше, обращенья нежнее. (В последнем уже прямо: «Возлюбленные мои…»)
Что испытал, что пережил, этого до конца-то мы не узнаем.
Но образ отхода ясен: умирал на руках двоих близких ему, в духе того, что говорится на ектении: «христианския кончины…». По-другому и не могло быть. Такой был, к такому шел.
Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был: хоть мудрости змеиной
Не презирал, понять ее умел,
Но веял в нем дух чисто голубиный.
Тютчев сказал это сто лет назад о Жуковском. А вот осталось, применилось лишь по-иному.
Суть все та же: Лишь сердцем чистые – те узрят Бога.







