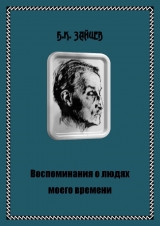
Текст книги "Воспоминания о людях моего времени"
Автор книги: Борис Зайцев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
ЕЩЕ О ПАСТЕРНАКЕ
Из его «Автобиографических заметок» я узнал мелочь, послужившую началом переписки: мы родились с ним в один и тот же день месяца, только он на девять лет позже меня.
Я написал ему наудачу и о совпадении, и о другом. С этого и началось. Начался странный, заочный, краткий «роман».
15 марта 1959 года он ответил мне: «Дорогой Борис Константинович, не могу Вам передать… как обрадовали Вы меня своим письмом. Наверно, никто не догадывается, как часто я желаю себе совсем другой жизни, как часто бываю в тоске и ужасе от самого себя, от несчастного своего склада, требующего такой свободы духовных поисков и их выражения, которой, наверно, нет нигде, от поворотов судьбы, доставляющих страдания близким. Ваше письмо пришло в одну из минут такой гложущей грусти – спасибо Вам». Ему «чрезвычайно дорого», что Я говорю о его книге, но «что бы Вы ни сказали, я все принял бы с величайшей благодарностью». «Как все сказочно, как невероятно! Не правда ли? Пишу Вам, мысленно вижу перед собою и глазам своим не верю. И благодарю и обнимаю…»
Его письма ко мне получали здесь большой отклик. Их всегда просили читать вслух. По этому поводу я написал ему о Петрарке. Письма Петрарки из Авиньона во Флоренцию друзьям считались там событием. Получавший созывал друзей, устраивал обед, потом читалось письмо – десерт высокого тона. Разбойники под Флоренцией, грабившие купцов с севера (они-то и возили письма), очень ценили, если в добыче попадалось письмо Петрарки – дорого можно было продать.
Это мое письмо о Петрарке, видимо, пронзило его. Но ответа я не получил – ответное письмо не дошло. Что оно не дошло, видно из его письма к моей дочери. («Мои восторги пропали по дороге») – да, очевидно, он-то получил и ответил со свойственной ему очаровательно-детской восторженностью, но, вероятно, начальство решило, что это уж слишком – писать так эмигрантскому человеку.
Переписка все-таки продолжалась. В письме от 4 октября 1959 года он пишет о своей пьесе: «Пожелайте мне, чтобы непредвиденное извне не помешало ходу и, еще отдаленному, завершению захватившей меня работы. Из поры безразличия, с каким я подходил к пьесе, она перешла в состояние, когда баловство или попытка становятся заветным занятием или делом страсти».
«Не надо преувеличивать прочность моего положения. Оно никогда не станет установившимся и надежным».
В последнем письме, февральском, 1960 года, он меня поздравляет со днем рождения. Та же горячность и нежность. Та же детски-открытая душа. (Недаром Ахматова говорила о нем, что он вечно будет молод. Да, он был молод душевно, с большим темпераментом, несомненно. И гневался иногда. И бурно. Как тяжко таким натурам жить под ярмом!)
И вот что еще он пишет в предсмертном письме: «Все это (мои книги. Я ему посылал, они доходили) попадает в жадные и дорогие мне руки одной героини-приятельницы, которой порядком за меня в жизни достается и досталось в самом прямом смысле… слова и дела».
«… Но Вам, лично Вам хочется мне сейчас свято и клятвенно пообещать и связать себя этой клятвой, что с завтрашнего дня все будет отложено в сторону… работа закипит и сдвинется с мертвой точки». (Дело идет о пьесе.)
***
Не знаю ничего о судьбе этой пьесы. Не знаю даже, окончена ли она. Вернее, что нет. Знаю, однако, что размах ее огромен, кажется, это триптих.
Жизненную же драму знаю и пред нею почтительно, с грустью склоняюсь.
Да, «баснословный» год. Менее чем через три месяца после февральского письма, 30 мая 1960 года, Борис Леонидович скончался. Для советской власти довольно удобно: неудобный писатель с мировой славой, стоявший поперек горла, ушел. Ну, что же, травили человека,· травили после Нобелевской премии, потом лечили, лечили, он и умер. Все в порядке. Осталась могила, горе близких. У меня под иконой пучочек овса с этой могилы. И где-то рукопись пьесы.
Начинается вторая часть драмы. Передо мной фотография, очень хорошая: Пастернак стоит под каким-то деревом, слегка наклонив голову, щурясь, но невеселый. Под руку (правую) держит его русская дама, в кофточке, довольно полная, улыбаясь – улыбкой любви. Слева совсем юная девушка, с приятным русским лицом, тоже держит под руку, глаза тоже улыбаются, прелестно. Вся она – юность и привлекательность.
Эти двое – Ольга Ивинская и ее дочь. Та Ивинская, в чьи «жадные и дорогие мне руки» попадали мои книги, прежде чем Борис Леонидович начинал их читать. Это Лара «Доктора Живаго», все ясно. Это ее детей (она вдова), Ирину и Дмитрия, опекал Пастернак, когда она сидела в тюрьме при Сталине, а они были еще детьми. Это она, Ольга Ивинская, трепетала за него, когда после Нобелевской премии шавки советской не-литературы лаяли на него, кричали, что он хуже свиньи. Это о ней он сказал, что ей «порядком за меня в жизни достается и досталось».
И предчувствием томился. Слова «достанется» не прибавил, но тревожился очень.
Теперь лишь из гроба мог бы увидеть, как судили ее, и осудили, Ирину тоже. Подло судили, при закрытых дверях – осудили на восемь лет мать, дочь на три года. Виновата мать в том, что Серджио Анджело, бывший итальянский коммунист и сотрудник издателя Фельтринелли, через Ивинскую передал Пастернаку деньги из его западных гонораров – и в июле 1960 года по прижизненной просьбе самого Пастернака некую сумму для нее самой. Ее подвели под 15-ю статью (контрабанда оружием, взрывчатыми веществами, наркотиками и т. п.). А дочь? Дочь упекли за то, что знала и не донесла на мать. Ирина, выслушав приговор, упала на суде в обморок. (Перед этим ей уже поднесли милый подарок: за несколько дней до свадьбы выслали из России молодого француза, ее жениха.)
***
Да, фотография эта – Пастернак между Ольгой и Ириной, пронзает. Борис Леонидович в родной земле – да будет она ему легка. А память о нем, добрая и благодарная, иногда и восторженная, на родной этой земле, столько горестного ему причинившей при жизни, надолго останется. Не вечно будет там и полицейский участок. «Доктор Живаго» – лучшее Пастернака произведение с пророческим стихотворением «Август». (При жизни описал свои похороны так, как они и произошли. И с Ларой при жизни навсегда простился.
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я – поле твоего сраженья.
Господь избавил его от зрелища ее последней Голгофы и Ирининой.
Глядя на них обеих, беззащитных и томящихся теперь «где-то», испытываешь даже смущение. Неловкость какую-то за собственную свободу. Вот ты живешь, ходишь, чувствуешь, любишь, страдаешь, но ты на свободе и в условиях жизни человеческих. А они? Да пошлет им Бог сил. Как написано на одной колокольне скромного итальянского местечка близ Генуи:
– Dominus det tibi fortitudinem. (Да даст тебе Господь силу!)
***
Время идет. Пастернак все далее отходит в Вечность. Три сосны над его могилой все так же шумят в московском ветре. Зимой бюст его будет поставлен на могиле.
И вот все вспоминаешь его – значит, человек обладал тайной прельщения. Почему два раза вслух прочитан «Доктор Живаго», и после него многое кажется серым, неинтересным? Это и есть загадка власти. Ибо нет художника без власти. Только власть эта не навязана, никто не грозит ею, не ведет в участок, а сама она – незаметным образом овладевает. Тютчева никто мне не приказывал ценить, а вот сам он вошел в меня, без окриков, и уж не уйдет.
В рассказе о последних днях Пастернака супруга его передала журналисту, что более всего жалел он, умирая, что не сможет более писать. Писатель, узнаю тебя! Наша болезнь неизлечима. Узнаю и молодость твоего духа, хоть бытие твое достигло уж библейского предела. («Дней лет наших всего до семидесяти лет, а при крепости до осьмидесяти…») Пастернаку шел восьмой десяток, но в самом начале. Его Живаго, доктор, кажется старше автора (внутренно), более печален и разочарован. (В Москву он возвращается из тайги уже разбитым кораблем.) Усталости, печали в самом Пастернаке по его письмам не чувствуешь. Страдал он в жизни много, бурно, но никакого равнодушия и дряхлости к зрелым годам не нажил. Этой зимой близкий мне человек видел его в Переделкине – по его рассказу, Пастернак был очень оживлен и бодр.
А литература и искусство глубоко, крепко в нем сидели.
Думаю, именно по горячности своей и не здравому смыслу молодости водил он некогда компанию с Маяковским, размахивался и в революцию – что-то ему нравилось во всем этом. Но наступила и расплата. Сам казнит он себя незадолго уже до кончины. «В годы основных и общих нам всем потрясений я успел, по несерьезности, очень много напутать и нагрешить»… «Везде бросались переводить и издавать все, что я успел пролепетать и нацарапать именно в эти годы дурацкого одичания, когда я не только не умел еще писать и говорить, но из чувства товарищества и в угоду царившим вкусам старался ничему не научиться. Как это все пусто и многословно, какое отсутствие чего бы то ни было, кроме чистой и совершенно ненужной белиберды».
«Моя жизнь далеко не гладкая… – меня окружают заботы и тревоги и на каждом шагу подстерегают, – выразимся мягко… – неожиданности. Но среди огорчений едва ли не первое место занимают ужас и отчаяние по поводу того, что везде выволакивают на свет и дают одобрение тому, что я рад был однажды забыть и что думал обречь на забвение».
Судит он свою молодость преувеличенно, строгость жестокая, но насколько же лучше это самолюбования и охорашивания перед зеркалом. В нем этого не было, хотя славу, вернее – любовь людей, он все-таки любил… – но это так по-человечески! «Вообще лучшая награда за понесенные труды и неприятности то, что лучшие писатели века… книгу читали, кто на других языках, кто в оригинале». «Как все сказочно, как невероятно!»
Поражает его изгиб собственной судьбы: «И только этот баснословный год открыл мне… душевные шлюзы, но совсем с другого боку. И о Фаусте написал я по-немецки по запросу из Штутгарта, где есть Faust Gedenkstatte (место рождения исторического Фауста), и по-английски о Рабиндранате Тагоре (совсем не восторженно) его биографу в Лондоне, и по-французски о назначении современного поэта, и в Италию. И стало легче. Но как это все странно, не правда ли? Оказывается, можно и думать». То есть думать, как самому хочется, как думается, а не как велят. «Я послал Вашей дочери Фауста. Вот с каким сожалением и болью сопряжены у меня работы этого рода. Ни разу не позволили мне предпослать этим работам собственного предисловия. А может быть, только для этого я переводил Гете, Шекспира. Что-то редкостное, неожиданное всегда открывалось при этом, и как! Всегда тянуло это новое, выношенное живо и сжато сообщить! Но для… «работы мысли» у нас есть другие специалисты, наше дело только подбирать рифмы».
Да, и Лозинскому, переводчику «Божественной Комедии», в России пришлось соседствовать с предисловием, где Маркс и Энгельс одобряют поэта и дают ему «путевку» в советское издательство. Для Данте понадобились Маркс и Энгельс, а для Фауста в переводе Пастернака пришлось объяснить читателям, во введении, что слово Бог, часто встречающееся в поэме, надо понимать не в том смысле, какой оно имеет, а в особом (смысле «чисто пикквикийском». – Б. 3.), то есть Бог собственно и не Бог, а что-то вроде «силы социальных отношений».
Судьба Пастернака одна из самых удивительных в литературе нашей – с трагическим и героическим оттенком. Уцелеть при Сталине (отказавшись подписать ходатайство писателей о казни целой группы правых коммунистов), высидеть годы в одиночестве Переделкина, вдруг получить Нобелевскую премию, стать из-за «Доктора Живаго» знаменитым на весь мир, так любить Родину, как он, и при громе рукоплесканий иноземных – от «своих» получать заушения как раз в этом 1959-м, «баснословном» для него году.
Пастернак был человек сильный. Все-таки такая травля дней не прибавляет. Что же, своего добились. Дни сократились. «Баснословный» год, год мировой славы оказался и последним. Полицейские от литературы могут быть спокойны: Пастернака нет. Вот уже полгода покоится он в родной земле жестокой родины. Превосходные фотографии (иностранные!) запечатлели нам его похороны, и его лицо в открытом гробу – лицо приняло особую, высше-торжественную красоту. Гроб окружен любящими, любящие несут его на плечах за версту с чем-то на кладбище, в том же открытом гробу, как носили в русской деревне покойников в моем детстве. Русские лица, русские лесочки, березы, мимо которых проходит процессия, русский деревянный мостик, столь убогий в простоте своей – но по нем переходит лента людей благополучно – тысяча с чем-то: все это пронзает. Медленно, но в любви и без серпа и молота подвигается Пастернак к Вечности.
Из Москвы прислали моей жене два снопика овса, совсем маленьких, с могилы Пастернака. Оба они лежали у нас под иконами, славные знаки памяти и любви: наш Пастернак, наша земля взрастила его, как и этот смиренный, иссохший овес.
И вот нас посетила иностранка, переводчица и поклонница Пастернака, графиня Пруаяр. Жена передала ей снопик. Та обняла ее и поцеловала. Французские глаза так же наполнились слезами, как заполняются и русские. И это хорошо. И это радостно. Франция прижала к сердцу бедный снопик русского овса и унесла его как память, как знак любви.
ДРУГИЕ И МАРИНА ЦВЕТАЕВА
Прочитал список погибших («Известия Литературного Фонда») – все писатели, поэты, критики: «арестован», «пропал без вести», «расстрелян», «покончил с собой». Список длинный, есть имена общеизвестные, некоторых знал лично.
Есенина помню юношей-пастушком, кудреватым, довольно славным, но не моего романа. А потом заходил он к нам в Лавку писателей на Никитской уже в шубе, чуть ли и не в цилиндре, залихватски и совсем в моветонном роде. Начиналась его история с Дункан – для обоих бесславно кончившаяся.
Борис Пильняк был рыжеватый литератор, приходил иногда ко мне, в нем всегда чувствовалось пестрое, мутное. Природных сил довольно, а как их прилагать, неведомо. Прежний стиль свой (довольно бледный) он сменил на нечто по наследству от Белого. Получилась сумятица, с темпераментом, но без толку. Ему нравилось земляное, плотское. В революции привлекала стихия и разнузданность, думаю, нравился ему и разбойный дух ее – то есть первых ее шагов.
Однажды мы выходили с ним из моей квартиры в Кривоарбатском: был вечер, мрачно.
– Вам вот кровь не нравится, – говорил он. – Насилие. А на крови и насилии вся жизнь, вся история. Нельзя без этого. Возьмите Петра Великого. Они правы.
– Все равно ненавижу. С детства терпеть не мог и уж теперь навсегда. Никогда не приму.
– Да, конечно, вам неподходяще. Потом через минуту:
– Поедем к Коненкову. У него отличная мастерская. Там будет Есенин, Дункан, имажинисты. Выпивка настоящая.
У меня был свой круг, веселились иной раз и мы, но по-другому, и чокались по-другому. С имажинистами я не пожелал.
Позже и оказалось, что в тот вечер творились в мастерской Коненкова великие безобразия. Напаивали Есенина и Дункан, и прочее, прочее… – подробности не рассказуемы…
Прошло время. Пильняк очень прославился. Ездил по всему свету (не по-эмигpантски), в Америке ему устраивали банкеты, говорили речи. Но потом как-то вышло, он написал «Повесть о непогашенной луне» (смерть Фрунзе после «приказанной» операции) – и со своим своеволием, стихийностью земляной, резкостью попал в немилость. А там в ссылку и под пулю… «На крови и насилии вся жизнь, вся история. Нельзя без этого».
А Есенин, дарование простодушное и пронзительное, но изломанное, тоже русский безудерж, тоже в конце концов нигилизм, – Есенин в петлю.
Страшное время. Аминь, аминь, рассыпься.
***
Абрам Эфрос, секретарь Союза писателей в Москве. Это просто интеллигент, быстрый, многоречивый и предприимчивый, с тонким, изящным лицом, большими глазами, в бархатной артистической куртке – свой человек, но примитив, его дружески звали «Бам», он всегда в хлопотах, что-то устраивает, читает и пишет, увлечен искусством и литературой (у меня сейчас в руках его книжечка «Автопортреты Пушкина», 1945 г.).
– Ах, Бам, Бам, отчего не выслали вас в 22-м году вместе с профессорами, писателями в Германию? Были бы вы и сейчас живы. Писали бы в «Новом журнале», «Новом русском слове», и так как вы много моложе нас, принимали бы из рук старших, коих недолог уж век, завет свободы, человечности, творчества – всего наследия литературы нашей. – Но вас не выслали. «Абрам Эфрос, искусствовед, пропал без вести».
Вспоминаю вас – оплакиваю.
***
Две барышни, худенькие и миловидные, в одинаковых платьицах, читают с эстрады стихи – вдвоем, в унисон. Одна Марина, другая Ася, дочери профессора Цветаева (основателя Музея Александра III в Москве).
Стишки острые, колкие, барышни читают-щебечут, остроугольно, слегка поламываясь. Не только напев в унисон, но и улыбки, подергивания нервных лиц. Никакого спокойствия, основательности. Но к тогдашнему это подходило, даровитость же чувствовалась.
Вспоминая то время, предреволюционное, поражаешься, сколько было поэтов, художников, философов, писателей, «богоискателей»… Марина и Ася тонули в артистическо-литературной среде: почти гимназистки!
Но вот Марина уже повзрослевшая, уже замужем за Эфроном (с удивительными глазами), уже у нее дочь Аля. В нашем кругу небезызвестна. Автор более зрелых и своеобразных стихов, ходит к нам в гости, помаргивая глазами – нервными, острыми, восторгается Гейне, Германией, одновременно и Ростаном. Читает на вечерах нашего Союза, в Доме Герцена. (Подарила мне бюст Пушкина, отцовский еще, огромный. Он стоял на моем шкафу, под него я клал миллионы рублей, на которые можно было купить бутылку вина, два фунта масла. Позже Пушкин этот переехал в Союз писателей, белыми гипсовыми глазами смотрел, тоже со шкафа, как Марина стрекочет свои стихи, им я тогда покровительствовал.)
Но жила она невозможно. Эфрон был «белый», где-то на юге, верно в эвакуации. Она одна с Алей, в квартире покойного отца, от нашего Кривоарбатского недалеко.
Этого всего не забыть. Везу по московскому снегу на салазках дровишки – у Марины с девочкой – 1 градус. Квартира немалая, так расположена, что средняя комната, некогда столовая, освещается окном в потолке, боковых нет. Проходя по ледяным комнатам с намерзшим в углах снегом, стучу в знакомую дверь, грохаю на пол охапку дров – картина обычная: посредине стол, над ним даже днем зажжено электричество, за ним в шубке Марина со своими серыми, нервно мигающими глазами: пишет. У стены, на постели, никогда не убираемой, под всякою теплой рванью, Аля. Видна голова и огромные на ней глаза, серые, как у матери, но слегка выпуклые, точно не помещающиеся в орбитах. Лицо несколько опухшее: едят они изредка.
Марина благодарит, но рассеянна, отсутствует. Верней, занята своим. А вот чем: крупными, почти печатными буквами переписывает произведение кн. Волконского (его писанием тогда увлекалась). Остальное не важно. Печка так печка, дрова так дрова.
– Аля, сиди смирно, опять ты там возишься.
– Мама, я крысов боюсь, вон опять за шкафом пробежали. Ты уйдешь, они на кровать ко мне вскочат…
– Глупости, ничего не вскочат…
Это Але виднее, но Марина не может сидеть с ней целый день. Обычно уходит, запирает на ключ, вот и жди в холоду с крысами маму.
Иногда Алю приводят к нам, она подружилась с моей дочерью. Ее кормят, отогревают. Ее огромные, серо-выпуклые, с водянистым оттенком глаза смотрят веселей, она играет и хохочет с Наташей.
Весной решили взять ее на месяц в деревню – подкормить, подправить.
Мою мать не выселили еще из именьица, она жила в своем доме, очень скромно, но в сравнении с Алей совершенно роскошно. Молоко, яйца, масло, даже и мясо!
Как дочь поэтессы и девочка вообще даровитая, Аля вначале и вела себя поэтессой: видела необыкновенные сны, сочиняла стихи («Под цыганской звездою любви», – ей было лет семь, она отлично подражала Марине).
Сидя утром в столовой за кофе с моей матерью, она рассказывала, что во сне видела три пересекающихся солнца, над ними ангелов, они сыпали золотые цветы, а внизу шла Марина в короне с изумрудами.
– Нет, знаешь, у нас дети таких поэтических снов не видят.
Или ты каши слишком много на ночь съела, или просто выдумываешь.
На другой день, за этим же кофе, Аля рассказывала новый сон. Но теперь это был просто Климка, вез навоз в двуколке. – Вот это другое дело…
Через месяц уехала Аля в Москву загорелая, розовая, неузнаваемая.
***
Марина очень любила мужа, Сергея Эфрона. Когда Аля гостила у нас в Притыкине, Эфрон был белый офицер. Марина возводила белизну его в культ, романтически увлекалась монархизмом, пожалуй, соединяла ростановского «Орленка» со своим Сергеем… Стихи писала соответственные.
Началась и для нее эмиграция. И вот Эфрон оказался не прежним белым принцем в поэтическом плаще, а чем-то совсем иным… Как многие тогда, перешел к победителям. Да попал еще в самое пекло… От бывшего белого офицера много потребовали.
Тяжело говорить об этом – приходится. Я когда-то его знал лично, этот изящный юноша с действительно очаровательными глазами никак не укладывался в «сотрудника», да еще какого учреждения! Но вот уложился. Но вот принимал здесь участие в темном деле – убийстве Рейсса, – после чего оставаться во Франции стало неудобно. Он и уехал в Россию.
Как относилась Марина ко всему этому? Не могу сказать. Знаю, что стала не той, что в Москве. Мы разошлись вовсе. Аля выросла, обратилась в готовую коммунистку. И уехала тоже в Москву. Марина довольно долго влачила здесь одинокую жизнь, от эмиграции отошла, к «тем» целиком не прикрепилась… – но в Москву все-таки уехала. Это понятно. Что было ей делать в Париже? А там муж, дочь, сын. (Кое-где все-таки и тут печаталась. Стихи ее приобрели предельно-кричащие ритмы, пестрота и манерность в слове, истеричность и надлом стали невыносимыми.)
В Москве же «вкусила мало меду». Эфрон, видимо, погиб. (С Рейссом вышла неудача, слишком много шума – неудач там не прощают.) С Алей близости не было. Пробовала печататься – разругали, и дальше ходу уж не было. Одиночество, покинутость. Наступали немцы (август 1941 г.). Эвакуация, безнадежность. Осенью 41-гo года, не знаю точно когда, Марина покончила с собой.
***
«Да воскреснет Бог и да расточатся враги Его». Кто из нас смеет учить кого-то, кто жизнью заплатил за ошибки? Но сказать – где правда, и где неправда – мы можем. Может быть, даже должны крикнуть:
– Отойдите! Не дышите парами серы! «Аминь, аминь, рассыпься!»







