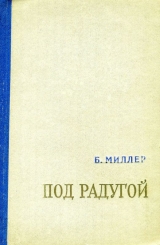
Текст книги "Под радугой (сборник)"
Автор книги: Борис Миллер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Красногвардейцы и Ленчик
1Листья, ярко-красные и оранжевые, отрываются от ветвей и беспомощно никнут к земле…
Это было во второй год революции. По железнодорожным путям шли красновагонные составы. Листья, сорванные воздушной волной, летали мимо красных с белыми крестами дверей, возле черных колес, падали на рельсы, отстав от поезда.
Пелагея смотрела в полуоткрытую дверь вагона на мелькание листьев и поминутно оглядывалась на Лейбу. Он лежал в темном углу вагона, и она видела только белые бинты, закрывавшие его лицо. Время от времени он открывал незабинтованный глаз, смотревший из-под густой черной брови. Еще немного, и он остался бы навсегда там, верстах в сорока отсюда, где только что отгремел бой.
Рядом с Лейбой лежит Антон Шатюк. Он ранен в живот и глухо стонет, жует рыжий волос своей редкой бородки.
Стучат, дрожат, тянутся рельсы, как выползающие из-под земли пулеметные ленты.
Тихо. Желтые листья мелькают перед глазами, пока поезд не врывается в темный туннель ночи.
Вдруг где-то стреляют.
Кажется, что на тысячи кусков раскалывается небо и тысячи огненных ран растекаются по небу кровавыми потоками и застывают.
Стрельба затихает.
Раны на небе затягиваются и блекнут. Вот уже и город с черными, торчащими, как отмороженные пальцы, трубами. Когда поезд подходит ближе, эти трубы кажутся длинными, обезглавленными шеями, задушенными черными бусами ворон… На развороченном шоссе лежат гниющие трупы лошадей.
Таким был город. В этом городе спустя месяц Пелагея родила Ленчика.
2У Ленчика – редкие черные волосы и голубые глаза. Плечи острые, он очень худой и длинный для своих двенадцати лет. Он уже не может кататься на задней площадке трамвая – его видно за стеклом двери. Поэтому он уступает это место своим товарищам, а сам устраивается на буфере. Он представляет себе, будто погоняет трамвай, как смирную лошадку. Так можно целый день кататься по улицам города.
А в городе – третий год пятилетки.
Мощно дышат трубы, простирая серые мягкие простыни дыма. Падают и свертываются желтые и красноватые листья. Они падают на неостывший асфальт новых тротуаров, прилипают к ним. Мальчишки набирают целые охапки осенних листьев и швыряют их в кипящий асфальт. Рабочие, стоящие возле широких пылающих котлов, кричат на мальчишек и прогоняют их. Те убегают, но тут же появляются с другой стороны… Ребятам нравится смотреть, как горят в котле листья. Нравится это и Ленчику.
Не нравится ему только то, что лучшие его друзья, с которыми он путешествует на трамваях и вертится у котлов, дразнят его:
– Ленька-черепаха…
У отца на заводе прорыв.
На больших щитах, развешанных в городе, в школе и в отряде, изображены самолет, корабль, паровоз, автомобиль. А отцовский завод – в самом конце, на черепахе…
А ведь это не только папин, это и мамин завод, – они там работают оба. Отец – слесарь, а мать – токарь. На заводе уже второй месяц прорыв. Вот ребята и дразнят Ленчика – на одних заводах, где работают их папы и мамы, прорывов нет, а на других они уже ликвидированы.
Ленчику стыдно… Он приходит домой с претензиями.
Отец в последнее время ходит хмурый, недовольный, черные брови низко нависли над глазами, и борода давно не брита.
– Папа, у вас уже второй месяц прорыв… Мне стыдно перед товарищами в школе и в отряде. Меня называют «Ленька-черепаха». Потому, что твой завод стоит на самом конце, там, где нарисована черепаха… Помнишь, мама, – обратился он к матери, – ты рассказывала, как вы брали город… Здесь тогда целая дивизия белых стояла. А вы были голодные, босые, шли по холодному и скользкому болоту, пулеметы на плечах таскали… И все-таки шли… А теперь… почему же?
И Ленчик вопросительно смотрит на родителей.
Те переглядываются.
– Ничего, Ленчик. Все будет в порядке…
Отец привлек к себе мальчика и сказал:
– Знаешь, мы думаем поехать в отпуск на месяц в Степановку, к бабушке. А потом перейдем на другой завод, на котором нет прорывов…
– Да, папка? К бабушке! В Степановку! – Ленчик даже подпрыгнул от радости. – А то мы в прошлом году жили там только одну неделю…
Он вспомнил сочную, сладкую морковку, которую целые дни грыз у бабушки на огороде. Больше всего Ленчику нравится морковка. Кроме того, в Степановке есть такие ребята, которые даже паровоза еще не видели… И они слушали Ленчика, раскрыв рот, и даже как будто ему не верили.
– В Степановку, папка!
Лейба и Пелагея недавно говорили об этом. Время отпуска у них совпадает. Есть у них пятьсот рублей, – выиграли по облигации. Можно на месяц уехать в деревню к матери Пелагеи. Там всего много. Спокойно. Лейбе с его туберкулезом очень полезно отдохнуть и поправиться.
3На следующий день после уроков было собрание звена, комсомолец из горкома и учительница рассказывали о хозяйственных задачах. И снова упоминали папин завод, и снова говорили о прорыве. Говорили это и о Гришкином отце, который работает на том же заводе. Вот об этом думал сейчас Ленчик. У ворот своего дома он вдруг остановился и озабоченный пошел дальше.
Он пошел на завод… Его родители, красногвардейцы, – прогульщики… Да, его родители – бывшие красногвардейцы.
Ленчик пошел на завод.
Ленчик давно там не был и нашел завод не сразу. Он узнал его по гудку. У каждого завода свой особый гудок. На отцовском он вначале хрипит, потом переходит на фальцет и заканчивает настоящим басом.
Когда Ленчик пробрался в цех, там было полно рабочих, сидевших на станках и стоявших в узких проходах, словно оттеснив к стенам станки, трансмиссии, тиски.
– Почему не начинают? Ведь люди еще не ели! – кричали рабочие, обращаясь к председателю и секретарю, стоявшим у окна, в которое еле светил хмурый день.
Над столиком горела большая лампа. Все ждали начала собрания.
Ленчик протиснулся меж двух станков и начал рассматривать присутствующих.
У председателя – густые, насупленные брови, совсем как у отца, и черные мягкие усы, прикрывающие даже нижнюю губу.
«Как он ест? – подумал Ленчик. – Ему бы привязывать усы к очкам, достали бы…» Очки у председателя держались на самом кончике носа, и только тень от них, отбрасываемая низко висевшей лампочкой, лежала возле глаз.
Секретарем был Мишка Соловьев. Ленчик его хорошо знает. Он только в прошлом году окончил двадцать шестую школу и сразу пошел сюда на работу. Он здесь, оказывается, активист.
А вот и родители. Они стоят у фрезерного станка. Рядом с ними дядя Антон, Антон Шатюк. Они всегда втроем – дядя Антон, отец и мать. Они внимательно слушают доклад.
У отца как бы удивленно приподняты брови, дядя Антон то и дело морщится, большая, темноватая в суставах рука лежит на редкой рыжей бородке. У матери возле рта две складки. Ленчик глядит на них, и ему становится стыдно оттого, что он так плохо о них думал. Боясь, что его заметят, Ленчик повернулся к стене.
Тем временем Мишка перевернул лист бумаги на другую сторону, что-то написал там, провел черту сверху вниз и стал ждать, пока кончится доклад. Докладчик снова повторил, что с введением индивидуального фин-плана положение значительно улучшилось, однако мешает текучесть рабочей силы, которая все еще высока.
– Скоро кончит, – произнес старик, стоявший недалеко от Ленчика. Он все время качал головой, так что нельзя было понять, когда он согласен, а когда нет. Голова качалась утвердительно, а глаза при этом говорили: «Нет, нет…» Странные глаза у старика!
Проголосовали резолюцию по докладу, и рабочие начали торопить, чтобы скорее кончали с «текущими вопросами»: кушать пора!
– Погодите минутку! Тише! – успокаивал председатель. – Сейчас кончаем. Еще одно важное сообщение: завтра во время перерыва состоится доклад о социалистической контрактации…
– Слышишь, Александрыч? – многозначительно обратился к старику бритый рабочий.
«Чего он так испугался, этот дяденька?» – подумал Ленчик и снова повернулся к председателю. Тот продолжал:
– Это вопрос чрезвычайно важный, и я хочу вас немного информировать, чтобы вы были готовы завтра принять соответствующие решения, как и подобает настоящим пролетариям. Товарищи, все мы хорошо знаем, какое значение в реконструктивный период приобретает…
– Хорошо еще, что не сегодня, а завтра, – заметил бритый рабочий. – Ведь это обдумать надо… Как-то так…
Старик, добродушно улыбаясь, заметил:
– Да, крепостное право еще дед мой, царство ему небесное, отменил…
Ленчик с удивлением посмотрел на старика, но тут же отвернулся, так как услыхал голос отца:
– Прошу слова.
– Наверное, опять о кружке изобретателей, – проговорил старик, надевая шапку. – Носится с ним, как с писаной торбой. Только и делают, что изобретают, а мы все топчемся на одном месте…
Оттого, что этот старик, который утвердительно качает головой, в то время как глаза говорят «нет, нет», так плохо сказал об отце, Ленчику очень захотелось сказать ему что-нибудь злое, оскорбительное. «Черепаха!» – вот что хотелось ему сказать. Но старик ушел, а отец получил слово.
Он вышел вперед, окинул строгим взглядом собравшихся и рассек рукою воздух:
– Товарищи!
Лицо у отца побледнело, и на щеке стал отчетливо виден старый, давно затянувшийся шрам.
– От имени троих рабочих – Лейба Рейшиса, Пелагеи Некритиной и Антона Шатюка – я заявляю собранию, что с нынешнего дня мы считаем себя мобилизованными, как красногвардейцы пятилетки, мы решили законтрактоваться на заводе до конца пятилетки… Это большая ответственность, и мы приложим все наши силы, чтобы быть достойными звания красногвардейцев пятилетки. Надеемся, что все рабочие нас поддержат…
Раздались аплодисменты. Ленчик тоже хлопал до боли в ладошках и радостными, благодарными глазами смотрел на отца и мать. Но те его не замечали. Они рассматривали какие-то листочки, и председатель что-то говорил им.
Потом он вынул из портфеля еще пачку листочков и поднял их над головой. Пачка рассыпалась, и Ленчик увидел напечатанное крупным шрифтом слово: «Обязательство».
– Товарищи! Кто еще?
Несколько десятков рук потянулись к столу, пачку листков разобрали.
А те, кто чего-то ждал и чего-то боялся, потихоньку ушли из цеха.
– Давай-ка сюда, Лукич, подпишем!
Люди расходились, пряча листочки в карманы.
– Красногвардейцы так красногвардейцы, черт возьми!..
– Хорошо!
4Когда Лейба и Пелагея вышли из цеха, рядом с ними неожиданно очутился Ленчик. В глазах его светилась радость, щеки пылали.
– Ты как попал сюда?
Ленчик совал им свою горячую руку.
– Правильно вы сделали, так и надо… А в Степановку не надо. Я уже не хочу в Степановку…
Родители непонимающе переглянулись.
– Ты что? Был на собрании? А как ты попал?
– Я… Это… Но я думал… – лепетал Ленчик. Он никак не мог рассказать, как он здесь очутился.
Наконец, когда они уже вышли на улицу, Ленчик рассказал о занятиях звена, о Гришке, которого тоже дразнили. Тот еще вчера решил пойти к отцу на завод – посмотреть, что он там делает… Но по дороге Гришка увидел возле магазина Центроспирта милиционера, который втаскивал человека на извозчичьи дрожки. Гришка подошел поближе, и это оказался его папа…
Ленчик почувствовал, что говорит совсем не то, что следовало. Он не должен был это говорить… Они не хотел… Ленчик запутался, покраснел и спрятал лицо в маминой руке…
Но когда Ленчик поднял голову и взглянул на родителей, у него сделалось так хорошо на душе, что он схватил отца и мать за руки и потащил их вперед, с гордостью поглядывая на прохожих. Ему хотелось подбежать к каждому и кричать о том, что теперь его не за что дразнить, что его родители всегда были красногвардейцами и сейчас они тоже красногвардейцы.
И Ленчик радостно смеется.
И все – трамваи и автобусы, автомобили, мотоциклы, конские копыта, все выстукивают по мостовой:
– Хо-ро-шо! Хо-ро-шо! Хо-ро-шо!
На неостывший асфальт падают желтые и красноватые листья. Ленчик ловит на лету один лимонно-желтый листок и швыряет его на тротуар. Но листок падает на лицо рабочего, который варит асфальт в горячем котле. Рабочий поворачивается и кричит сердито:
– А вот я тебе, пацан!..
Но Ленчик не боится. Он подбегает к отцу, прячет голову в его пальто и весело хохочет…
1941
В освещенном кругу
Сапожник Хаим (его до сих пор так называют) погнал стадо домой. Впереди шли десятка два коров; сытые, они осторожно несли тяжелое розовое вымя, то и дело хлопая себя хвостами по круглым бокам. Он шел позади, зажав под мышкой длинный бич, и неторопливо свертывал цигарку.
Хаима не трогает, что его до сих пор называют сапожником. Ведь, в самом деле, двадцать лет подряд его так называли. Дед его был сапожником, и отец был, ну, и его обучили этому ремеслу. Но Хаим всегда не любил сапожничий фартук, дратву, колодки и низенький табурет с продавленным кожаным сиденьем.
И как назло (так думает Хаим) у него маленькие косые глаза – зрачки сдвинуты к самому носу – почти без ресниц. Над глазами щетками торчат черные брови, нос большой, с голубыми прожилками. Жесткая квадратная борода, коротко подстриженная, похожа на колодку, а желтая впалая грудь – на кожаное сиденье табурета.
Зато у Хаима длинные руки с широкими ладонями, каждый палец в рукоятку молотка. Вот эти-то руки и стащили его два года тому назад с сапожничьего табурета в колхозное поле. Да, вот уже второй год (а кажется, только что все это было), как райисполком выделил здесь, верстах в десяти от города, землю для еврейского колхоза. И почти все местечко сразу же перебралось туда. Тогда тут, конечно, еще ничего не было. Понемногу вырос один дом, второй… Вон виднеется угол железной крыши. Поставили амбар, хлев. Но пока немногие живут с семьями, остальные смогут перебраться только в будущем году. Мужчины сейчас живут в одной большой комнате – общежитии.
Приобрели кое-какой инвентарь, лошадей и коров – неплохое стадо.
Впереди стада шагает бык Люкс. Он идет, разрезая воздух широким упрямым лбом, мотает головой и ревет оглушительным басом. Люкс – весь черный, только на передних ногах, на коленях, у него белые пятнышки. Он не такой уж большой, но сильный, как лев. Сначала его все боялись – да и теперь многие обходят стороной. Двоих он уже так отделал, что третью неделю ходят в повязках, а недели две назад накинулся на крестьянина из соседней деревни, который привел к нему корову, – пришлось отвезти в больницу. Однако с Хаимом он ладит – видимо, уважает его.
– Э-ей, ку-у-у-да?
Хаим щелкает длинным бичом. Люкс останавливается, поджидая коров, и степенно шагает дальше. Хаим довольно улыбается, зажимает бич под мышкой и снова принимается свертывать цигарку.
Приятно идти по сырой после дождя земле меж стен высокой ржи.
– Э-эй! Ку-уда?
Люкс опять забежал вперед, мотает головой, наклоняет свой упрямый лоб, высоко задирает ноги, сердито ревет. Тут уж ничего не поделаешь, – Хаим знает это и спокойно шагает позади.
Но вот рощица спрятала багряные лучи, и Люкс успокоился. Дорога сворачивает направо, хлев уже недалеко.
– Э-эй! Ку-у-у-да?
Семка только что закончил свой рабочий день, проведенный на вишневых деревьях, и теперь отдыхал на высоком стогу сена посреди двора.
Но, увидев Хаима, пригнавшего стадо, он, радостно улыбаясь, размазал по лицу вишневый сок, быстро скатился со стога на землю и подбежал к дереву, на обрубленном суку которого висел ржавый кусок рельса. Семка подтянулся, достал лежавшую на ветвях штангу и начал стучать по рельсу.
– Глин-глон, бом! – напевал он при этом. – Коровы идут домой!
И побежал, весело оскалив зубы.
– Ах, байструк! – Мойше-Лейб кричал ему вслед. – Кто тебя просил? Марш, покуда Люкс тебя не изувечил!
Мойше-Лейб поднял штангу, обтер ее и осторожно положил на место. Двумя пальцами остановил раскачавшийся рельс. Потом пошел встречать коров. Из раскрытых, некрашеных дверей уже выходили женщины в подоткнутых юбках с подойниками и ведрами в руках.
Мойше-Лейб поставил последнее ведро молока на топчан. Теперь ему надо записать, кому и сколько доставить молока. Мойше-Лейб ощупал карманы, но, не найдя там бумаги, достал длинную книгу в пестром переплете и вырвал из нее несколько страниц. Это была старая приходо-расходная книга, в которой остались чистые листы.
Мойше-Лейб подошел к топчану, отодвинул ведро. Молоко плеснулось и, пузырясь, разбежалось кругами к стенкам. Мойше-Лейб достал из-за уха желтый карандашик и, ссутулившись, прижав левое колено к ножке топчана, начал записывать:
«Сепаратору – 50 стаканов молока, дояркам – добавочно…».
Он закончил и только тогда оглянулся на двери, хотя уже давно чувствовал на спине чей-то взгляд. Бейля стояла, сложив руки на фартуке, и смотрела сощурившись.
– Чего ты стоишь? Тебе нечего делать?
– Ох, Мойше-Лейб, я смотрю, как ты пишешь… Ты помнишь нашу лавку?.. Под вечер… Тоже так… с карандашиком… прижав колено к прилавку…
Мойше-Лейб взглянул на Бейлю, и вдруг исчезла большая комната общежития с лежанками, большими плакатами на грязных стенах… В памяти возникло жаркое воскресенье. Лавка полна народу, не протолкнуться. А на крыльцо поднимаются еще и еще… Весы качаются, как заведенные, на желтых чашах – в картузах и кулечках – сахар, соль, пшено, крупа, тарань, селедки, мыло… На одном косяке висят шлеи, веревки, на другом – длинные и короткие цепи. У порога большая бочка дегтя, а наверху, над связкой вяленой рыбы, – красная вывеска с белыми буквами:
БАКАЛЕЙНАЯ ЛАВКА
М. Л. Кальница
– Нашла время вспоминать. Коровы стоят во дворе, сепаратор пустой, а она встала…
– Тише! Тише! Скажите пожалуйста, слова сказать нельзя. «Сиператор», «сиператор»… Я за ведром зашла…
– Ведро занято. Возьми другое. В сенях.
Вернулся с поля Нохим. Согнувшись, сел на свой низенький топчан, опустив между колен натруженные руки.
– Ну и день сегодня! Ко всем чертям…
Пришел Лейб, зажег висевшую возле окна лампу с закопченным стеклом и посмотрел на бочку, в которой выстаивался сыр, покачал головой и прикрыл бочку.
В дверях показался Берл – председатель, маленький, заросший волосами человек на кривых, но крепких ногах.
– Кто сегодня идет в ночное?
– Мойше-Лейб идет, – сказал Нохим.
– Почему я? – всполошился Мойше-Лейб.
– Да, да, ты! – подтвердил Берл. – Твоя очередь.
– Ну ладно. А еще кто идет?
– Хаим.
– Вевин?
– Нет, сапожник.
– Ведь он вчера ходил!
– Должен был пойти Хаим Вевин, но он расхворался животом. Сапожник его заменит, а после тот заменит сапожника. Какая разница?
– Да. Ну ладно.
За молодой дубовой рощицей есть полянка, с которой еще не сняли второго укоса. Здесь пасутся лошади. Они стоят стреноженные и медленно жуют сочную траву.
Мойше-Лейб и Хаим развели небольшой костер. Огонь потрескивает, разгорается, пламя лижет росистую тьму. Рядом лежит кучка картошки, которую они испекут попозже. Лейб лежит в освещенном кругу на тулупе, подложив под голову котомку, а Хаим сидит подальше, обхватив руками колени, и в зрачках у него пылают два маленьких костра.
Хаим молчит. Он может просидеть так всю ночь, обхватив руками колени, смотреть на огонь и молчать.
Мойше-Лейб знает это и тоже молчит. Хотя молчать ему совсем не хочется. Ему хочется спросить, правда ли то, что Семка рассказывает…
А рассказывает Семка, что однажды, когда он нес обед в поле, он увидел Хаима: Хаим стоял с бичом и улыбался, а Люкс смотрел ему прямо в рот, хлопал себя хвостом по бокам и качал головой… Ха-ха! Видно, Хаим заключал договор с Люксом.
Мойше-Лейбу хочется спросить у Хаима, о чем он тогда толковал с быком.
Но Хаим может рассердиться, так что не стоит. Вот и молчат.
Шумят, шепчутся колосья. Оттого, что темно, кажется, будто колосья шелестят где-то здесь, совсем близко, в этом освещенном кругу… Но на самом деле поле горазда дальше, там, за поляной, возле заросшего ручья.
Загорелась длинная толстая ветка, далеко отбросив луч света. Мойше-Лейб увидел на мгновение, как раскачиваются колосья… Увидел и Хаим.
Мойше-Лейб поднялся – захотелось курить, а табаку не было.
– Дай закурить, – сказал он Хаиму.
Тот пододвинул к нему жестяную табакерку.
– Спасибо. Бумага у меня есть.
Мойше-Лейб достал из кармана длинный лист, поднес его к огню посмотреть. Это была страница из старой приходо-расходной книги, в которой осталось много чистых листов.
Но этот листок был исписан с одной стороны. Над двумя длинными колонками фамилий и названий товаров значилась размашистая надпись: «В долг».
Мойше-Лейб стал было разглядывать записи, но сказал себе: «Чепуха!». Согнул листок пополам, чтоб оторвать, но над линией сгиба вдруг увидел:
«Хаим – сапожник – 1/2 фунта рису;
– 1/4 подсолнечного масла;
– 3 селедки».
И вспомнилось все, как если бы это произошло сейчас… Будний день. В то время Мойше-Лейб перешел с верхнего этажа в подвальный и вывеску повесил над нижним входом. Бочка с дегтем уже не стояла у дверей. Склонившись над прилавком, он листал свою книгу. По ту сторону прилавка стоял сапожник Хаим. Он пришел расплачиваться и попросил показать, сколько за ним значится. Мойше-Лейб нашел нужную страницу, показал записи. Хаим водил большим пальцем по строчкам, но вдруг поднял голову и вонзил в Мойше-Лейба свои косые колючие, как острые гвоздики, глаза.
«Неправда! Не три селедки, а две! Отлично помню, это было в прошлый четверг. Жена принесла две селедки – именно две! – и я ей сказал: „Зачем тебе понадобилось две, мало одной на ужин?“ И она мне ответила: „Пускай одна останется на завтра… Ведь дети… Завтра снова ходить… Взяла сразу две…“ Слышите, две! Не три, а две!»
Мойше-Лейб косится на Хаима. Тот все еще сидит, обняв руками колени. Снова разглядывает запись.
Отчетливо написано – «три…» Ясно – «три»… Мойше-Лейб чувствует, что лицо у него пылает – вероятно, от костра… Он отворачивается, берет охапку соломы и бросает в огонь. Пламя выхватывает из тьмы качающиеся колосья и среди них – силуэт лошади.
– Буланый! – Мойше-Лейб вскакивает с места. – Ну и буланый!
И Мойше-Лейб бежит выгонять лошадь из хлебов, обронив второпях листок. Бумага осталась в освещенном кругу, подрагивая краем, будто тянулась к огню. Потом ветерок подхватил листок, пододвинул к костру. Там бумагу подхватили, словно пальцами, два недогоревших прутика. Она перевернулась, на секунду прикрыла пылающие ветви и вдруг вся вспыхнула.
Хаим приподнялся, склонился над костром и с любопытством стал смотреть на горевший листок. Огонь быстро окрасил его в черный цвет и только в середине оставалось белое пятнышко, на котором виднелась какая-то цифра – не то двойка, не то тройка. Но вот огонь лизнул и это пятно, листок вздулся, скорчился, надломился. Хаим дунул на него. Пепел разлетелся во все стороны, а костер разгорелся еще сильнее, осветив конские головы, склоненные к земле, и спутанные ноги. Из темноты, неуклюже прыгая, выбежал Буланый, заржал, потом умолк, склонив к земле свою большую голову с длинной гривой.
Мойше-Лейб подошел к костру запыхавшись.
– Ну и Буланый! Ну и разбойник! С трудом поймал его! Обязательно рожь подавай ему. Скажите пожалуйста, какой деликатный!
Он сел на тулуп, поджав ноги, и, щупая картошку, добродушно продолжал:
– Лошадь хорошая, ничего не скажешь. А помнишь, Хаим, когда мы ее взяли, дохлятина была, кожа да кости… А теперь… Не правда ли?
– У-гу!
– А походка! Смотреть приятно! А что норовист малость, так это ничего.
– Надо будет завтра запрячь его в плужок, картошку окучить, – сказал Хаим.
– Да, картошку… Совсем еще не окучивали… Все из-за дождя. Эх, как бы нужен был дождь.
– Окучить все равно придется, а то совсем пропадет. Вчера все-таки был какой-то дождик.
– Тоже мне дождик. Покапало, а ковырни землю – белая…
– Одна, что ли, картошка? А свекла, а кукуруза?
– Да… Ох, нужен дождь.
Но Хаим вдруг перебил его:
– Ведь завтра же воскресенье… – и улыбнулся.
– Ну и что? – не понял Мойше-Лейб.
– Так ведь дождь базару помешает.
– Да-а… Хе-хе… – проговорил Мойше-Лейб и потрогал картошку. – Бери, Хаим, уже испеклась.
– Давай.
Они пододвинулись поближе к костру. Мойше-Лейб достал из костра картошку с почерневшей хрустящей корочкой, разломил ее пополам, выдавил в рот горячую массу и, обжигаясь, проглотил.
– Рассыпчатая картошка!.. Хороша!
1931






