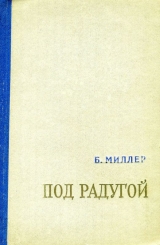
Текст книги "Под радугой (сборник)"
Автор книги: Борис Миллер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Прошло несколько недель. Один только раз за это время проснулся среди ночи индюк, тревожно закричал. Доба испугалась, вышла в сени, но там никого не было.
Исосхор уехал в город. Она давно его не видела.
Тем временем избушка Добы совсем развалилась. Несколько лет тому назад Доба купила ее у одного крестьянина, получившего этот домишко по наследству от матери. Крестьянин был нездешний и собирался разобрать избу, тем более, что она уже свое отслужила. Тут ее и откупила Доба.
Изба стояла поодаль от города, на тракте, ведущем к деревне, в которой и был недавно организован большой украинско-еврейский колхоз.
Забор вокруг избы давно уже завалился, почти касался покривившихся стен. Между досками буйно разрослась крапива, достигавшая голой крыши. Во дворе все дорожки заросли толстыми, мохнатыми лопухами и травой. Из углов выглядывали кусты колючего репейника. Перед домом росла кривая дикая яблоня, положив на крышу одну свою засохшую ветвь: по обе ее стороны слепыми глазами глядели закрытые ставни.
Тусклый, неровный свет скользил по стенам, перебегал с одной фотографии на другую. На одной фотографии Доба и ее муж. У нее на высокой груди – медальон, волосы взбиты, лицо усталое. У мужа – подстриженная бородка, подкрученные усы, по жилету цепочка. Паук затянул фотографию серой сетью, полной дохлых мух. На окне сиротливо стояла треснувшая фарфоровая лампа. На голом столе чадила коптилка из аптекарского пузырька с жестянкой. Рядом лежала холодная, круто посоленная картофелина, стоял черный горшок из-под кофе.
Доба скрючившись сидела в углу на кровати. Она бормотала что-то, глядя в одну точку на стене. В паутине едва шевелила лапками муха. Из-за ставень доносился лай собак, то стихал, то снова становился громче… Огонек коптилки замигал – кончился керосин. Тень от крюка, торчавшего посреди потолка, начала метаться в разные стороны, то вытягиваясь, то сжимаясь, Доба погасила огонь и прислушалась. Под ставнем билась в стекло ночная бабочка. В сенях индюк крикнул сосна не своим голосом. Доба достала из-под слежавшейся постели глиняную лепешку, положила ее на костлявые колени и привычными движениями нащупала круглые впадинки:
– Восемь, девять, десять… – медленно считала она.
Еще в ту пору, когда купила индюка, Доба замесила песок с глиной и, пока масса не засохла, вдавила с обеих сторон все свои золотые пятирублевые монеты. Потом вынула и запрятала их в разных местах – в грязь под индюком, под потолком, возле крюка… Часто она доставала засохшую глиняную лепешку, тощими пальцами ощупывала оттиски…
Тяжело, как будто она весит много пудов, Доба переворачивает лепешку на другую сторону, вздыхает. Пятирублевки, отпечатанные на этой стороне, имеют свою историю, которую Доба не может вспоминать без боли.
В деревне, там где сейчас колхоз, брат Добы Зайвл много лет имел свою мельницу, усадьбу и большой красивый дом. Назло местным кулакам этот дом с зелеными ставнями стоял посреди деревни, рядом с церковью. Однажды в конце субботы Доба приехала к Зайвлу. Жила она хоть недалеко, но гостьей была редкой. На этот раз ее застигла ночь, и Доба осталась ночевать у брата. Она помнит как сейчас – все спали, и она влезла на чердак. Неподалеку от трубы на веревке сохла конская шкура. В этом месте она и зарыла шерстяной чулок, набитый золотыми пятерками…
Вскоре после этого в селе организовали колхоз. Зайвла со всей его семьей выселили. Окна красивого дома заколотили досками – дом стал хлебным амбаром…
Об этом и думает сейчас, сидя на кровати, Доба. Об этом она может думать целые ночи напролет. «Как достать оттуда заветный чулок?»
Если бы она его достала, она бы вложила туда остальные пятирублевки и уехала отсюда. Куда? Куда глаза глядят, лишь бы не оставаться здесь, в этой западне, где нельзя даже высунуть голову… Но без этого шерстяного чулка, о котором, кроме Зайвла, не знает ни одна душа, – она не может тронуться с места…
3Рассвет разорвал и разметал серые клочья тумана. На дороге отпечатались глубокие колеи, ведущие к деревне. По одну сторону дороги уходят вдаль ровные, лишь кое-где холмистые поля, по другую сторону поднимается частый лесок. Молодые дубы, вперемежку со светло-зелеными кустами орешника, стоят среди высоких сосен. Кое-где тянутся вверх тонкие березы с кудрявыми вершинами. У леса – опушка с низко подрубленными пнями.
Кряхтя, Доба осторожно приоткрыла криво висевший ставень, посмотрела на дорогу, которая, огибая ее дом, упиралась прямо в амбар рядом с церковью. Церковь высилась посреди села двумя пузатыми куполами без крестов. За ней над сельским клубом трепетал на ветру красный флаг. Доба разглядывала заколоченные окна амбара, двор, старую акацию, которая там росла. Дерево это было свидетелем тех времен, когда Доба приезжала в гости в богатый дом Зайвла. С ветвей дерева поднимались черные стаи ворон и садились на крышу амбара, сгоняя оттуда белых голубей, которые спокойно ворковали возле трубы. Голуби взмывали кверху и исчезали белоснежными комочками. Вороны бегали по двору, выхватывали у кур рассыпанные зерна, садились на спину к жирному кабану, к корове, жевавшей жвачку, на грядку телеги, стоявшей с опущенным дышлом возле дверей амбара.
– Слава богу, устроили… – бормотала Доба, облизывая сухие губы и глядя на амбар. – Во что они его превратили, дом Зайвла…
Шлепая опорками, она подошла к индюку.
– Слава богу, – произнесла она, постукивая по клетке. Налила воды в корытце и проворчала: – Отныне– спаси, господи, и помилуй…
– Олдр-олдр, – едва слышно отозвался индюк, закатив круглый глаз, глотнул воды.
Двух вещей больше всего боялась Доба: чтоб не подох индюк и не сгорел амбар. Она слыхала: случается, что в колхозах кулаки поджигают амбары…
«Вот если б так было, – думала она. – Чтобы вдруг вспыхнул пожар и охватил все село, весь колхоз. Чтоб сгорели дотла все дома, и люди, и дети, и кони, и коровы, – все до цыплят и наседок… И чтобы только амбар уцелел».
Вечером, перед тем как закрыть ставни на ночь, Доба снова постояла у окна.
Солнце погружалось в пламенеющее зерево за селом. Все небо было охвачено багровым огнем, так что флаг над сельским клубом был едва заметен. Акация протянула к небу черные ветви. Черными точками казались вороны, сидевшие на ветвях.
Во дворе у амбара после работы собрались люди. Их становилось все больше и больше. Весь колхоз собрался здесь. Приехал на машине представитель из района. Он вышел, и его окружили со всех сторон. Люди о чем-то говорили, жестикулировали. Скоро машина укатила. Люди на дворе долго еще разговаривали, потом стали расходиться. Возле амбара сменились сторожа. Двор опустел.
Доба все еще стояла у окна. Небо стало синеть. Дорогу уже поглотила тьма. Привыкшие к темноте глаза Добы различали темный силуэт сторожа у амбара.
– Они думают, что сторожат свое, а они сторожат мое! Болячка им… – проговорила Доба и прикрыла ставень.
4А в это время там, где вербы неподвижно стояли, склонившись над водой, сидели Исосхор и Дворця.
Под ногами у них был сбитый из дощечек мостик. Одна дощечка сломалась посредине и упала в воду. В узкую щель гляделась луна. Но вот два облачка прикрыли ее сверху и снизу, и в просвете была видна лишь ее белозубая улыбка.
Дворця пыталась выдернуть руку из цепких пальцев Исосхора.
– Ну, как, Дворця, помиримся? А? – Исосхор улыбался. У него был вид человека, который хочет сообщить необычайную новость, о которой никто не знает.
Дворця не пошевельнулась.
– Ну, хватит! Посмотри хоть на меня…
Она подняла свое продолговатое загорелое лицо с зелеными чуть навыкате глазами. Глаза, под тонкими нахмуренными бровями, были сейчас сердитые. Но все же в них то и дело, словно рыбка в прозрачной воде, мелькала озорная усмешка.
– Улыбнешься ты мне сегодня? – спросил Исосхор.
Она не выдержала. Уголки рта раздвинулись сами собой, обнажив два ряда ровных зубов.
– Вот так ты – славная девушка! – сказал он и обнял ее.
Тонкая майка обтягивала ее высокую грудь, узкая юбка облегала стройные ноги. Она теребила бахрому платка на коленях и словно не замечала руку Исосхора на своем плече.
– «Девушка… девушка…» Что-то мне не по душе, Исосхор…
– Что? – тихо рассмеялся он.
– С этим золотом… Когда речь заходит о золоте, ты кажешься мне вроде твоей матери… Не знаю, что-то не нравится мне…
– Что тебе не нравится?
– Да вот… с этим золотом…
– Чего же ты хочешь?
Она взглянула на него.
– Не люблю я, когда ты прикидываешься…
– А я не люблю, когда ты говоришь мне я не знаю что…
– Ну, может, я и сама не знаю… Это золото… Не нравится мне это… Уж я тебе говорила…
– Это все?
– Да, Исосхор. Сколько я ни думаю, мне кажется, надо было бы его отдать… Ну, ты понимаешь, кто я такая? Вот скажи…
– Ты – красивая девушка, Дворця! Мне бы такую на всю жизнь…
– Не морочь голову! Я не об этом… А кто твоя мать?
– Злая индюшка! Такую бы жизнь моим врагам…
– А ты кто такой?
– Красивый, славный парень! Дай нам бог обоим такую жизнь, Дворця!
– Нет, не то. Я в колхозе ударница, бригадир…
– Будешь меня агитировать?
– Я хочу понять…
– А я уже понял, Дворця… Тебе нужен не я, тебе нужно золото…
– Мне?!
– Все равно… Если ты так говоришь, значит не любишь… Что ж, как хочешь… Есть еще девушки…
Она подняла голову и тихо проговорила:
– Я тебя люблю… Но я хочу, чтобы ты был… такой, как есть, но только немножко другой…
Она заглянула в его глаза. Она знала: всегда дикие, грубо насмешливые, они становились покорными и нежными, когда он глядел на нее; они словно удивлялись собственной покорности и нежности. Она положила руку к нему на плечо. И он тут прижал ее к себе с невероятной силой, так что она не могла устоять.
– Дворця!
– Что?
– Покончено с этим, Дворця!
– С чем?
– У старухи нет больше золота…
– Как это так?
– Но ведь ты так хотела?
– Так я не хотела, Исосхор…
– Не все ли тебе равно? Лишь бы все было хорошо.
– Для этого ты ездил в город?
– Да, Дворця. Я нарочно тебе заранее не говорил. Хотел тебя сразу обрадовать…
– Но ты отнес его, куда я говорила?
– Послушай, сейчас расскажу, как это было. Прихожу и говорю им: «Нате вам золото!» Они на меня смотрят, а я продолжаю: «Берите все, что лежит под индюком и под потолком. Никому пользы от него не было». «Сам-то я, пожалуй, этого бы не сделал, – так я им и сказал, – но этого хотела Дворця». – «Какая такая Дворця?!» «Дворця, говорю, ударница, бригадир. Дворця мне дороже золота…»
– Так и сказал? – разразилась она смехом.
– Так я хотел сказать, Дворця… Слушай дальше…
Самое интересное дальше. Я зашел в «Торгсин», это тут же, рядом с вокзалом. Встретил одного человека в очках, такого солидного… Разговорились о том, о сем…
– Ну?
– Словом, что тут долго говорить, Дворця! Нам сейчас на всех наплевать, Дворця…
– Чтo-тo ты болтаешь…
– Дворця, уедем отсюда вдвоем, купим себе квартиру.
– А какой болван тебе сказал, что я хочу уехать отсюда да еще с тобой?
– Если я так хочу, то и ты хочешь, и кончено!
– Я хочу знать: ты не отдал золото?
– Говорю же я тебе…
– Ну?
– Тот что в очках…
– Кто это такой?
– Думаешь, жулик? Наоборот, очень порядочный человек. Думаешь, он меня обманул? Исосхора не обманешь! Может, я его еще обдурил… Смотри!..
Он вытащил пачку и помахал ею перед ее глазами.
– У меня еще есть!
Он бросил пачку к ней на колени. Дворця вздрогнула. Она скинула деньги на мостик, вскочила с места, побежала. Через минуту ее уже не было видно. Исосхор начал собирать с земли деньги, совал их в карманы. Две бумажки упали в воду. Он засучил рукава, лег на мостик и долго искал их в темноте под склоненными вербами.
5Исосхора и след простыл. Он словно в воду канул…
Впервые за много лет Доба надела зеленую с толстой бахромой шаль. Добавочными засовами заперла ставни изнутри, залезла под печку, достала из кучи хлама два ржавых замка. Третий замок со связкой длинных ключей висел на кухне на гвозде, белом от присохшей известки и усиженном мухами. Ржавые длинные ключи висели неподвижно. Казалось, они хранили память о мануфактурной лавке, о богатом бакалейном магазине, о просторном заезжем дворе с полутемными комнатушками.
Доба, в потертой залатанной шали, в покоробившихся, подвязанных веревочками шлепанцах, со связкой ключей и с замками в руках, остановилась на минутку в сенях перед клеткой.
– Скоро подохнет. Толку от него… – проворчала Доба и вышла.
Несколько раз она осмотрела снаружи ставни, замки, взглянула на дикую яблоню, как бы стараясь ее запомнить, и, опираясь на палку, отправилась в деревню, к Дворце – узнать, куда девался Исосхор.
Но Дворця работала в поле. От ее матери Доба узнала, что дочь поссорилась с Исосхором…
– Разве вы ничего не слыхали? – сказала старуха, с удивлением глядя на Добу. – Все об этом говорят… Никто не знает, откуда у него взялись такие день: ги… Ведь он уже третью неделю гуляет в городе…
Но Доба уже не слушала. Она бежала, низко наклонив голову, чтобы никто ее не остановил, не задержал, бежала домой. У околицы навстречу выбежала ватага босых ребятишек. Девочки высунули языки, кричали одна громче другой, строили рожи:
– Доба тощая! Тощая Доба!
Доба нагнулась, подняла камень, швырнула его в ребят, побежала дальше. Юбка то вздувалась, то колотила ее по ногам. Вот и ее дом. Ржавые ключи визжали, не поворачивались. Наконец она в сенях. В клетке дремал индюк. Здесь все было в порядке.
Доба вошла в комнату, посмотрела на крюк на потолке и чуть не лишилась чувств. Глина вокруг крюка осыпалась, видно, уже давно… Она взобралась на стол и стала ковырять ножом потолок. Сухая глина падала на плечи, на ноги, она не замечала… Вот и то отверстие, но оно было пусто! Доба дико закричала. Выпавший из рук нож воткнулся острием в стол, так и остался торчать. Доба сорвала с головы шаль, платок, чепец, с рассыпавшимися волосами бросилась в сени, вырвала из засохшей грязи клетку с индюком и отшвырнула ее в сторону, а сама, упав на колени, стала ногтями разрывать и разбрасывать во все стороны грязную землю. Докопалась до ямки, но и она была пустая… Доба вспомнила, как в ту ночь индюк кричал не своим голосом, – сразу же после этого уехал Исосхор… Она упала без чувств головой в грязь.
Очнувшись, Доба увидела индюка – видимо, когда она швырнула клетку, вылетели две дощечки, и индюк вышел на свободу. Индюк направлялся к двери. Доба приподнялась и ухватила его за потрепанный хвост. Но индюк уперся и, видно, почуял свободу – прибавилось у него сил, да и сама Доба очень ослабела. Он вырывался у нее из рук и тащил ее во двор. Там она наконец выпустила индюка. В щели забора она вдруг увидела детские глаза – видно, дети бежали за ней до самого дома.
– Чего смотрите, а? Вы все еще раньше Добы подохнете… все!
Глаза тут же исчезли.
Доба стояла одна во дворе, под дикой яблоней. Индюк, увидев, что о нем забыли, улегся на пороге и прикрыл глаза.
6Доба шла медленно, тихо. Только подол юбки шуршал по земле, и шорох этот был не громче шороха листьев в рощице, мимо которой она шла. Подвязанные опорки шлепали по земле. Одной рукой Доба придерживала шаль под подбородком, в другой руке у нее была палка. Вдали мелькали редкие огни – там была деревня. Небо обложили низко нависшие тучи. Лишь кое-где в разрывах блестели далекие холодные звезды…
Доба подошла к амбару. Он, как и все вокруг, был погружен в сон. Возле него, как дремлющий сторож, чуть-чуть покачивалась акация.
Доба передвигалась вдоль стены, держась за нее руками, то и дело припадая к ней всем телом. Сонная ворона слетела с ветки. Ветка долго качалась, потом опять все стало тихо. Доба нащупала лестницу, взмахнула руками и наткнулась на перекладины… Не прошло и минуты, как она была наверху. Там она нашарила отставшую доску. Комок подкатил к горлу, она еле удержалась на лестнице. Собрав последние силы, Доба пролезла на чердак. Она почувствовала запах сушившихся здесь когда-то табачных листьев, конских шкур и дыма. Что-то крошилось и осыпалось под ногами. Согнувшись, Доба ползла вперед на четвереньках, шарила руками. Юбка задела за что-то острое и разорвалась. Доба изо всех сил закусила губу. Достала спички, огонек вздрогнул, заколебался, но все же разгорелся синевато-красным острым язычком. Теперь Доба видела справа печную трубу, над головой были протянуты веревки. Она подобрала и зажгла длинную щепку, подошла к трубе и опустилась на колени. Снова к горлу подкатил комок. Искривленными пальцами она разрыла набросанные здесь кукурузные початки, стебли, щепки, сгнившие листья. Нет, это не то. Надо по ту сторону трубы… Но и там нет. С ума она, что ли, сошла? Вон здесь, в углу… Как раз на этой веревке сушилась тогда шкура… Доба стояла неподвижно. Щепка все еще горела. Пробежала мышь, – внизу, наверное, хранился хлеб… Доба разрыла мусор и добралась до ямки.
Здесь!
Она опустила в ямку дрожащие пальцы, пошарила и вдруг нащупала чулок, в котором было спрятано золото… Вот оно! Битком набито!.. Она вытащила руку, в другой держала горевшую щепку… На ладони у нее лежала дохлая крыса с отъеденой головой…
«Зайвелева работа… – мелькнуло у нее в голове. – Родной брат… Кроме Зайвла, ни одна живая душа не знала об этом…»
Опять Доба лишилась, чувств. Горевшая щепка выпала из рук на сухие стебли и листья…
7Тревожно звонили колокола на колхозном дворе. Далекое зарево вздымалось вверх над домами и огородами, доходило до леса, выхватывало из темноты белые стволы берез. Перепуганная белка прыгала с одной вершины на другую, кричали ослепшие совы.
В ярко освещенном небе, отчаянно каркая, носились стаи ворон, собаки выли в подворотнях, бегали с красными глазами, высунув языки, деловито помахивая хвостами. Слепой старик стоял в луже посреди улицы, ярко освещенной пламенем пожара. Он топтался на одном месте, тыкая палкой, вертел головой во все стороны:
– Где горит?
– Хлеб горит!
– Амбар! – хрипло кричал колхозник, бегавший от дома к дому и будивший крестьян.
Отворялись двери, выбегали полураздетые люди с вилами и топорами, с лопатами, с ведрами.
– Кто мог поджечь?
– Раздумывать некогда!
– Наш хлеб горит! Наше золото!.. – кричал рослый, широкоплечий парень с растрепанными волосами, указывая на амбар.
– Золото… Труд наш торит!..
– Наш хлеб!
Знали одно: надо снять крышу, покуда огонь не пошел вниз. Надо спасти хлеб в амбаре. Во дворе было полно народу. Ржали наспех запряженные лошади, мычали телята, визжали свиньи, огонь трещал, стрелял искрами, гремели подъезжавшие и отъезжавшие подводы с бочками воды.
На одной из них промчалась Дворця, энергично нахлестывая лошадей. Наверху, в пламени и клубах дыма, колхозники с топорами в руках боролись с пожаром.
Вдруг пламя охватило старую акацию. Она раскачивалась, словно желая увернуться от огня, ветви ее почернели. Огонь захватил гнездо, из которого высунулись два голошеих птенца. Писка их не было слышно, видно было только, как они быстро и широко раскрывают клювики. Вокруг гнезда в отчаянии вились самец и самка. Огонь как бы поднимал их кверху на горячих волнах. Вдруг одна из птиц ринулась вниз, за ней – другая, обе скрылись в дыму. Через минуту они вылетели из пламени, держа в клювах птенчика.
– Воду подавайте! – кричали колхозники на крыше.
– Лестницы!
– Потолок обмазанный! Выдержит!
– Потушим!
Широкие струи воды беспрестанно били из брезентовых рукавов. Ведра и ушаты переходили из рук в руки, выплескивались одно за другим. Бочки подъезжали и уезжали. Раскаленными топорами люди разбивали крышу.
Когда крышу разобрали – потолок остался цел, зерно почти не было повреждено, – возле развалившейся печной трубы нашли обгоревшее, залитое водой тело женщины. Неподалеку от тела валялась тлеющая крыса…
1935
Арка
Каряя кобыла, на которой ехал Шамиль, вздрагивала, когда к ней прижимался Аркин жеребчик. Она все время терлась возле него. У нее была длинная белая полоса вдоль спины и влажные розовые ноздри. Она страстно любила этого жеребца – крупного, черного как смоль. Оба всадника всегда ездили рядом.
В кавалерийской части Шамиль один был родом из высокогорных аулов Осетии.
Шамиль по-своему, тайно, но братски нежно любил Арку – маленького, бледнолицего, с большими усталыми глазами и давно не бритой длинной косматой бородой. Арка побаивался Шамиля и из-за этой боязни даже не любил его.
Осетин Шамиль был молчалив и суров, как горы его родины, которой Арка в жизни своей не видал, но о которой наслышался страшных историй.
Поэтому Арка боялся осетина и недолюбливал его. Но словно назло он постоянно чувствовал на себе его взгляд из-под сердитых черных бровей.
Вскоре после того, как Арку мобилизовали в красные части, он, не в силах вынести тоску по своему портновскому ремеслу, по прежней жизни, ночью ушел к себе в местечко, к жене. На полпути его поймали и привели на караульный пост. Он как сейчас помнит накуренную крестьянскую хату, на столе чадила лампа. Кругом, тесно сгрудившись, сидели люди, перетянутые пулеметными лентами, с винтовками у колена. Перед ними лежала помятая карта, а над, казалось, самыми их головами, в махорочном дыму, плавала желтая, как воск, святая Мария с младенцем на руках.
– Дезертир! – доложил красноармеец, втолкнув его в хату.
Поднялся комиссар, высокий украинец с черной повязкой на одном глазу, посмотрел на него здоровым глазом и коротко приказал:
– Расстрелять!
Арка упал к ногам комиссара, лежал у рваных сапог, из которых торчали пальцы, и плакал…
– Мне сказали, что жена родила… Я только на один день… Посмотреть на ребенка…
В эту минуту над крышей дома засвистели пули, вбежал запыхавшийся красноармеец без фуражки и крикнул:
– Напали на первый эшелон!
Все сорвались с мест, в окнах короткими молниями засверкали выстрелы.
Арка вцепился в руку комиссара:
– Дай мне винтовку! Винтовку!
Комиссар сорвал с пояса револьвер и сказал:
– Но помни, если попадешься в другой раз…
В этом бою Арку тяжело ранили. И после этого он не переставал тосковать по дому, но боялся признаться в этом. Он упорно подавлял в себе это чувство и вымещал гнев на врагах в частых битвах.
Уходя в армию, он оставил в местечке молодую жену. Это было спустя неделю после свадьбы. Она была младшая дочь портного, у которого Арка учился ремеслу. Он любил ее с детства, когда таскал помойные ведра у ее матери-портнихи, и когда стал парнем и сам сидел уже за машиной, не перестал ее любить. И она, кроме него, никого не знала.
Портной стал стар. Предчувствуя конец, он отдал Арке свою младшую дочь, а в приданое – три машины и всех своих заказчиков из окрестных хуторов.
Арка стал единственным портным в округе и мужем своей любимой Мирл – самой красивой из местечковых девушек. Произошло это в тот тяжелый год, когда на Украине свирепствовали белые банды и ее бросало как в лихорадке от одной власти к другой. Начали формироваться первые части Красной Армии, тогда Арку и мобилизовали.
За это время он побывал на многих фронтах, сильно изменился, но все еще тянули его к себе Мирл и портновская машина. И больше всего – Мирл и ребенок, которого он так и не видел…
В тихую лунную ночь крупная кавалерийская часть подошла к маленькому пограничному местечку. Она должна была выбить отсюда петлюровскую банду, которая свирепствовала здесь вот уже несколько дней. По глубокому ночному небу плыли большие белые облака, то скрывая, то открывая луну. Арка и Шамиль скакали впереди. На Шамиле была широкая мохнатая бурка, которая делала его похожим на гигантскую летучую мышь. Полосы лунного света освещали бойцов. Обочины дороги кутались в тень. Вдали, насторожившись, темнели рощи и перелески. Лошади громко дышали и позвякивали уздечками.
Из-за горы показался хутор, окруженный лесом. От этого хутора было еще восемь верст до местечка. Это был тот самый хутор, где два года тому назад Арку приговорили к расстрелу и где он искупил вину в своем первом бою.
Найдет ли он свою Мирл, думал Арка, не придет ли он чересчур поздно?
Он хотел представить себе, как выглядит его ребенок. На кого он похож – на него или на жену?
Двоих послали в разведку – на хутор и в местечко. Это были Шамиль и Арка.
Ночь была на исходе. Над землей повисло серебристое покрывало тумана. Вдали виднелся лес. Арка подстегнул жеребца и пустил его галопом. Шамиль нагнал Арку, крикнул:
– Осторожнее, сумасшедшая голова!
– У меня там жена, – тихо ответил Арка, показав куда-то за лес. – И ребенок…
Глаза Арки, в которых Шамиль часто видел выражение грусти, теперь светились радостью, да и весь он выглядел сейчас крупнее и крепче на своем черном жеребце.
Арка вдруг расстегнул ворот рубахи и достал медальон. Он показал его Шамилю. Тот наклонился и увидел прекрасное женское лицо с глубокими черными глазами.
– Твоя? – спросил Шамиль и с удивлением посмотрел на Арку, будто видел его впервые. – Как ее зовут?
– Мирл…
– Как? – переспросил Шамиль.
– Мириам…
– У моей сестры были точно такие же глаза, – тихо проговорил Шамиль, вздохнул и умолк.
Они поехали дальше.
Взошло солнце. Туман рассеялся. Всю окрестность залило светом. Стал виден лес вдалеке. Арка вдруг схватился за висевшую на поясе единственную гранату.
Шамиль остановил его.
– Она тебе пригодится позже! – крикнул он. – Что ты хочешь делать?
Арка оставил гранату и схватил Шамиля за руку.
– Шамиль! Если бы ты пришел туда, в эту… Как ее зовут? В Осетию. И увидел бы – твое солнце восходит меж гор. А в горах где-то ждет тебя жена… Разве ты не схватил бы последнюю гранату, не швырнул бы ее так, чтоб услышали горы и чтоб знала твоя жена… Ведь сердце может разорваться! Не правда ли, Шамиль?
Арка смотрел на своего товарища широко раскрытыми глазами. Тот надвинул папаху на самые брови. Он молчал. Серая невспаханная земля пылила под копытами лошадей. На горизонте пронзил небесную высь сверкающий купол церкви. Лес развернулся перед ними. Сменялись клены, березы и дубы, мелькали голубые просветы в кронах.
Возле леса на холме меж двух глубоких оврагов раскинулся хутор. В овраге змеился ручеек, в котором плескались гуси. На крыше одного дома стоял долговязый аист. Шамиль накинул на плечи Арке свою бурку и поскакал к местечку. Арка привязал коня к дереву и боковой тропой направился к хутору. Он условился с Шамилем, что если на хуторе он никого не застанет, то воткнет в крышу одного из домов длинную жердь.
В этот дом Шамиль должен будет заехать, когда вернется из местечка, а отсюда они оба поедут навстречу своей части.
Арка вошел в брошенный сад, огороженный полуобвалившимся плетнем. Арка пополз вдоль плетня. Он занозил себе колени и почувствовал сильную боль. Сад тянулся бесконечно. Вдруг, проползая между двух ореховых кустов, он услыхал чьи-то голоса и приник к земле. Голоса приближались. Прошли две стройные девушки в вышитых рубахах, с коромыслами на плечах.
– Кто тебе сказал? – спросила одна.
– Мой Гриц…
– Ах, вот когда будет веселье! – рассмеялась первая и спросила: – А что он тебе вчера подарил?
– Сережки, настоящие, серебряные! А Иван тебе что?
– Колечко из чистого золота. Иван говорил, что он его снял с одной жидовки…
Смех девушек раздавался у самых кустов. Вторая сказала!
– Я сегодня скажу Грицу – пускай отдаст мне все, что за эти дни награбил! А не то пусть с другими гуляет…
Арку охватил ужас. Что стало с Мирл и с ребенком? – сверлило у него в голове. Кто знает, живы ли они? Снова послышались голоса. Он опять притаился. Позади хрустнули сухие ветки. Прошли две старые крестьянки в подоткнутых юбках, согнувшись под тяжестью ведер.
– Параска, я побожиться готова, что видала здесь солдата… Будто пробежал где-то, спрятался…
– И я видела, – ответила вторая. – В черной бурке, с бомбой…
– Неужто петлюровцы?
– Не похоже…
Крестьянки отошли подальше.
– Ох, Параска, были бы мы молодые… – послышалось уже издали.
– Молодые все у них вытягивают, что те заберут в городе…
– А чего тут петлюровцам делать среди дня? Евреев теперь нет…
– Есть евреи…
– Кто?
– Никому не говори… Их тоже жалко… У Степанихи…
Арка поднялся и огляделся. Крестьянки скрылись. Больше никого не было. Он вылез из своего укрытия и помчался по хутору. Он хорошо знал, где живет Степаниха. Не одно платье сшил он ее дочерям.
«Мирл!» – кричало все его существо.
Он никого не встретил, пока бежал по длинной улице. Даже собаки не лаяли ему вслед. Хутор точно вымер. Хатенки за плетнями равнодушно глядели друг на друга ослепшими окнами. Войдя во двор Степанихи, Арка первым долгом взобрался на крыльцо и воткнул в крышу длинную жердь. Потом вошел в сени. Сразу ударило запахом куриного помета и соленых огурцов. Он отворил дверь и увидал чистую пустую комнатку с единственным окошком. Под иконами светилась лампада. Висело холщовое полотенце с вышитыми птицами. На пороге показалась Степаниха. Она вскрикнула и тут же исчезла. Он услыхал, как она кричала:
– Ратуйте! Солдаты! Красные!
И вдруг полог, как от сильного ветра, отлетел, и в белом шелковом подвенечном платье его жены Мирл, – Арка сразу узнал его, – выскочила в комнату испуганная дочь Степанихи… За ней, широко распахнув руки, вышел красный от возбуждения петлюровец. Арка сорвал с пояса гранату. Он вспомнил о Шамиле. «Вот тут она мне пригодится!» Петлюровец высадил стекло и выпрыгнул на улицу. Дочь Степанихи визжа выпрыгнула следом за ним. Арка отступил к дверям. Из-за полога вышел второй петлюровец. Арка поднял гранату, второй петлюровец как и первый, подскочил к окну. От страха и спешки он застрял в нем. Но через минуту его уже не было.
Думая, что здесь находится целый отряд, что сейчас выскочат еще петлюровцы, Арка отошел к самой двери и быстро сорвал кольцо с гранаты. И в эту минуту подошла к нему Мирл с ребенком на руках. Ребенок спал и держал ручонку на ее обнаженной груди. Между розовыми пальчиками билась голубая жилка. Арка видел Мирл, словно в тумане. Хотел крикнуть, но не мог… Может быть, все это ему кажется? И вдруг он вспомнил, что сорвал кольцо с гранаты, что у него в руках смерть всех этих людей и его собственная. Через три минуты граната взорвется!
Мирл его узнала и вскрикнула. Ребенок проснулся и посмотрел прямо на него. Арка, ничего не понимая от ужаса, приготовился бросить гранату в окно, но в эту минуту в окне возникла фигура Шамиля. У Арки потемнело в глазах. Мирл испугалась всадника и бросилась к Арке. Он хотел ей крикнуть, кинулся к дверям, но в это время граната, стукнувшись о дверь, взорвалась.
…Бой произошел в ту же ночь, на пол пути между хутором и местечком. В полночь, когда бой окончился, бойцы и командиры пришли проститься с тем, что осталось от Арки.
Шамиль сказал:
– Хороший человек был Арка…
На следующий день кавалерийская часть ушла вперед.
1934






