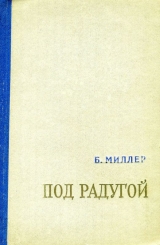
Текст книги "Под радугой (сборник)"
Автор книги: Борис Миллер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
1
Семь дней в ярком пламени утренней зари всходило солнце. Сейчас оно медленно опускается за голубоватую полоску дальней рощи. В этот тихий вечерний час воздух полон настоявшейся синевы. Леса и перелески то приникают к самому вагонному стеклу, то убегают в сторону. Проносятся мимо окон селения. Иногда промелькнет речка и теряется в набегающих кустах. Внушительно грохочут железнодорожные мосты. В немолчный говор вагонных колес вдруг врывается короткий озорной свисток и тут же тает в бескрайних просторах.
Кеслер, высокий, плотный человек с седеющей шевелюрой, опирается на раму приоткрытого окна. Ветер треплет его волосы, то и дело хлопает серебристыми прядями по широкому лбу и глазам в мелких морщинах. Между пальцами дымится папироса. В полуоткрытых купе, в которых едут из Крыма пионеры, беспрестанно поют песни.
Вот уже несколько месяцев американец Кеслер разъезжает по Советскому Союзу с ощущением человека, который никак не может понять, кто кого обманул. Приехал он из Америки с намерением чему-то здесь научиться, но вот уже несколько месяцев он разъезжает и не решается подвести итоги.
Кеслер уехал в Америку за несколько лет до мировой войны. Там на одном из предприятий он встретил миловидную девушку Дженни. Он излил перед нею душу и показал пару тетрадок, исписанных еще в России. Там их не печатали. Девушке понравились и Кеслер и его тетради. Со временем он их переработал и напечатал. И все написанное в этих тетрадках приобрело тогда отсвет тихих серых глаз Дженни, ласковость ее рабочих рук. Дженни захотелось, чтобы он писал, писал как можно больше. Она заставила его бросить фабрику. Сама она неплохо зарабатывала, детей у них не было, а со временем она стала первоклассной закройщицей в большом магазине на одной из авеню.
У Кеслера появились манеры человека, которому некуда спешить. Он не торопился печататься, не искал встреч с редакторами. Он приходил в кафе «Рояль» или «Юроп», где собирались писатели, но и там не любил говорить о своей работе. Его хлеб насущный от этого не зависел. В Америке это явление очень редкое. Поэтому на него стали смотреть, как на человека, пользующегося особым положением. И у самого Кеслера постепенно сложилось мнение обо всем, что он пишет, как о чем-то особенном, и ему казалось вполне естественным, что все на него смотрят, как на не совсем обыкновенного человека.
Он стал уверенно держаться, скупился на слова и стремился к тому, чтобы знакомые Дженни не меняли к нему своего отношения. И так как он выгодно отличался от других писателей как писатель чистоплотный, не знающий материальной зависимости от хозяев, редакторы желтых газет всячески старались заполучить его имя в список своих сотрудников.
Кроме писателей, его окружали друзья, Дженни, ее жизнь, ее интересы. Дженни создала ему уютный домашний очаг и, главное, атмосферу почтительного отношения к его писательской работе. Дженни была счастлива: она, его жена, первая открыла его талант.
Но после того как весть об Октябрьской революции дошла до рабочих Америки, у Дженни появились новые друзья, они часто приходили к ней и в отношении ее мужа вели себя так, как будто он и не был крупным писателем. Впрочем, он понимал это так: они – люди трудовые, занятые забастовками, жизнь у них невеселая, им не до писателей.
Так прошло немало лет. Но вот настало время единого народного фронта. Дженни, никогда не интересовавшаяся отношением мужа к политике, вдруг начала таскать его на собрания и митинги. Оказалось, что большинство рабочих относится чрезвычайно холодно ко всему, что пишет Кеслер. Это его задело. И больше всего задело то, что и Дженни, как ему казалось, становится равнодушной к его работе. Не закрадывается ли у нее мысль, что она зря связала с ним свою жизнь? Вообще, что все это значит? Сколько лет он был писателем для всех, и вдруг: оказалось, что есть люди, которым нужны другие писатели, другие сюжеты, другие темы… Откуда взялись эти; люди? Откуда у них такие требования? Неужели все это идет оттуда, из Советской России? В таком случае надо посмотреть на эту страну, на ее людей. Как полагает Дженни? Дженни уже давно мечтает об этом! Со всем энтузиазмом прошлых лет она собирала его в дорогу…
И вот уже несколько месяцев он разъезжает по городам и стройкам Советского Союза. Он чувствует себя, как во времена банкротства, но он все еще не знает, кто обанкротился.
На зеленовато-голубом фоне мелькают сосны.
– Это не сосны, это пихты, правда? – услыхал Кеслер рядом женский голос.
Сбоку, у окна, стояла высокая женщина с копной черных волос, жена командира, едущего с ним в одном купе.
– Да, – ответил Кеслер, – пихты…
И только тогда он заметил, что женщина обратилась не к нему, а к своему мужу, командиру. Из вежливости он отодвинулся.
Он вдруг почувствовал себя одиноким, стало тоскливо. Может быть, ему вообще не следовало ехать сюда? Там, в Америке, все же были люди, которые его читали и уважали, хотя Дженни и относила их к мелкой буржуазии.
Ему казалось, что сразу же по приезде он напишет значительное, правдивое произведение об этой стране.
Он несколько раз принимался за перо, но каждый раз приходил к выводу, что все, что он напишет, будет интересно только тем, кого Дженни относит к мелкой буржуазии, а не ее друзьям – рабочим, и тем более не русским. Что он знает о них?
Вот едет с ним в одном купе командир, с которым он разговаривает каждый день. Этот человек столько видел и пережил: был партизаном, потом строителем, сейчас – опять командир. Что же он, Кеслер, может рассказать командиру о его, командира, жизни? Или взять сорокалетнего инженера из соседнего купе, который едет строить мосты. Казалось бы, обыкновенный человек. А ведь у него богатейший опыт, он бывал в командировках в Германии, Англии и в Америке, прекрасно знает свое дело, – а в детстве был где-то в этих местах пастухом. Он знает классическую литературу, влюблен в Пушкина. Даже пионеры, которые едут в этом вагоне, кажется Кеслеру, и те не такие, как дети других стран. Кеслер писал и для детей. Но что он мог бы рассказать этим детям об их жизни и об их стране?
На повороте поезд выгнулся дугой, показал закутанный дымом паровоз. У открытых окон стояли пассажиры, другие оживленно направились к выходу. Показалась станция, Кеслер встал спиной к окну и разглядывал пассажиров. В вагоне был полумрак, света еще не зажигали. Следя за людьми, которых он, казалось, изучил за семь суток, проведенных в поезде, он представил себе, что читает им кое-что из своих сочинений. Что же могло бы их заинтересовать? Он писал об американцах среднего достатка, о еврейских полуинтеллигентах, которые ведут в Нью-Йорке холостяцкий образ жизни и собирают коллекции галстуков, о женщинах второй молодости, о своих путешествиях по другим странам… Но что до всего этого его нынешним спутникам?
– Ну-с, гражданин американский писатель, попрощаемся! – услышал Кеслер и обернулся. В кожаном пальто, с чемоданом в руке стоял инженер. Его глаза смотрели с насмешливым сочувствием.
– Вот здесь, неподалеку отсюда, я буду строить мосты.
Инженер посмотрел на носки своих ботинок, подумал немного, потом снова взглянул на американца и добавил:
– Построить в нашей стране хороший мост – все равно, что помолодеть. Право же, это прекрасное дело!
И, больше не оглядываясь, пошел к выходу. Поезд задержался на одну минуту, оставил несколько человек на этой заброшенной станции и отправился дальше. В сумерках уже трудно различались окутанные туманом луга, контуры тайги. На фоне синего неба вырисовывались сопки. В вагоне пассажиры пили чай за освещенными настольной лампой столиками. Кеслер все еще стоял у окна и никак не мог представить себе черты лица инженера, с которым только что попрощался, запомнился лишь сочувственный взгляд его глаз.
Поезд несся меж гор, вдоль берегов большой реки.
2Перебирая близких людей и знакомых, Кеслер остановился на друге детства Эле Гринберге, который работал в Биробиджане.
В 1928 году, когда в Биробиджан стали съезжаться первые переселенцы, Эля Гринберг написал Кеслеру, что тоже едет туда, едет с женой и четырехлетней дочуркой.
К Эле Гринбергу и ехал Кеслер.
Кеслер отошел от окна и вошел в свое купе. Оба его попутчика, командир и краснофлотец, сидели, склонившись над шахматной доской. Жена командира уже лежала, завернувшись в одеяло, и следила за игрой.
Перевес, видимо, был на стороне краснофлотца. Во всяком случае он весело проговорил, оторвавшись от шахматной доски:
– Ну, как? Скоро Биробиджан?
Тогда и командир поднял глаза на Кеслера.
– Вот увидите, – сказал он тоже весело, очевидно, забыв, что его «белые» оказались в трудном положении. – Прямо-таки город вырос…
– Да! – отозвалась жена командира. – Я помню, всего несколько лет назад, когда мы здесь проезжали, было скучновато… Лишь кое-где освещенное окно да одинокий деревянный вокзальчик…
Теперь в окне вагона мелькали огоньки, приближались, их становилось все больше.
3На дверях квартиры Гринберга висел большой замок. От этой закрытой двери на него повеяло отчуждением, холодным равнодушием, как если бы кто-то спросил у него: «Чего ищешь? Что ты здесь оставил?»
Моросил дождь.
Чтобы избавиться от этого ощущения, Кеслер постоял еще немного, потом нарочно медленно пошел прочь. Он шел по улице. Вокруг высились стройки. Люди взбирались на верхние этажи по лесам, копошились в глиняных ямах, укладывали фундаменты, возводили стены, крыли крышу, выравнивали, чинили мостовую, прокладывали деревянные тротуары. В одном месте уже заканчивали каменный дом, в другом только еще начинали класть стены. В центре города возвышался новый красивый вокзал. Экскаваторов Кеслер не увидел, башенные краны не простирали своих стрел над стенами домов. Небоскребов тоже не было, а весь разбросанный город выглядел как сплошной строительный лагерь.
Кеслер зашел в школу. Он застал здесь только учителей – учебный год должен был начаться через несколько дней. Узнав, что он американский писатель, несколько учителей предложили ему пожить у них до приезда Эли Гринберга. Он согласился.
Первое время дожди не прекращались. Блекли краски. Гринберг с женой все не возвращались. Целые дни Кеслер гулял по городу. По ту сторону реки он видел окутанные туманом сопки и горы.
Потом дожди прекратились. Ясными вечерами огромный оранжевый диск солнца бросал какие-то необыкновенные розово-лиловые лучи на реку, задерживаясь на голубых вершинах.
Сопки с их ярко-фиолетовыми краями постепенно погружались в вечерний сумрак.
Проходя мимо дома, где жил Гринберг, Кеслер поглядывал на двери его квартиры.
В один из таких дней Кеслер увидел на ступеньках крыльца девочку лет двенадцати-тринадцати. Ему показалось, что эту девочку он несколько раз встречал на закате на мосту через Биру. Насколько ему помнится, она сидела на приступочке и рисовала акварелью сопки и лепившиеся на их склонах домишки.
Неужели это дочь Гринберга? Вечером Кеслер нарочно еще раз пришел на мост, широко раскинувшийся над рекой. На городском берегу высокие деревья парка заслоняли ярко-красные лучи заката. Берега отражались в спокойной глади воды. Бира словно поглотила весь небосвод, пламенеющий на западе, перистые облака, отливающие то розовым, то голубым и неподвижно висевшие в небе.
Девочка была, как всегда, на мосту, она сидела и рисовала.
Кеслер тихо подошел к ней сзади, посмотрел на ее голову с подстриженными черными волосами, на согнутую спину. За ее плечами он увидел полотно с изображенным на нем солнечным закатом, отраженным в воде, и, похожими на верблюдов на коленях, освещенными сопками. Словно почувствовав на себе чей-то взгляд, она отняла кисть от картины и обернулась к Кеслеру. Из-под ног скатился камешек и упал в воду. Взгляд Кеслера смутил девочку. С минуту они молча смотрели друг на друга.
– Экскьюз ми, – произнес он по привычке, но тут же спохватился. – Это не ты сидела сегодня у дверей, где живут Гринберги? Ты им кем-нибудь приходишься?
– Да, – довольно холодно ответила девочка. – Я Фира Гринберг. А что такое?
Она сказала это совсем как взрослая. Зато Кеслер почувствовал себя очень неловко, когда ответил:
– Я друг твоего отца. Меня зовут Кеслер. Я и приехал к твоему отцу.
Так как она молчала, он добавил:
– От отца ты никогда не слыхала моего имени? Кеслер, еврейский писатель из Америки…
– Нет, – ответила девочка, – никогда не слыхала..
Она минуту подумала, и только тогда на ее продолговатом личике появилось действительно детское выражение. Она пожала плечами и сказала:
– Наверно, папа забыл…
Солнце зашло. От поблекшей воды, от побледневшего неба потянуло прохладой. Из-за сопок выглянул молодой месяц. По реке протянулись серебристые дорожки.
– Ну что ж, пойдемте, – как старому знакомому, сказала девочка. – Могу вам дать ключ.
Шагая с ним рядом, Фира рассказала, что отец и мать на курорте, что они уже едут обратно – прислали телеграмму с дороги. А она, Фира, пока нет родителей, живет у подруги.
– А вы живете у одного учителя из нашей школы, – неожиданно добавила Фира. – Я несколько раз видела, как вы шли туда.
4Через два дня Фира зашла к учителю, у которого жил Кеслер, и сообщила ему, что родители ее приехали. Они попросили прийти к ним вечером, когда вернутся с работы.
Часов в восемь вечера Кеслер пришел к Гринбергам. У них была большая чистая комната с занавесками на окнах и портьерами на дверях. На столе – свежая голубая скатерть, на которой еще видны сгибы от утюга. За столом, освещенным электрической лампой, сидела со своим альбомом Фира. Рядом с ней стояла мать, Фаня Гринберг, и просматривала рисунки, сделанные дочерью за время их отсутствия.
Когда Кеслер вошел, обе повернулись к нему. Они старались делать все, что полагается в таких случаях: пригласили снять пальто, присесть, но после он подумал, что они делали это исключительно из вежливости.
– Эля сейчас придет, – сказала Фаня, и продолжала рассматривать альбом.
Сидя на диване, Кеслер присматривался к каждой из них. Может быть, оттого, что к Фире он уже успел привыкнуть, лицо матери, на которую Фира была похожа, показалось ему знакомым. В чертах обеих была строгость, сдержанность и привлекательность.
Кеслер наклонился к боковым дверям, желая посмотреть, сколько комнат в этой маленькой квартире. Потом, обернувшись к Фане и Фире, он заметил, что они все время быстро переводят взгляд от альбома к нему. Он пригляделся и увидел, что Фира скупыми штрихами успела нарисовать его профиль.
– Олл райт! – произнес он. – Но почему с трубкой во рту, ведь я курю сигары?
– Все равно, – ответила Фира. – Вы – американец, вы должны держать трубку во рту…
Фаня и Кеслер от души рассмеялись, и этот смех, который их обоих немного сблизил, очень обидел Фиру.
– И вовсе нечего смеяться, – сказала она, – я видела здесь многих американцев. Без трубки у них рот какой-то кривой.
– Но с трубкой, – улыбаясь, ответил Кеслер, – рот ведь тоже кривой?
– Да, – сказала Фира, – но тогда это из-за трубки…
– Ну, ты болтаешь глупости! – сказала мать. – Везде могут быть люди с такими ртами… А у товарища Кеслера как раз рот не кривой.
По тому, как Фаня сказала «товарищ Кеслер», он понял, что она и Эля уже говорили о нем.
Пришел с работы Эля Гринберг. Это был высокий смуглый человек с чуть вьющимися волосами, с полными губами, улыбающимися глазами и щеками, которые кажутся давно не бритыми даже сразу после бритья. Он был немного похож на араба.
Он долго смотрел на Кеслера, окинул взглядом его фигуру, лицо и седеющие волосы.
– Кеслер? – спросил он тихо.
В грудном его голосе было что-то приятное и в то же время сдержанное, как у человека, который не любит много говорить.
– Садись! – сказал он, поздоровавшись, а сам остался стоять, положив обе руки на высокую спинку стула. Он все еще не отрывал глаз от Кеслера, очевидно находя в его лице знакомые черты молодого человека, с которым когда-то был в близких, товарищеских отношениях.
– Ну, что ты успел повидать у нас? – спросил он дружески.
Кеслер сразу оживился. За чаем говорили о Биробиджане, о том, что успел уже посмотреть Кеслер. К Фане Гринберг пришла молодая женщина. Из их разговора Кеслер понял, что Фаня – врач.
Потом Кеслер заговорил о природе края, о том, что борьба с природой, овладение ею всегда были одной из интереснейших тем в литературе.
На лице у Гринберга застыла улыбка. Он снова внимательно посмотрел на Кеслера, наморщил лоб и спросил:
– Ну, а как у вас в Америке?.. То есть насчет литературы? Я оторвался, – объяснил он смущенно. – Было у вас несколько писателей, наиболее близких к нам. Помню, что носились с Лейвиком, с другими… Где я был тогда? В Донбассе. А что он там сейчас делает, Лейвик? Все еще считается агентом Мессии в Нью-Йорке? Я кое-что читал из его сочинений… Он, кажется, здорово влюблен в свою персону.
Кеслер почувствовал себя неловко.
5Женщина, приходившая к Фане Гринберг, ушла. Вскоре Фира, вежливо попрощавшись с Кеслером, отправилась спать. Через несколько минут из комнаты послышался ее голос – она звала отца.
Кеслер остался ночевать.
Он прожил у Гринбергов недели две. Спать обычно ложились не поздно, вскоре после ужина, который как-то раз затянулся дольше обычного. Кеслер уже разделся и лег, когда в комнату осторожно вошла Фаня.
– Можно? Вы, кажется, хотели посмотреть дневник Фиры? – сказала она.
Да, он действительно хотел.
– Ш-ш-ш! – предостерегающе подняла она палец.– Может быть, она еще не спит. Она не должна об этом знать…
Фаня дала ему дневник и вышла. Абажур оставлял в тени двери комнаты, ярко освещая постель Кеслера. Он закурил. В этом чужом городе, на этой белоснежной постели Кеслер чувствовал себя одиноким.
Облокотившись, он стал рассматривать дневник Фиры. Наряду с ее рисунками (дома в лесах, трактор на пароме, охотник) он увидел записи мыслей, рассказов отца о гражданской войне, всего, что она слышала о родной стране, о своей родине…
Кеслер читал:
«Напротив нас начали строить большой каменный дом. Когда мы приехали сюда, на этом месте была вода. Через воду перекидывали доску, которая всегда раскачивалась, когда по ней шли. Однажды я поскользнулась, упала и чуть не захлебнулась. Меня вытащили всю мокрую. Иногда мы становились на какую-нибудь доску и плыли на ней, как на лодке. Теперь на этом месте, поближе к нашему дому, я посадила садик. Две вишни и три акации, они хорошо принялись».
«…Отец тогда отступал с бронепоездом от Деникина, был ранен. И вдруг они получили известие, что в десяти верстах отсюда путь взорван. Штаб приказал взорвать бронепоезд, чтобы не достался врагам. Но тогда все сразу принялись за работу. Раненые тоже таскали к насыпи песок. Папа ползал на коленях полуголый, край рубахи с песком придерживал зубами и так карабкался на насыпь… Люди падали без сил и снова поднимались. Через пять часов путь был восстановлен. Бронепоезд ушел дальше. А как только он ушел, несколько оставшихся человек снова взорвали линию – враги были уже близко. Боевой приказ – взорвать бронепоезд – на этот раз не был выполнен…
О бронепоезде мне рассказывал папа перед сном».
«Сегодня с лесов свалилась балка и прямо ко мне в садик. Балка сломала мои вишенки и раздавила все мои цветы… Я плакала…».
«Отец поехал в командировку по области. У меня каникулы, и он взял меня с собой. Уже несколько дней, как мы едем. Не знаю, есть ли где-нибудь еще такие красивые места? Красиво вечером и ночью, когда луна. А на рассвете! Кругом высокие горы, с острыми вершинами. Только что из-за горной вершины выглянуло солнце. И вся гора стала словно голубая, вершина – розоватая, а меж склонов, скрытых в тумане, пробились яркие лучи… Поезд бежит над рекой. Вода в реке морщится и убегает. Потом вырастает гора. Страшно: вот-вот треснет скала, сорвутся каменные глыбы и завалят поезд, папу и меня. А вот меж двух голых камней выглянул цветок на высокой ножке и несколько травинок. Откуда-то на камень нанесло немножко земли, и там выросла травка и этот цветок. Хотела показать папе, но поезд уже промчался мимо…».
«Мне хочется в своем альбоме зарисовать все, что у нас строится. Сегодня я долго стояла на углу Октябрьской улицы и зарисовывала новый вокзал. Я тогда вспомнила, как здесь целыми ночами жгли тайгу. Это тоже хорошо было бы зарисовать, но я тогда была еще совсем маленькая и плохо это запомнила…».
«Недавно к нам приехал папин друг из Америки – Кеслер. Говорит, что он писатель. По-моему, он очень странный человек. Я его нарисовала с кривым ртом и с трубкой в зубах, а он обиделся. Мама тоже сказала, что я не права. А я знаю, что у многих иностранцев такой рот, как будто им что-то здесь не нравится. Все они какие-то скучные. Вот и Кеслер такой же. Не понимаю, почему им у нас так скучно? Сегодня Кеслер сказал мне:
– Ты настоящая биробиджанка…
Потом подумал и добавил:
– Ты даже года на два старше Биробиджана…
Что он этим хотел сказать?».
Да, что он этим хотел сказать?
Дневник все еще лежал раскрытый, но Кеслер больше не читал. Предвестниками наступающего утра в окно заглянули румяные вершины далеких гор.
«Можно ли еще что-нибудь вернуть?» – думал Кеслер. В эту минуту он вдруг ясно почувствовал, что вся его жизнь, годы творчества расплываются, как папиросный дым, перед несколькими простыми и беспомощными строчками из этого детского дневника.
И еще почувствовал он в эту минуту: он обанкротился, остался в неоплатном долгу перед жизнью, потому что, видимо, начал ее скверно, фальшиво. Надо было начинать так, как это сделал его товарищ детства, Эля Гринберг, если он не мог тогда начать так, как начинает она, Фира… Значит, надо начинать сызнова…
Через несколько дней тот самый поезд, который привез Кеслера сюда, мчал его обратно, на запад. Ясный солнечный день стоял над Биробиджаном. Синеватой дымкой были окутаны далекие горы. Кеслера проводила Фира. Эля и Фаня попрощались с ним утром, перед уходом на работу. Поезд тронулся с места, Кеслер махнул рукой. Ветер шевелил его седеющие волосы. Фира заметила, что глаза у него подернуты влагой.
Фира, вокзал, люди, город Биробиджан исчезли. Виднелись только дымящие трубы. А у Кеслера было неприятное ощущение, что едет он не вперед, а назад, назад…
Он ехал обратно в Америку, к Дженни. Поезд проносился меж лесов и гор. В говор колес, как и две недели тому назад, врывался озорной свисток и таял в голубом просторе. Кеслер, как и тогда, стоял, опершись локтями на раму открытого окна, и курил. Сейчас он твердо знал, что предстоит ему делать дома…
Всю жизнь надо начинать сызнова.
1937






