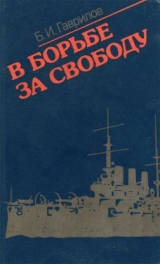
Текст книги "В борьбе за свободу"
Автор книги: Борис Гаврилов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
В мае 1905 г. по всей империи прокатилась мощная [18] волна первомайских демонстраций. В Иваново-Вознесенске возник первый в истории освободительной борьбы Совет рабочих депутатов. В июне восстали рабочие Лодзи. А в войсках с января до середины июня 1905 г. произошло 34 крупных выступления. Впервые движение в армии и народная революция начинали смыкаться, обеспечивая успехи выступлениям военных. Размах борьбы пролетариата в тот период создал условия для направления стихийного недовольства солдат и матросов в русло революции. Но революционное движение во всей стране и в армии еще не достигло своего апогея. Основная масса солдат еще выполняла приказы самодержца. Борьба сил революции и контрреволюции за армию обострилась. Летом 1905 г. армия открыто вступила в революционную борьбу. Первый шаг сделали моряки-черноморцы.
Волны революции докатились до Черного моря к весне 1905 г. Начались непрерывные забастовки в Одессе и Екатеринославе, волновались крестьяне Гурии и солдаты Батумского гарнизона, бастовали рабочие Евпатории, Феодосии, Керчи, Николаева, Севастополя, Бердянска, Таганрога. В разных местах Крымского полуострова происходили стачки сельскохозяйственных рабочих, крестьяне громили помещичьи имения, захватывали и запахивали помещичью землю. Для будущего восстания складывалась благоприятная обстановка. Однако этот процесс был еще далек от завершения. Революционное движение в районе Черноморского побережья, как и по всей стране, к июню 1905 г. еще не достигло пика.
Возникновению на флоте революционных настроений во многом способствовало жестокое обращение офицеров с матросами. Как вспоминал участник восстания на «Потемкине» П. К. Пазюк, «за малейшие провинности командир Голиков наказывал матросов темным карцером и стоянием под винтовкой с мешком песка весом в полтора пуда на шее». «Если не угодишь чем-нибудь, – свидетельствовал другой участник восстания, А. С. Зиновьев, – так в полном снаряжении командуют «бегом марш» и заставляют бегать по 6-7 часов подряд, пока… матрос не упадет без сил»{24}. Особенной жестокостью отличался старший офицер И. И. Гиляровский, что неоднократно признавал в беседах с адмиралом Ф. Ф. Вишневецким [19] даже командир корабля Б. Н. Голиков.
В документах командования Черноморского флота отмечены многочисленные случаи зверских избиений матросов офицерами и боцманами. В воспоминаниях А. Жительского описывается случай, когда мичман Рюмин с броненосца «Георгий Победоносец» в припадке ярости тяжело ранил кортиком одного из матросов, героя крейсера «Варяг», имевшего Георгиевский крест за бой при Чемульпо. Мичман не понес никакого наказания, его просто перевели на другой корабль из опасения мести матросов. А. Жительский писал, что этот случай сделал его революционером. Ни о жизни, ни о здоровье матросов не заботился никто. Казармы не имели прачечных, и даже зимой матросы стирали белье на открытом воздухе у пристани, стоя в ледяной воде{25}.
Физическим издевательствам сопутствовали оскорбления и унижения человеческого достоинства. Например, у входа в севастопольский городской парк висели таблички с надписями: «Собак не водить. Нижним чинам вход воспрещен»{26}. Матросам запрещалось ходить по Большой Морской и Екатеринославской улицам, по Историческому и Приморскому бульварам. Нельзя им было также посещать места героической обороны Севастополя во время Крымской войны. Возмущенные матросы социал-демократы выпустили по этому поводу специальную листовку, в которой, обращаясь к властям, писали: «Но как вам не стыдно делать подобные распоряжения?… За что же тогда наши деды и прадеды положили головы и орошали своею горячею кровью все здешние курганы, а нам теперь воспрещаете посещать эти места?… Зачем же вы просили в 1903 году деньги у нижних чинов на сооружение памятников, а теперь не пускаете их в те места, где поставлены эти памятники?
Долой всех вас, бюрократов царской службы! Долой и вашего царя с русского престола! Да здравствует между нами мир, свобода и демократическая республика!»{27}
Главный командир Черноморского флота вице-адмирал Г. П. Чухнин запретил матросам покупать и иметь книги. Письма матросов в редакцию газеты «Пролетарий» свидетельствуют о совершенно невыносимых условиях жизни в казармах рядового состава. Они показывают, что казарма была настоящей [20] тюрьмой с решетками на окнах, грязными нарами, отсутствием элементарных удобств и, в довершение всего, с самой скверной пищей, приготовленной из несвежих продуктов{28}.
Плохое питание являлось постоянным предметом недовольства матросов. По воспоминаниям одного из них, Е. Г. Лакия, командир броненосца «Потемкин» Е: Н. Голиков выстроил себе на казенные деньги три дома в Севастополе, в то время как его команда питалась гнилым мясом{29}.
Отчеты и замечания инспекторских комиссий по Черноморскому флоту неоднократно обращали внимание командования на невыносимые условия быта и службы матросов, отмечая «полное пренебрежение к нижнему чину»{30}.
Матросы ненавидели своих угнетателей. Доведенные до отчаяния, они нападали на особо ненавистных офицеров и боцманов. В 1903 г. такой случай произошел на броненосце «Потемкин»: матрос-плотник Констальский, не выдержав издевательств боцмана Иващука, тяжело ранил его топором{31}.
Временами возмущение матросов существовавшими на флоте порядками выливалось в стихийные выступления. В июле 1903 г. вспыхнул голодный бунт на учебном крейсере «Березань». Его участники потребовали улучшить питание, угрожая в противном случае открыть кингстоны и потопить крейсер. Офицеры с большим трудом успокоили команду. Еще более крупное волнение произошло 3-5 ноября 1904 г. в Лазаревских казармах Севастополя. Матросы разгромили казармы и разогнали офицеров, а наиболее революционно настроенные из них пытались превратить это стихийное возмущение в вооруженное восстание матросов и рабочих. Однако командованию удалось изолировать казармы от городских кварталов и подавить бунт. Подобные выступления сплачивали матросов, но, как отмечал В. И. Ленин, «это было все же гораздо более проявлением отчаяния и мести, чем борьбой» {32}.
Качественное изменение в развитии революционного движения на флоте произошло в результате пополнения личного состава представителями пролетариата и активизации деятельности РСДРП. Специфика военно-морской службы требовала квалифицированных специалистов для управления сложными механизмами [21] кораблей. Поэтому значительную часть матросов набирали из рабочих и жителей прибрежных районов, в какой-то мере знакомых с техникой и морским делом. Матросы из пролетариев и полупролетариев до призыва на флот нередко участвовали в стачках, многие находились под влиянием РСДРП. Они острее реагировали на притеснения и издевательства, что признавали и сами офицеры, и командование флота. По воспоминаниям участника восстания на «Пруте» И. И. Атамасова, старший офицер этого учебного судна Н. И. Руднев «иначе и не обращался к машинной команде, как: «Эй вы, социал-демократы!»{33} «Характерно, – отмечал В. И. Ленин, – что вождей движения давали те элементы военного флота и армии, которые рекрутировались главным образом из среды промышленных рабочих и для которых требовалась наибольшая техническая подготовка…»{34} Матросы из крестьян, политически менее развитые, со временем также втягивались в жизнь флота, проникаясь революционными настроениями его передовой части. Таким образом социал-демократическая пропаганда находила в матросской среде благоприятную почву.
Первые группы РСДРП на Черноморском флоте возникли в 1901-1902 гг. Социал-демократическая пропаганда с первых дней начала развиваться столь стремительно, что уже 19 апреля 1902 г. старший флагман Черноморской флотской дивизии вице-адмирал Я. А. Гильдебрандт издал приказ № 227, в котором запрещал матросам читать и распространять нелегальную литературу, требовал передавать «агитаторов и смутьянов» начальству{35}. Командование пыталось бороться с революционной пропагандой путем обысков и арестов, но революционное движение на флоте росло и крепло.
В своей деятельности революционно настроенные матросы придерживались курса ленинской «Искры». Но наряду с РСДРП с 1902 г. на флоте вели работу и эсеры. Так, в июле 1903 г. в Севастополе они образовали группу, объединившую около 100 матросов. В декабре 1904 г. полиция разгромила ее, и организованная работа эсеров прекратилась. В среде матросов сохранились лишь мелкие эсеровские группы (например, на «Пруте»), однако связь их с руководством этой партии была формальной, и на деле они [22] шли за РСДРП, подчиняясь решениям большевистского Центрального флотского комитета{36}. Таким образом, РСДРП имела в Севастополе фактически безраздельное влияние. По воспоминаниям матроса-большевика И. Т. Яхновского, к апрелю 1903 г. во всех экипажах появились социал-демократические группы {37}.
3 декабря 1903 г. в Севастополе открылось особое совещание представителей власти для выработки мер борьбы с революционным движением на Черноморском флоте. На нем предлагалось усилить слежку за солдатами и матросами, затруднить их общение с рабочими, подобрать «надежных людей» для младшего командного состава, а также организовать развлечения для солдат и матросов, чтобы отвлечь их от революционной борьбы {38}.
В начале 1904 г. при Севастопольском комитете РСДРП был создан руководящий орган матросских социал-демократических групп – Центральный флотский комитет («Централка»). В его состав вошли матросы-большевики Г. Н. Вакуленчук, О. И. Волошин, А. И. Гладков, И. А. Кривоконь, А. М. Петров, И. Т. Яхновский и др. «Централка» имела связи с Сормовским, Николаевским и Харьковским комитетами РСДРП {39}. Своей задачей она считала широкую агитацию и создание нелегальных групп для подготовки восстания. «Централка» была хорошо законспирирована, и командованию не удавалось напасть на ее след. Ее деятельность приобрела вскоре такой размах, что командующий флотом адмирал Г. П. Чухнин в рапорте морскому министру вынужден был признать: «…против тайной организации мы совершенно бессильны» {40}.
2 декабря 1904 г. помощник начальника Таврического губернского жандармского управления ротмистр Н. А. Васильев в служебном донесении отметил: «За флотской группой идет наблюдение, пока не давшее результатов: партия эта крайне конспиративна, а наблюдение за ней с трудом возможно…» {41}
Безрезультатность всех мероприятий севастопольских жандармов в борьбе с революционным движением возмущала адмирала Чухнина. 23 марта 1905 г. он писал старшему флагману вице-адмиралу А. X. Кригеру, что число участников матросских сходок растет и матросы к чему-то готовятся. «Надо же, наконец, [23] установить, – требовал Чухнин, – хотя бы некоторые данные для раскрытия этих преступных нижних чинов» {42}.
Особенно много листовок и прокламаций стало появляться на кораблях и в казармах с конца 1904 г. К июню 1905 г. в каждом из девяти черноморских экипажей имелось 200-300 членов социал-демократических кружков, вокруг которых группировались революционно настроенные матросы {43}.
События первой российской революции, а также непрерывные поражения России в войне с Японией, и особенно гибель русского флота, способствовали росту революционных настроений среди моряков-черноморцев. Об этом свидетельствуют все участники восстания{44}. В. И. Ленин отмечал: «…соединения пролетарской массовой стачки в городах с крестьянским движением в деревне было достаточно, чтобы поколебать самую «прочную» и последнюю опору царизма. Я имею в виду армию». Как бы подтверждая эти слова, начался процесс активного размежевания и выделения революционного ядра среди моряков. «Чем дальше протянется это состояние гражданской воины, – писал В. И. Ленин, – тем неизбежнее будет выделение из контрреволюционной армии массы нейтральных и ядра борцов за революцию» {45}.
«Централка» умело направляла недовольство матросов царским правительством и местным начальством в нужное русло, вела активную пропаганду и агитацию. По воскресным и праздничным дням под видом «гуляний» в окрестностях Севастополя устраивались сходки и митинги, на которых присутствовало до 200 матросов. На этих собраниях принимались резолюции с требованием прекратить войну с Японией, свергнуть самодержавие и установить в России социалистический строй. С 10 ноября 1904 по 25 марта 1905 г. состоялось 11 таких митингов и собраний. Число участников последнего из них достигло 300 человек {46}.
Революционные листовки появлялись на кораблях и в казармах почти ежедневно. Участились доклады командиров кораблей и штаба флота адмиралу Г. П. Чухнину о политической неблагонадежности команд. В резолюции по этому поводу на рапорте штаба флота от 19 января 1905 г. адмирал написал: «Вообще, я давно слышу о боязни начальствующих [24] лиц своих же собственных команд, которую они и при мне не скрывают, почему прежде всего предлагаю, чтобы они проводили должное время среди своих подчиненных нижних чинов, следили бы за ними и водворяли бы воинскую дисциплину, чтобы не бояться нижних чинов…» {47}
Постепенно матросы стали применять и чисто пролетарскую форму борьбы – забастовку. Для Черноморского флота начала 1905 г. она была явлением нетипичным: к ней прибегали, требуя ограничения времени судовых работ и в некоторых других случаях {48}.
Во главе революционного движения на флоте по-прежнему были матросы технических специальностей. Революционные настроения среди них усилились до такой степени, что 8 апреля 1905 г. штаб Черноморского флота издал особое предписание командирам экипажей и кораблей по усилению политического надзора за машинными командами. Согласно приказу адмирала Г. П. Чухнина от 17 января 1905 г., во всех частях флота на политически неблагонадежных были заведены специальные «секретные книги», где отмечались малейшие подозрения в революционной деятельности. Чухнин лично объехал все корабли и выступил перед матросами с контрреволюционными речами, а 15 февраля издал особый приказ, в котором признал бурный рост революционных настроений на флоте и попытался вступить в полемику с социал-демократами, чтобы доказать матросам незыблемость самодержавия {49}.
В апреле и мае 1905 г. примеру адмирала последовали командиры учебного судна «Прут» и броненосца «Екатерина II» А. П. Барановский и А. К. Дриженко. Называя себя «друзьями матросов», они выступили перед членами своих команд, стараясь убедить их в возможности улучшения их жизни без революционной борьбы. Социал-демократы «Прута» и «Екатерины II» откликнулись на речи командиров двумя листовками «Ответ матросов», в которых на конкретных примерах вскрывали истинный смысл слов командиров, показывали, кто друг и кто враг матросов, звали к борьбе за свободу под знаменами РСДРП. Моряки «Прута» предупреждали А. П. Барановского: «Помни, час расплаты близок!» {50} Прокламация матросов «Екатерины II» заканчивалась словами: «А революция [25] близка! Ох, как близка! Гораздо ближе, чем вы думаете. Товарищи всех судов, организуйтесь! Долой войну! Долой офицеров! Долой царя! Да здравствует мир! Да здравствуют социал-демократы!» {51} Обе прокламации получили на флоте широкое распространение. Броненосец «Екатерина II» моряки стали называть «Красная Катя».
В апреле 1905 г. III съезд РСДРП принял резолюцию о вооруженном восстании. Выполняя решения съезда, «Централка» ускорила подготовку всеобщего восстания матросов Черноморского флота, намечая его на время маневров осенью 1905 г. Члены «Централки» полагали, что к этому времени революционное движение в России достигнет наивысшего подъема, а кроме того, они знали, что в связи с учениями корабли будут обеспечены боеприпасами. Поскольку далеко не все корабли были затронуты социал-демократической пропагандой, революционные матросы рассчитывали до конца маневров успеть провести на них соответствующую работу. Осенью же уходили в запас старослужащие матросы, слабо охваченные революционной пропагандой, а те, кого призвали вместе с первыми моряками социал-демократами Черноморского флота, оставались на службе. Революционные матросы считали, что их сверстники более восприимчивы к социал-демократической пропаганде и агитации и поддержат восставших товарищей. Надеялись они и на поддержку солдат севастопольской крепостной артиллерии. А береговым артиллеристам должны были помочь десантники команд учебного судна «Прут» и учебного крейсера «Днестр». Начинать восстание должен был эскадренный броненосец «Екатерина II», имевший самую крепкую организацию РСДРП {52}.
В случае неблагоприятной ситуации для восстания на море оно должно было начаться во время парада у Владимирского собора. Самым надежным матросам поручалось уничтожить собравшееся в одну группу начальство и поднять на мачте штаба флота сигнал к общему выступлению матросов и солдат гарнизона. Об этом было написано в письме матросов-предателей, посланном ими адмиралу Г. П. Чухнину из Румынии уже после сдачи «Потемкина». Другие источники не сообщают о таких деталях первого плана восстания. В том же письме было указано, что [26] сведения получены «от одного матроса, состоявшего членом социал-демократического кружка и принимавшего деятельное участие в беспорядках на броненосце «Потемкин»{53}. Учитывая это, а также реальность выполнения изложенного плана, можно почти не сомневаться, что он действительно существовал и мог бы обеспечить успех восстания.
После победы на кораблях и в Севастополе намечался захват всего Причерноморья. Но вскоре произошло событие, которое нарушило все планы революционеров. 7 июня началось волнение солдат севастопольских батарей. Командование приказало броненосцам быть готовыми открыть огонь по фортам. Матросы с негодованием встретили этот приказ, а команды «Екатерины II» и «Трех Святителей» прямо заявили, что стрелять не будут. Порядок в фортах вскоре был восстановлен, но возмущение матросов росло, грозя перейти в восстание. Командование списало «неблагонадежных» моряков на берег и решило увести эскадру в море, чтобы изолировать ее от революционных событий. Только с «Потемкина» было списано около 300 человек{54}.
Узнав о решении командования, «Централка» 10 июня созвала сходку представителей кораблей и частей с целью выяснения настроений матросов и солдат и предотвращения возможности стихийных выступлений. Моряки «Потемкина» послали на сходку 15 делегатов (в их числе – С. Бессалаева, И. А. Лычева, А. Н. Матюшенко, А. Ф. Царева и др.){55}. Присутствовавшие на сходке меньшевики пытались убедить матросов, что обстановка для восстания еще не созрела. В ответном выступлении член «Централки» А. М. Петров опроверг эти доводы. Он указал на небывалый рост революционных настроений в Черноморском флоте, рассказал собравшимся о революционной борьбе рабочих и крестьян Кавказа и напомнил резолюцию III съезда РСДРП о восстании. А. М. Петров доказывал, что восставший флот станет базой революции, что восстание черноморцев послужит примером для народных масс и поможет им подняться на борьбу. Его речь горячо одобрило большинство собравшихся. По ней участники сходки привяли следующую резолюцию:
«1. Матросы должны первыми начать восстание.
2. Для предупреждения сопротивления со стороны [27] неразвитых матросов присутствующие на митинге должны в своих экипажах и на судах вести среди первых подготовительную к восстанию агитацию.
3. Восстание начать в Тендровском заливе, куда эскадра выйдет на практические занятия.
4. Сигнал к восстанию должен дать броненосец «Ростислав», он же должен быть и руководителем во время восстания.
5. Сигналом послужит выстрел из орудия, который должен быть дан в обеденное время, когда офицеры будут в кают-компании.
6. Все ключи заранее должны находиться у сознательных сигнальщиков и трюмных машинистов.
7. Все матросы должны вооружиться и распределиться по частям в карауле: а) одна часть на мостике, б) другая – на батарейной и жилой палубах и в) третья – возле спасательных клапанов и клапанов затопления и т. д., – вообще караул должен быть наготове на всех более или менее важных местах.
8. По выполнении вышеописанных обязанностей матросы каждого судна, в количестве 100 человек должны двинуться в кают-компанию и во что бы то ни стало арестовать офицеров…
9. Арестовать вахтенного начальника.
10. Распределить среди матросов и старшего флагмана места, занимаемые командирами и офицерами»{56}.
В приведенной резолюции содержался подробный план захвата кораблей во время маневров в Тендровской бухте. Он отличался от прежнего плана, по которому восстание должен был начать броненосец «Екатерина II». Вероятно, участники сходки решили, что социал-демократическая организация этого судна сильно ослаблена арестами и удалением политически неблагонадежных матросов (в частности, был списан на «Прут» А. М. Петров). Возможно также, что учитывался и психологический фактор – «Ростислав», который должен был начать восстание по новому плану, являлся флагманским кораблем и его пример мог оказать воздействие на несознательных матросов. Изменились и сроки восстания: теперь его намечали на 21 июня, т. е. на время маневров. Принятый план обеспечивал бы победу восставшим в случае сохранения его в строжайшей тайне и одновременности выполнения его пунктов всеми кораблями. В плане [28] удачно сочетались удаленность флота от главных сил контрреволюции, его боевая мощь и маневренность. Победа восстания моряков под руководством РСДРП и соединение его с рабочим и крестьянским движением привели бы к образованию на юге России революционной армии и временного революционного правительства, т. е. к осуществлению ленинской идеи революции.
Первым на маневры должен был выйти эскадренный броненосец «Князь Потемкин-Таврический» – самый новый и самый сильный корабль Черноморского флота. Его постройка была начата 28 сентября 1898 г. в Николаеве, а 26 сентября 1900 г. броненосец спустили на воду и обеспечили командой. Матросы работали на строительстве корабля вместе с рабочими. Это в значительной мере послужило сближению и установлению тесных контактов между ними. Революционно настроенные рабочие вели среди матросов пропаганду, а офицеры и портовая администрация устраивали различные провокации, безуспешно пытаясь перессорить матросов и рабочих. В начале 1902 г. революционные матросы объединились в небольшую группу. Ее член – минно-машинный квартирмейстер Н. Раевценко установил связь с николаевскими социал-демократами, однако вскоре полиция арестовала людей, с которыми он был связан. Так первая попытка создания на «Потемкине» организации РСДРП потерпела неудачу{57}.
После завершения в начале 1902 г. монтажа машин и котлов намечалось провести летние ходовые испытания и весной следующего года ввести броненосец в строй. Но в отливках орудийных башен обнаружили брак. Командование решило хотя бы временно увести «Потемкин» в Севастополь, чтобы изолировать команду от николаевского пролетариата. В мае 1902 г. броненосец перешел в Севастополь. В начале 1903 г. его командиром назначили капитана первого ранга Е. Н. Голикова {58}.
На строительство «Потемкина» в Севастополь прибыли сотни рабочих Николаевского и Обуховского заводов. Как сообщает И. И. Атамасов, служивший в то время на «Потемкине», офицеры пренебрегали правилами устава и на корабле почти не появлялись. Пользуясь этим, революционно настроенные рабочие вели беседы с матросами на политические темы, снабжали [29] их нелегальной литературой. Активную революционную работу вели, в частности, рабочие слесарно-сборочного цеха севастопольского Морского завода Михайлюченко и А. Г. Цейгер. В ноябре 1903 г. полиция впервые обнаружила прокламации на «Потемкине». М. А. Столяренко полагает, что в том же году на броненосце возникли нелегальные группы РСДРП. «Часто мы собирались в кубрике по 3-4 человека, – вспоминал бывший матрос второй статьи М. Д. Данилов, – подальше от офицеров и их прихвостней, чтобы вместе прочитать переданную нам с берега листовку или газету. С жадностью ловили мы каждое слово большевистского агитатора» {59}.
В 1903 г. броненосец начал выходить в море на ходовые испытания. Во время одного из походов на корабле начался пожар, который привел к выходу из строя нефтяные котлы. Для их замены броненосец вернулся в Николаев, где находился до июля 1904 г. В декабре на нем установили орудийные башни {60}.
В октябре 1904 г. революционные группы «Потемкина» во главе с социал-демократами начали по своей инициативе и с одобрения «Централки» практическую подготовку к восстанию. Например, в батарейной палубе, где находились закованные в пирамидах винтовки, матросы укрепили на скобах пожарный инструмент, чтобы в нужный момент разбить цепи и овладеть винтовками, и начали отрабатывать действия по захвату оружия {61}.
В конце 1904 г. на броненосец прибыла большая группа матросов, обучавшихся в Кронштадте. Многие из них состояли в РСДРП. Подпольные организации еще более окрепли{*1}. Социал-демократов возглавил комендор Г. Н. Вакуленчук, член «Централки». Его товарищи комендор В. П. Барковский и машинный квартирмейстер Е. К. Резниченко поддерживали связь с Севастопольским комитетом РСДРП. Ленинградский историк В. А. Ермолов установил, что в революционной работе участвовал и один из офицеров – мичман А. Н. Кусков, но накануне восстания [30] его списали с корабля. Революционные группы были разбиты на пятерки, каждый член которых вел занятия с кружком из шести – восьми человек. Участник восстания машинист А. Ф. Царев вспоминал: «Палочная дисциплина, повседневные обыски и доносы заставляли быть всегда настороже, проявлять выдумку и хитрость. Но, несмотря ни на что, матросы регулярно получали нелегальную литературу, посещали кружки и собрания» {62}.
20 января 1905 г. на самом «Потемкине», а 3 и 20 февраля в казармах его команды офицеры обнаружили нелегальные прокламации. 21 мая при их распространении был замечен матрос второй статьи с «Потемкина» Н. С. Фурсаев {63}.
При входе на корабль матросов обыскивали. Поэтому революционеры посылали в назначенный для обыска отряд двух представителей, которые знали, у кого должна быть нелегальная литература, и помогали пронести ее на броненосец {64}.
По воспоминаниям потемкинца И. Т. Чубука, усилению революционной работы способствовали известия о расстреле мирной демонстрации 9 января 1905 г. в Петербурге. Севастополь, как и другие города России, встретил эти известия забастовками протеста. Под влиянием социал-демократов моряки-кочегары решили открыть кингстоны и затопить броненосец, если командование использует его против рабочих{65}.
В подготовке восстания на «Потемкине» участвовали бывшие матросы крейсера «Варяг». После знаменитого боя при Чемульпо варяжцы 20 марта 1905 г. прибыли в Севастополь. Здесь их разместили в казармах 36-го флотского экипажа вместе с потемкинцами. При расформировании команды «Варяга» 13 человек назначили на броненосец «Потемкин»{*2}, среди них – кочегары И. С. Логинов, И. И. Малышев, П. Е. Шишков, А. С. Скверняков, машинист С. М. Михайлов, матросы Ф. Л. Алказ, Ф. И. Андрюхин, А. Д. Войцеховский, Г. И. Кункель, Д. К. Мусатов, Е. Д. Пека, И. И. Стрекалов, плотник Л. Чинилов{66}. Участие в [31] восстании на «Потемкине» героев «Варяга» символизировало тесную связь боевых и революционных традиций российского флота.
Командование знало о подготовке восстания на кораблях, и в частности на «Потемкине». С конца апреля 1905 г. оно начало перемешивать экипажи, надеясь разрушить этим сложившиеся матросские организации. На вспомогательные суда и в казармы стали списывать политически неблагонадежных матросов, заменяя их новобранцами. В ответ социал-демократы шире развернули работу среди молодых матросов. Пропаганду и агитацию среди новобранцев «Потемкина» активно вели А. Н. Матюшенко, В. З. Никишкин, Т. В. Скребнев и др. По воспоминаниям матроса А. А. Мазурова, основу агитационно-пропагандистской работы составляли лозунги: свержение самодержавия, установление на флоте восьмичасового рабочего дня, сокращение сроков службы. Революционная деятельность приняла такие размеры, вспоминал участник событий матрос Г. И. Мартынов, что о подготовке восстания на «Потемкине» узнала почти вся команда. А в воспоминаниях машиниста А. Ф. Царева указывалось, что к началу восстания в революционных группах броненосца было около 100 человек{67}.
В мае на инспекторском смотре команда «Потемкина» доказала инспекторам, что офицеры на корабле ежедневно воруют 50 матросских пайков. Впервые подобная претензия была высказана еще в 1904 г. Но и теперь заявление матросов ни к чему не привело. Члены команды высказали также возмущение негодным мясом и червивыми сухарями, но безрезультатно. 18 мая потемкинцы вновь выразили недовольство качеством хлеба и крупы, на этот раз командир корабля назначил комиссию для расследования. Она признала справедливость высказанных требований, и качество хлеба было улучшено. Причина уступок командира заключалась, вероятно, в том, что к этому времени Е. Н. Голиков получил первое анонимное письмо о подготовке восстания и решил лишний раз не озлоблять матросов {68}.
15 мая «Потемкин» поднял вымпел о вступлении в кампанию. Броненосец провел первые стрельбы из новых орудий. Теперь до начала общих маневров ему предстояла артиллерийская практика для подготовки к действиям вместе с эскадрой{69}. Встреча с [32] эскадрой назначалась на 21 июня у Тендровской косы. Узнав об этом, потемкинцы в ночь с 10 на 11 июня послали в «Централку» запрос с просьбой предоставить их кораблю как наиболее сильному{*3} честь первому начать восстание. «Централка» согласилась, но рекомендовала подождать до прибытия эскадры. Кроме того, она посоветовала заранее составить списки тех офицеров и унтер-офицеров, которые могли оказать сопротивление и поэтому подлежали аресту или расстрелу в первые минуты восстания. Начать его рекомендовалось в 1 час ночи после смены вахты. Захватив корабль, революционные матросы должны были бесшумно сняться с якоря, выйти на линию горизонта, где разъяснить остальным членам команды смысл происшедших событий и ждать восстания эскадры, стараясь внешними действиями не вызвать подозрений у офицеров на других кораблях {70}.
11 июня 50 матросов «Потемкина» под разными предлогами обратились к командованию с просьбой списать их с броненосца. Вероятно, они знали о подготовке восстания и были против него, но не хотели или боялись выдавать товарищей{*4}. Кто-то из матросов предупредил командира Е. Н. Голикова анонимным [33] письмом, в котором сообщалось о намеченном восстании и назывались имена руководителей. Голиков по неизвестной причине не сообщил об этом командованию. Однако он обратился в штаб флота с просьбой временно заменить его на «Потемкине» другим командиром. Штаб, не видя достаточно веских оснований, отказал {71}. Тогда Голиков нашел другой выход.








