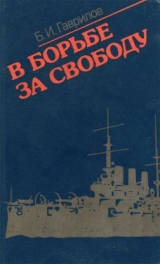
Текст книги "В борьбе за свободу"
Автор книги: Борис Гаврилов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Итак, из 746 человек команды в восстании активно участвовали около 280-300, неустойчивую позицию занимали около 400 человек и около 70 человек являлись противниками восстания. Революционные матросы знали многих контрреволюционеров и могли бы применить к ним решительные меры, не ограничиваясь агитацией на митингах. Однако они не сделали этого. Правда, они постановили избавиться от главных врагов – кондуктуров, но это решение, принятое уже в конце восстания, не было исполнено. Тем самым оказались не осуществлены рекомендации «Централки» по ликвидации контрреволюционных элементов.
Для руководства восстанием и управления броненосцем потемкинцы, по предложению А. Н. Матюшенко, выбрали из своей среды комиссию из наиболее авторитетных, технически грамотных и преданных общему делу товарищей. Кандидатуры для утверждения по списку, составленному социал-демократами, Предлагал команде В. П. Кулик. Точный состав комиссии неизвестен. А. П. Березовский определял число ее членов в 22-25 человек, К. И. Фельдман – в 32, С. Ф. Найда и некоторые другие – в 15, а П. П. Гришин считал, что состав комиссии доходил до 36 человек {123}. Столь значительное расхождение вызывается тем, что на заседаниях комиссии обычно присутствовали не только ее постоянные члены, но и многие другие политически активные [49] матросы, формально не входившие в состав комиссии.
Источники называют следующих матросов, участвовавших в работе комиссии: А. Н. Матюшенко (председатель), П. В. Алексеев, А. К. Борчан, Е. Р. Бредихин, Ф. А. Веденмеер, М. А. Волобуев, З. Гайворонский, А. Головков, С. Я. Гузь, С. А. Денисенко, А. Н. Заулошнов (Заулошенов, Заволошин), В. А. Зиновьев, М. Зиновьев, М. Л. Зубченко, И. Т. Иванчук, Ф. Я. Кашугин, И. П. Кобцы (Копцы), М. М. Костенко, В. П. Кулик, Куприянов, П. Я. Курилов, Ф. П. Луцаев, И. А. Лычев, А. В. Макаров, Т. Г. Мартьянов, Ф. Г. Мигачев, В. И. Михайленко, С. Михайлов, И. Морозов, А. С. Ненашев, В. З. Никишкин, Я. П. Овчаров, К. М. Перелыгин, В. Е. Пригорницкий (Прогорницкий), Ф. И. Пятаков, Е. К. Резниченко, С. С. Родин, Н. Рыдлов, Г. Савотченко, А. Г. Самойленко, И. С. Самойлов, А. И. Сербин, Т. В. Скребнев, И. П. Сопрыкин, И. С. Спинов, Г. Стриж, И. Сурненков, А. П. Сыров, И. Фенин, З. И. Фишков, М. Циркунов (Цвиркунов), К. Черницын, Е. С. Шевченко, С. М. Шендеров, И. П. Шестидесятый. 18 из них – социал-демократы, в том числе 12 большевиков.
Комиссия «Потемкина» явилась прообразом будущих судовых комитетов. Состав и форма ее деятельности историками специально не рассматривались, а между тем необходимость этого очевидна.
Из 56 членов комиссии 43 являлись активными участниками восстания, четверо – Ф. Г. Мигачев, В. И. Михайленко, И. П. Сопрыкин и Е. С. Шевченко не сочувствовали ему{*8}, один – Ф. А. Веденмеер – был контрреволюционером. Позиция остальных неизвестна, но по всей вероятности, они сочувствовали восстанию, так как в судебном материале в качестве контрреволюционеров не упомянуты. Следовательно, революционные матросы имели в комиссии подавляющее большинство. По воспоминаниям участников восстания, руководство в комиссии принадлежало социал-демократам.
В комиссию вошли представители всех специальностей – от комендоров до санитаров, причем половина комиссии – 29 человек – являлась представителями технических специальностей, игравших главную роль в революционном движении на флоте. [50]
Группа социал-демократов из членов комиссии была назначена на офицерские должности и отчитывалась перед всей комиссией. На специальные отделы комиссия не подразделялась, и только в конце восстания из ее состава был выделен исполнительный комитет.
Заседания комиссии проводились открыто. Это способствовало политическому воспитанию команды. Следует отметить, что свои постановления комиссия проводила в жизнь только с согласия всего экипажа. Даже посылка в город парового катера утверждалась общим собранием моряков{124}.
Все главные вопросы решались на митингах, о значении которых в первые годы после Октябрьской революции В. И. Ленин писал: «…без митингования масса угнетенных никогда не смогла бы перейти от дисциплины, вынужденной эксплуататорами, к дисциплине сознательной в добровольной. Митингование, это и есть настоящий демократизм трудящихся, их выпрямление, их пробуждение к новой жизни, их первые шаги на том поприще, которое они сами очистили от гадов (эксплуататоров, империалистов, помещиков, капиталистов) и которое они сами хотят научиться налаживать по-своему, для себя, на началах своей, Советской, а не чужой, не барской, не буржуазной власти»{125}.
Такая обстановка царила в первые дни революционной свободы на броненосце «Потемкин». «Готовность к чему-то большому, хорошему побуждала нас к оживленным дискуссиям», – вспоминал матрос Е. А. Батеев{126}. Потемкинские социал-демократы полагали, что неуклонное осуществление принципа самого широкого демократизма в управлении броненосцем будет способствовать пробуждению политического сознания у отсталой части команды. С той же целью с первого дня восстания были отменены все чины и форменные знаки различия{127}.
Указанная особенность функционирования комиссии воспитывала в массе самодеятельность и позволяла открыто разоблачать врагов восстания. Но зависимость комиссии от настроений большинства команды не позволила ей стать твердым революционным органом. Как показал ход событий, ей далеко не всегда удавалось повести за собой команду. Причины этого объяснялись отсутствием у членов комиссии опыта руководства [51] восстанием и политической отсталостью подавляющего большинства матросской массы. Даже руководитель восстания А. И. Матюшенко, пламенный революционер, как известно, не имел представления о правильных путях борьбы. Он писал: «Я за себя говорю, что я вне партий, потому что я хорошо знаю поговорку: не спросяся броду, не суйся в воду. Я хорошенько узнаю программы всех партий, узнаю, кто что хочет дать рабочим за пролитую кровь на баррикадах, к тому я пристану. Для меня хороши и те, и другие, а кто больше начальство бьет, тот лучше»{128}.
В сложной обстановке А. Н. Матюшенко шел за массой, подчиняясь ее колебаниям. Но и социал-демократы даже не пытались сосредоточить в своих руках полноту власти. Среди них были герои (например, С. А. Денисенко, Е. К. Резниченко, В. П. Кулик, В. З. Никишкин и др.), но не было вождей. Такой вывод подтверждается свидетельством инженера-механика А. М. Коваленко, который отмечал, что среди руководителей восстания особыми организаторскими талантами никто не выделялся. Слабость партийного руководства особенно проявилась в отказе матросов поднять на броненосце сразу после восстания Красное знамя революции, поскольку тогда это требование членов РСДРП еще не было утверждено большинством команды. Оценивая подобные ситуации, В. И. Ленин писал, что у вожаков военных восстаний 1905 г. «не было уменья взять руководство в свои руки, стать во главе революционной армии и перейти в наступление против правительственной власти»{129}. Одесский большевистский комитет РСДРП ввиду своего тяжелого положения не смог оказать необходимой помощи потемкинцам. Отсутствие твердого руководства восстанием при наличии в команде контрреволюционных элементов и массы политически несознательных привело к тяжелым последствиям.
Командиром броненосца матросы назначили штурмана прапорщика Д. П. Алексеева. Он упорно отказывался, но матросы считали, что даже революционным кораблем должен командовать обязательно офицер, и заставили Алексеева принять командование. Сам бывший матрос, он неплохо относился к команде, и видимо, этим объясняется выбор его кандидатуры. В дальнейшем Д. П. Алексеев не играл никакой роли в управлении броненосцем, который вели сами матросы. Все [52] 11 дней восстания Алексеев пролежал на диване в кают-компании, а в критические моменты занимался вредительством, используя свое положение командира{130}.
Старшим офицером назначили боцмана Ф. В. Мурзака{*9}.
Вечером 14 июня состоялось первое заседание комиссии, которое разработало тактику восставших на ближайшее время. По воспоминаниям И. А. Лычева, еще задолго до восстания потемкинцы осуществляли связь с большевистским Одесским комитетом РСДРП через матроса П. В. Алексеева{131}. Поэтому комиссия сочла необходимым немедленно связаться с Одесским комитетом и просить его известить Севастопольский комитет РСДРП и революционные организации на кораблях о восстании «Потемкина». Решили прежде всего обеспечить броненосец полным запасом угля и провизии. Кроме того, постановили составить протокол о событиях на Тендре, снять свидетельские показания с офицеров, проверить наличие денег в судовой кассе, составить обращение к солдатам и казакам с призывом присоединиться к «Потемкину», поручить организацию похорон Г. Н. Вакуленчука одесским рабочим, открытой борьбы за власть в Одессе не начинать до присоединения остальной эскадры{*10} {132}. Решение комиссии об установлении связи с Одесским комитетом РСДРП являлось абсолютно необходимым и правильным. Но пассивная тактика отказа от захвата города до прихода эскадры сводила на нет все значение прибытия восставшего корабля в бастующую Одессу. Принимая такое решение, потемкинцы не учитывали, что это [53] может нанести ущерб революционному порыву одесских рабочих и той части солдат гарнизона, которая сочувствовала бастующим.
Рассматривая потемкинское восстание, историки, как правило, ограничиваются указанием на существование на корабле революционного порядка, не показывая, в чем он выражался, и не подтверждая его фактами. Из источников видно, что судовая комиссия и сами матросы поддерживали на корабле строжайшую дисциплину {*11}, что признавали даже враги восстания. Ежедневно убирали броненосец, мыли палубу, проверяли механизмы, проводили смотр боевой готовности. Сохранился весь устав корабельной жизни. Судовая комиссия установила на корабле свободу совести, и первое время матросы даже собирались на молитву. Исполнялись все положенные по уставу молитвы, кроме «Спаси, господи»{133}, в которой содержалось пожелание побед царю. После этого обычно устраивался митинг.
Все матросы добросовестно относились к своим обязанностям. По решению команды фамилии провинившихся в чем-либо должны были обнародоваться на общих собраниях. Этого оказалось достаточно для предотвращения возможных нарушений дисциплины и постановлений комиссии. Для злостных нарушителей предполагались исправительные работы на четыре часа в кочегарке{134}.
Как мы далее увидим, восставшие соблюдали все нормы международного права: при посещении румынского порта Констанца «Потемкин» производил салют наций, при встречах и проводах румынских официальных лиц соблюдался морской дипломатический ритуал. Встретив в море 21 июня болгарский крейсер «Надежда», «Потемкин» обменялся с ним салютами. Революционные моряки чувствовали себя представителями новой России и не хотели нарушать международные законы. «Потемкин», остро нуждаясь в угле на переходе Констанца – Феодосия, не тронул турецкие угольщики, хотя имел возможность захватить их{135}. В Феодосии потемкинцы могли бы добыть уголь с иностранных судов, но также не сделали этого.
Соблюдение на корабле в ходе восстания, руководимого [54] социал-демократами, дисциплины и порядка свидетельствует о том, что потемкинские события являлись не бунтом, а организованным выступлением. Оно было подготовлено социал-демократами в соответствии с резолюцией III съезда и проходило под руководством членов РСДРП.
Социал– демократы «Потемкина», борясь за новое, проявляли лучшие человеческие качества. Но в силу преждевременности восстания масса оказалась неготовой к нему. Партийные группы были ослаблены списанием на берег политически неблагонадежных, социал-демократы не имели опыта руководства восстанием. Все это при наличии политически незрелой массы и контрреволюционных элементов отрицательно сказалось на дальнейшем развитии событий. [55]
Глава II.
Броненосец «Потемкин» и революционная Одесса
1. Развитие революции в Одессе и уезде накануне прихода «Потемкина»
Изучая проблему революции, следует обратить внимание на вопросы о степени зрелости революционного процесса, расстановке партийно-классовых сил, состоянии и уровне партийного руководства борьбой масс. Рассмотрение этих вопросов на примере Одессы накануне прихода «Потемкина» позволяет шире исследовать проблему образования революционной армии из потемкинцев и одесских рабочих, выяснить возможности превращения Одессы в базу революции.
Забастовки в Одессе почти не прекращались с 27 апреля 1905 г. Особенно волновались рабочие кварталы Пересыпи. «Настроение на всех заводах приподнятое, – писала газета «Пролетарий». – Люди рвутся на улицу. Рабочие, даже несознательные, говорят: «Эх, если бы оружие! Где комитет с оружием? Пусть бы вооружал!»{136}
1 мая 1905 г. бастовало 5188 человек на 46 одесских заводах и фабриках. Против них были направлены драгуны. Но солдаты запасных частей, расквартированные в Одессе, пришли на помощь забастовщикам и не позволили драгунам избивать их. Солдаты заявили: «Если вы будете бить рабочих, то мы вступимся за них, у нас в казармах есть штыки!»{137}
В канун потемкинских событий забастовочная борьба в городе резко обострилась. 12 июня полиция арестовала 32 делегата предприятий, собравшихся для [56] организации всеобщей забастовки, сорвать которую полиции все же не удалось.
Утром 13 июня часть бастующих рабочих собралась на Московской улице у завода сельскохозяйственных орудий И. И. Гена. Пристав пересыпского участка пытался уговорить их разойтись. Рабочие ответили градом камней. Тогда пристав вызвал казаков. Казачий офицер предупредил рабочих, что если они не разойдутся, то он прикажет открыть огонь. В ответ из толпы раздалось несколько выстрелов и снова полетели камни. 20 казаков спешились и дали залп. Двое рабочих были убиты, один ранен{138}.
В этот же день забастовали рабочие адмиралтейства и эллинга Российского общества пароходства и торговли. Они заявили, что бастуют в знак солидарности с рабочими других заводов и требуют освобождения 32 выборных, арестованных накануне{139}.
Забастовка разрасталась, становясь всеобщей. Рабочие начали переходить к открытой борьбе с казаками и полицией, они нападали на полицейские участки и сооружали баррикады{140}.
Солдаты и казаки под влиянием агитации рабочих начали колебаться. Многие солдаты, сочувствуя забастовщикам, делились с ними продуктами питания из своего скудного армейского пайка{141}. В ночь на 13 июня 400 солдат гарнизона на митинге постановили не стрелять в народ в случае возникновения революционных волнений и помочь рабочим в поддержании революционного порядка{142}.
Пролетарии Одессы рвались в бой с царизмом, требовали оружие. Их делегаты обратились к социал-демократам и эсерам с просьбой принять на себя руководство движением и вооружить рабочие отряды. Одесские большевики выступили с призывом к политической забастовке{143}.
Перед Одесским комитетом РСДРП стояла задача объединить борьбу рабочих и направить ее на организацию восстания. Однако комитет находился в крайне тяжелом положении и оказался недееспособным. Еще 2 июня полиция арестовала почти все руководство большевистской организации Дальницкого района, где большевики имели партийные ячейки на 22 предприятиях, а 9 июня захватила типографию комитета{144}. У одесских большевиков не было денежных средств. Многие члены партии в поисках заработка были вынуждены [57] покинуть бастующую Одессу.
В комитет входили пять человек: Л. М. Книпович (секретарь), М. К. Кориневский (примиренец), И. П. Лазарев, В. А. Хрусталев и А. С. Шаповалов. Но к моменту восстания А. С. Шаповалов тяжело заболел и не смог работать.
Одесская организация РСДРП была значительно ослаблена арестами. Кроме того, она, по воспоминаниям А. С. Шаповалова, «представляла собой нечто переходное от старой организации, ограничивавшейся лишь выпуском листовок и работой в кружках, к новой, устраивавшей летучки, массовки, демонстрации, митинги, ведущей работу в массах и готовящейся к вооруженному восстанию… Но для проведения вооруженного восстания она еще совершенно не была готова… Даже для проведения забастовок она была недостаточно сильна…»{145}. Об этом же писал В. И. Ленин. «Комитет, – отмечал он, – был страшно слаб перед великими задачами…»{146}
Одесские большевики, объявив политическую забастовку, открыто развернули широкую агитацию{147}, но были не в состоянии немедленно организовать и возглавить восстание, объединить борьбу рабочих и восставших матросов.
Следует отметить, что среди рабочих Одессы еще существовали пережитки экономизма и зубатовщины, а борьба пролетариата развертывалась при наличии большой массы ремесленно-торговых и деклассированных элементов. Политической слабостью одесского пролетариата объясняется и довольно значительное влияние на рабочих, особенно на малосознательных портовых, меньшевистской группы РСДРП{*12}. Ее руководство ограничивалось, как известно, призывами к восстанию, не делая к нему практических шагов, даже когда об этом просили делегаты предприятий{148}. Однако оно поддержало большевистский призыв к политической забастовке, чтобы не потерять доверия рабочих.
Для более полного представления о возможностях развития борьбы и расстановке сил в пункте восстания необходимо также осветить положение эсеровских и бундовских организации, почти не изученное в литературе. Как следует из выявленных источников, Бунд [58] располагал в Одессе относительно многочисленной организацией. И хотя семь ее конспиративных квартир находились под контролем полиции, аресты ослабили ее незначительно. Бундовцы для поддержки своего влияния на массы последовали призыву большевиков к политической забастовке, усилили агитацию, перейдя к устройству открытых митингов, и выпустили специальную прокламацию. Для руководства забастовкой еврейских рабочих Бунд выделил комиссию из пяти человек, поручив ей войти в контакт с комитетом и группой РСДРП для объединения сил одесских рабочих{149}.
Эсеровский комитет вел в Одессе активную пропаганду со второй половины 1904 г. Он имел связи с рабочими (в основном ремесленниками) и учащимися во всех районах города, вооруженные рабочие дружины и небольшую организацию среди солдат гарнизона. Эсеры, чтобы сохранить свои позиции в рабочей среде, на словах поддержали призыв к забастовке и согласились передать рабочим имевшееся у них оружие. Но не сделали этого, заняв выжидательную позицию в связи с приходом в Одессу восставшего «Потемкина»{150}.
Крестьянское движение в Одесском уезде во время июньского восстания недостаточно освещено в литературе. Необходимость его изучения очевидна. Источники свидетельствуют, что выступления крестьян в уезде начались в конце мая в центре уезда (Раснопольской и Курисово-Покровской волостях) под влиянием агитации одесских социал-демократов и местного либерального земства. Волнения происходили на экономической почве и приняли пролетарскую форму борьбы – забастовку. Местные крестьяне (в подавляющем большинстве малоземельные) отказывались работать батраками у помещиков, требуя повышения заработной и снижения арендной платы за землю и угодья. Для руководства движением крестьяне выбирали комитеты (например, в селе Даниловском), которые вели переговоры с помещиками о заключении коллективных договоров. К 11-13 июня движение распространилось почти на весь уезд, а затем перешло в Ананьевский и Елизаветградский уезды{151}. К сожалению, одесские большевики не смогли возглавить борьбу крестьян и придать ей политическую окраску.
Революционный подъем рабочих Одессы и волнения крестьян уезда, а также начавшиеся колебания солдат [59] гарнизона создавали благоприятные условия для захвата города и уезда и образования новой революционной власти. С приходом восставшего броненосца «Потемкин» эти перспективы становились еще реальнее. Объединение восставших матросов и рабочих, вооружение пролетариата привели бы к созданию революционной армии и революционного правительства. Однако тяжелое положение Одесского комитета РСДРП и влияние на массы мелкобуржуазной пропаганды неблагоприятно сказались на развитии революционных событий. Приход восставшего «Потемкина» способствовал улучшению положения в Одессе, давая перевес в силах рабочим, укрепляя их революционный порыв и оказывая революционизирующее влияние на солдат гарнизона, а также помогая революционному воспитанию политически отсталых слоев пролетариата, отравленных мелкобуржуазной идеологией.
2. Восстание на «Потемкине» и революционная борьба в Одессе
Приход мятежного броненосца в охваченную революционным волнением Одессу создал условия для соединения потемкинцев с восставшими рабочими и образования революционной армии. В. И. Ленин видел в этом главное значение восстания. Поэтому пребывание «Потемкина» в Одессе представляет собой важнейший период, во время которого выявились многие характерные особенности восстания и фактически решилась его судьба.
Естественным следствием прихода «Потемкина» в Одессу являлись высадка десанта и соединение его с рабочими для захвата города. Для правильного анализа попытки образования ядра революционной армии на примере «Потемкина» необходимо не только глубже рассмотреть планы и тактику восставших, но и решить вопрос о практической возможности потемкинского десанта с учетом положения и расстановки сил в Одессе и на корабле.
14 июня около 20 часов эскадренный броненосец «Князь Потемкин-Таврический» и миноноска № 267 пришли в Одессу, став на якорь на внешнем рейде. В тот же вечер миноноска зашла во внутреннюю гавань за водой. Портовый надзиратель сделал запрос о командире и цели прихода. Матросы ответили, что пришли с Тендры, а командир съехал на берег{152}. [60]
Появление «Потемкина» на одесском рейде вначале вызвало замешательство среди рабочих: они решили, что командование прислало броненосец для устрашения забастовщиков. Но уже на следующий день, узнав правду, ликующая Одесса радостно встречала первых революционных моряков.
Утром 15 июня на «Потемкине» были подняты флаги расцвечивания. Матросы украсили броненосец революционными лозунгами. Около 6 часов утра к Новому молу подошли миноноска № 267, паровой катер и шлюпка с «Потемкина». Они доставили на берег тело Г. Н. Вакуленчука, почетный караул и делегацию матросов (всего около 40 человек). Как только делегация ушла в город, казаки и полиция попытались разогнать потемкинцев, охранявших тело Вакуленчука. Рабочие, находившиеся в порту, сообщили об этом на броненосец. Судовая комиссия распорядилась приготовиться открыть огонь по казакам из корабельных орудий. На фок-мачте «Потемкина» взвился боевой красный вымпел. Матросы почетного караула крикнули рабочим, что броненосец открывает огонь. Этого было достаточно, чтобы казаки и полиция покинули порт {153}.
Для предупреждения подобных инцидентов в будущем комиссия «Потемкина» направила французскому консулу заявление и попросила передать его городским властям Одессы. В заявлении говорилось: «Почтеннейшая публика города Одессы! Командой броненосца «Князь Потемкин-Таврический» сегодня, 15 июня, было с корабля свезено мертвое тело, которое и было передано в распоряжение рабочей партии для предания земле по обычному обряду. После чего, пройдя несколько времени, была прислана этими рабочими на корабль шлюпка, что и заявила: стражу, стоящую у мертвого тела, казаки разогнали. Тело оставлено без надзора. Команда броненосца просит публику города Одессы: 1) не делать препятствия в погребении матроса с корабля; 2) учредить общее со стороны публики наблюдение над правилами; требовать от полиции, а также и казаков прекратить свои напрасные набеги, почему это все бесполезно; 3) не противодействовать доставлению необходимых продуктов для команды броненосца рабочей партией; 4) команда просит публику города Одессы о выполнении всех перечисленных выше требований. В случае, если во всем этом будет отказано, то команда должна будет прибегнуть к следующим мерам: будет [61] произведена по городу орудийная стрельба изо всех орудий. Почему команда предупреждает публику и, в случае возникновения стрельбы, просит удалиться из города тех, которые не желают участвовать в противодействии. Кроме того, нам ожидается помощь из Севастополя для этой цели – несколько броненосцев, и тогда будет хуже» {154}.
Делегации матросов удалось установить связь с Одесским комитетом РСДРП, но разыскать консула они не смогли и, купив свежей провизии для экипажа, вернулись в порт. Интересно отметить, что при покупке провизии матросы честно расплатились по векселю, оставленному накануне мичманом А. Н. Макаровым в уплату за мясо, послужившее поводом к восстанию{155}.
Портовые рабочие помогли матросам доставить провизию на восставший броненосец. Они по своей инициативе захватили портовые катера и под руководством прибывшего на берег А. Н. Матюшенко переправили провизию на «Потемкин». Туда же матросы пригласили и приказчиков из тех магазинов, где брали провизию, и сделали им дополнительные заказы{156}.
Одновременно одесские большевики, члены стачечного комитета Пересыпского района братья Г. П. и Ф. П. Ачкановы, также по приглашению матросов прибыли на броненосец и рассказали о положении в городе. По просьбе восставших Ф. П. Ачканов дополнительно связался с Одесским большевистским комитетом{157}.
Стачечный комитет Пересыпи выделил десять делегатов для организации снабжения «Потемкина» углем. Делегаты указали матросам на пришедший из Мариуполя угольщик «Эмеранс», который разгружался у пристани угольной набережной. Потемкинцы решили реквизировать груз «Эмеранса» для нужд революции. По их требованию выгрузка была немедленно прекращена. Потемкинцы и делегаты стачечного комитета обратились к рабочим с просьбой помочь перегрузить уголь на броненосец. Рабочие с радостью согласились. Около 300 грузчиков поднялись на борт «Эмеранса» и помогли завести буксир на миноноску № 267. В 12 часов 30 минут угольщик и миноноска № 267 подошли к «Потемкину». Бывший матрос «Эмеранса» В. Бабий вспоминал: «Это была поистине символическая встреча. Многие рабочие и матросы обнимались и целовались, обещая поддерживать друг друга в революционной борьбе»{158}. Рабочие вместе с матросами за четыре с половиной [62] часа перегрузили в трюмы броненосца 15 тыс. пудов угля. В 16 часов 30 минут погрузку закончили, и «Эмеранс» своим ходом вернулся на место. Отходя от «Потемкина», он поднял флаги расцвечивания. Рабочие водрузили на мачту «Эмеранса» вместо революционного знамени красную рубаху. Затем стачечный комитет организовал снабжение «Потемкина» провизией{159}.
Восставших матросов приветствовали моряки торговых судов: пароход «Пушкин», например, поднял красный флаг. Команды стоявших в порту итальянских и греческих судов забастовали в знак солидарности с потемкинцами{160}. Однако восставшие оставили без внимания готовность многих моряков торгового флота присоединиться к восстанию, а они могли бы оказать потемкинцам существенную помощь, заменив на броненосце тех матросов, которые были против восстания.
Как только население Одессы узнало о восстании на «Потемкине», яхты и рыбацкие шаланды заполнили бухту. Пролетарии везли продукты восставшим матросам {161}. Полиция была не в силах помешать этому, но под видом рабочих ее агенты доставили на «Потемкин» ящики с водкой. Моряки выбросили их в море{162}. Полицейская провокация не удалась.
Около восьми часов утра к катеру «Потемкина», который поддерживал связь с берегом, подошла шлюпка. В ней находились представители судебных, полицейских и портовых властей Одессы. Они заявили, что прибыли «снять допрос с бунтовщиков». А. Н. Матюшенко заставил их бросить в море оружие, погоны и с позором прогнал под дружный смех матросов{163}.
В это время на, берегу у тела Г. Н. Вакуленчука собралась огромная толпа. Рабочие соорудили над ним палатку. Люди слушали рассказы матросов и читали обращение к жителям Одессы{*13}, положенное вместе с революционной листовкой на грудь покойному. В обращении говорилось:
«.Господа одесситы. Перед вами лежит тело зверски убитого матроса Григория Вакуленчука, убитого старшим офицером эскадренного броненосца «Князь Потемкин-Таврический» за то, что Вакуленчук заявил, что борщ не хорош. Осеним себя крестным знамением и скажем: «Мир праху его». Отомстим кровожадным [63] вампирам. Смерть угнетателям! Смерть кровопийцам! Да здравствует свобода!
Команда эскадренного броненосца «Князь Потемкин-Таврический». Один за всех и все за одного»{164}.
По требованию потемкинцев и рабочих стоявшие в порту суда приспустили флаги в знак траура{165}. На импровизированных трибунах не смолкали речи ораторов. Народ подхватывал революционные лозунги.
Большевик С. И. Гусев в письме в редакцию газеты «Пролетарий», описывая события в Одессе 15 июня, отмечал: «Сочувствие матросам огромное. Боевое настроение среди рабочих страшно поднялось. С минуты на минуту можно ожидать крупнейших событий»{166}.
Агенты полиции безуспешно пытались спровоцировать еврейский погром. Двоих из них, призывавших к погрому, убили и бросили в море под крики «ура!». Толпа хотела также утопить городового и двоих жандармов, но ограничилась тем, что потребовала от них бросить в воду оружие и мундиры{167}.
Вместе с другими ораторами перед рабочими в порту выступали члены одесской меньшевистской группы РСДРП А. П. Березовский и К. И. Фельдман {*14}. Рабочие послали их на «Потемкин» как своих делегатов, чтобы договориться с матросами о совместных действиях по захвату города. Почти одновременно с ними на борт броненосца поднялся еще один социал-демократ – рабочий Борис. Они рассказали матросам о положении в городе и призвали их поддержать борьбу рабочих огневой силой броненосца{168}.
Приезжал на «Потемкин» и представитель одесского комитета эсеров. Но матросы не приняли его, заявив, что все они социал-демократы, на корабле находятся представители РСДРП, а с эсерами у матросов нет ничего общего{169}.
Члены Одесского большевистского комитета И. П. Лазарев и М. К. Кориневский, узнав о восстании на «Потемкине», возобновили контакты с членами Соединенной [64] комиссии, созданной еще в мае 1905 г. для руководства революционной борьбой рабочих. В комиссию входили большевики, меньшевики и бундовцы. В конце мая – начале июня в связи с арестами социал-демократов и временным спадом стачечной борьбы в Одессе комиссия прервала свою деятельность. Но когда пришел «Потемкин», она собралась снова. Контакт большевиков с другими социал-демократическими организациями в условиях буржуазно-демократической революции был вполне оправдан, поскольку за ними в тот период шла известная часть рабочих. Комиссия разработала и предложила восставшим матросам следующий план захвата города: потемкинцы высаживают десант в 300 человек, объединяются с рабочими и солдатами гарнизона, захватывают железнодорожные пути, связывавшие Одессу с другими городами России, чтобы не допустить переброски в город верных правительству войск. В случае необходимости десант должны были поддержать орудия броненосца{170}.








