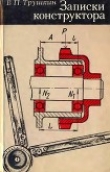Текст книги "Высокое небо"
Автор книги: Борис Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)

ГЛАВА II
«Эдисоновский процент». – Из истории М-11. – Учитель. – После Испании. – Прощай, однорядная звезда! – Озарение. – Гусаров. – Доклад у Сталина. – «Полное понимание и поддержка!»
1
Каким бы ни было творчество, это всегда преодоление. Человек испытывает отчаянье и радость, видя перед собою далекую звезду – конечную цель. То рывком, то на ощупь, идет он по нехоженой дороге, падает и опять встает на ноги, чувствуя, что падение не причинило боль, а сделало еще выносливее. Но вот осталось позади последнее препятствие. Теперь можно утереть с лица пот и оценить пройденный путь. Тут-то и проявляется истинное существо творца. Одни непременно оценят свое детище высшим баллом. Другие же мысленно пройдут весь путь назад, к истоку, и беспристрастная ретроспектива откроет их взгляду даже самую малую погрешность. Если первые поклоняются богу полупринципов, то вторые – по-настоящему честны и принципиальны.
Аркадию Дмитриевичу приходилось знавать первых. Сам он относился ко вторым.
В молодые годы, еще только делая первые шаги на конструкторском поприще, он построил авиационный двигатель М-8-РАМ. За этим несложным шифром скрывалось гордое имя «Русский авиационный мотор». Двенадцать большеразмерных цилиндров, расположенных по V-образной схеме, давали отличнейшую мощность – 750 лошадиных сил. В двадцать третьем году этот двигатель с полным правом называли сверхмощным. Интересен он был еще и тем, что многие решения оказались новыми и позднее были использованы англичанами в двигателе «Нэпир-Лайон».
Одним словом, машина получилась такая, что конструктор мог быть доволен.
Но одна немаловажная особенность отличала «Русский авиационный мотор»: он имел водяное охлаждение. Собственно говоря, в те времена такого рода охлаждение было принято едва ли не всеми лучшими конструкторами. Но в этом и заключалась загвоздка.
Еще работая над проектом, Аркадий Дмитриевич как-то подумал, что «РАМ» вбирает в себя минусы своих менее мощных собратьев. Удивительно, но, создавая моторы для авиации, конструкторы обращали свой взор не на небо, а на землю, которая успела стать обителью автомобилей. С них и перешла на авиационные двигатели водяная система охлаждения. Вот и «РАМ» не избежал этой участи.
На память приходили блестящие лекции Николая Романовича Бриллинга в Высшем техническом училище. Знаменитый профессор раскрывал перед будущими инженерами сущность двигателя внутреннего сгорания, как пианист раскрывает людям необъятный мир звуков. Но теперь надо было самому выбирать, что приемлемо для земли, а что для неба.
Он был еще молод, чтобы противопоставлять себя авторитетам. Другие осторожничали, дескать, в старой посуде еда вкуснее. Они понимали: первым быть заманчиво, но вовсе не обязательно, лучше повременить, посмотреть, что получится у других. Так безопаснее.
Но Аркадий Дмитриевич верил в будущее авиамоторов воздушного охлаждения. Когда его вызывали на спор, он ссылался на авторитет Жуковского. Он имел на это право, потому что в свое время прослушал цикл его лекций о теоретических основах воздухоплавания. Строго говоря, Жуковский не касался вопросов моторостроения, но он настойчиво подводил своих слушателей к необходимости облегчения воздухоплавательного аппарата. И как раз воздушное охлаждение давало такую возможность.
Мысль о двигателе, который отвечал бы перспективным инженерным принципам, зародилась еще в то время, когда шла напряженная работа над «Русским авиационным мотором». Когда она окончательно созрела, появился знаменитый М-11. Впрочем, легко сказать – появился.
Великий маг техники Эдисон заметил однажды, что труд изобретателя – это девяносто девять процентов пота и один процент творчества. Но он же уточнил, что этот один процент важнее всех прочих.
Работая над первым своим двигателем воздушного охлаждения, Аркадий Дмитриевич полностью отдал ему и «99» и «1». Он познал силу озарения, когда даже маленькое открытие – не просто открытие, но своеобразный ключик к новому секрету. За тем секретом – другой ключик, к новому открытию, а дальше – третий, и все они даются в руки легко, как по волшебству. Только не ошибись, какой ключик к какому секрету.
«Что-то общее с шахматным анализом, – думал Аркадий Дмитриевич. – Сделав ход, шахматист мысленно уходит значительно дальше и действует как бы с двух сторон – своей и противника. При этом он стремится подчинить своим интересам бесчисленное множество возникающих положений».
А новые положения обступали на каждом шагу, потому что конструктор «ел не из старой посуды». Конечно, куда проще было модифицировать до последнего винтика знакомый «Русский авиационный мотор», но то было бы новое старое. Он же бился над совершенно новым.
Его М-11 дался ему немалой кровью. Был объявлен конкурс на лучший двигатель для легкомоторной авиации, и это привлекало многих конструкторов. Конкурсы ни к чему не обязывают: повезло – хорошо, нет – тоже не осудят.
Проекты рассматривались с особой тщательностью, их поступило много. Слабое тут же отсеивалось, а то, что представляло интерес, откладывалось для повторного изучения. Круг сужался, но все же это был круг. Микулин тоже вышел в финал, и, значит, предстояла борьба.
Хороший проект – это еще не двигатель. Опытный образец – это тоже не двигатель. Все решается в период доводки. Мотор необходимо запустить, и тогда он сам раскроет перед конструктором свою суть, откровенно выставит перед ним слабые места. Только потом начнется то главное, что зовется доводкой.
Первое заводское испытание М-11 шло на специальной платформе. Испытательный станок открытого типа на колесах был явно не приспособлен. Люди расположились полукругом и молча, как загипнотизированные, вслушивались в ровный гул двигателя. Вдруг этот гул словно сбился с ноты и, прежде чем кто-нибудь понял, что произошло, раздался взрыв. Оборвавшаяся лопатка мулинетки с силой отлетела в потолок. Инстинктивно все бросились врассыпную. Кем-то остановленный мотор замер.
Люди расходились с тягостным чувством. В таких случаях кажется, что цель никогда не была столь далекою. Теперь все зависело от конструктора: он мог махнуть рукой, взяться за другую работу, а мог впрячься в доводку.
Аркадий Дмитриевич выбрал последнее.
Двигатель удался на славу. Эксперты отмечали простоту управления, большой срок службы и чудесную способность мотора работать на любом бензине.
Свое «за» сказали и заводские технологи. Их радовала простота оригинальных конструктивных решений. Стосильный мотор был на редкость прочным, хотя отличался компактностью и весил всего полтораста килограммов. Впервые в мировой практике в схеме двигателя была применена алюминиевая головка, которая на резьбе навертывалась на стальную гильзу. Ни один иностранный мотор не имел такой конструкции.
Конкурс между тем продолжался. Наступил день государственных стендовых испытаний. К нему пришли только два мотора: М-11 Швецова и М-12 Бриллинга, Микулина и Стечкина. Они сдавали экзамен одновременно.
Все шло хорошо, но вдруг – авария: у М-12 сломался коленчатый вал, мотор вышел из строя. Проверили расчеты конструктора – ошибки найти не удалось. Предположили, что всему виной случай: пола лея, мол, дефектный вал, такое бывает. Но когда запустили еще один подобный двигатель, то и он вышел из строя по той же причине. Это уже не могло быть случайностью.
Пока комиссия сокрушенно вздыхала, гонка М-11 продолжалась. Мотор Швецова успешно выдержал испытания, он оказался лучшим. Ему суждено было стать первым отечественным серийным авиадвигателем.
А в практике Швецова это был первый двигатель воздушного охлаждения.
Тогда Аркадий Дмитриевич еще не думал, что моторы такого рода станут делом всей его жизни. Не предполагал он и того, что ему доведется быть основоположником большой и плодотворной конструкторской школы.
Но все произошло именно так.
Со всеми вопросами – к Швецову.
Со всеми сомнениями – к Швецову.
И того, и другого – хоть отбавляй, особенно когда идет работа над новым двигателем. Заместителей у главного конструктора все еще нет, поэтому он един во всех лицах.
Решив посвятить шефа в свои расчеты, Петр Тихонов захватил нужные бумаги и пошел к Аркадию Дмитриевичу. В КБ не заведено церемоний, нет определенных дней или часов приема: раз конструктор идет к главному, значит так нужно.
Швецов встретил приветливо, подал руку, предложил сесть.
Едва завязался разговор, в кабинет решительно вошли главный контролер, диспетчер и начальник одного из цехов. Они выложили четыре кулачковые шайбы и, перебивая друг друга, стали горячо спорить. Оказалось, что эти шайбы сделаны с отклонением, хотя и не претерпели изменений по профилю. Поскольку контроль их задержал, производственникам потребовалось разрешение главного конструктора.
– Четыре шайбы – это всего четыре мотора, не четыреста. Надо пропустить, – осторожно нажимал начальник цеха.
Диспетчер, чувствовалось, на его стороне.
Швецов улыбнулся Тихонову и развел руками: нельзя, мол, задерживать производство. И тут же резко повернулся к начальнику цеха:
– Нет, не пойдет! Ни сегодня, ни в другой раз.
По тону, каким это было сказано, стало ясно: спорить бессмысленно. Диспетчер собрал шайбы, все трое покинули кабинет.
Тихонов не удержался, сказал:
– По-моему шайбы, в общем-то, могли пойти. И притом всего четыре…
Аркадий Дмитриевич посмотрел на него строго, но тут же смягчился.
– Молоды вы еще, Петр Антонович, недостаточно знаете производство. Ошибки могут быть у каждого, и я сторонник того, чтобы их не смаковать, а исправлять. Но когда люди защищают свои ошибки – это другое дело. Стоило, пропустить четыре шайбы, они расценили бы это как право на скидку. Через неделю у моего стола очередь выстроится за такими разрешениями. И вообще, что значит «небольшие отклонения»? Это значит, что четыре двигателя должны иметь особую документацию, четыре двигателя должны иметь особую регулировку, и летчики, которым придется с ними иметь дело, должны всегда помнить нечто такое, чем не следует загружать память. Вот поэтому я и не разрешил. Ни в коем случае нельзя ослаблять производственную дисциплину. Сегодня я отказал и, уверяю вас, больше таких просьб не будет. Ну-с, а теперь посмотрим ваши расчеты…
Расчет у Тихонова явно не клеился, уводил в сторону. То, что получалось в итоге, опровергало исходные данные. Обступившие его цифры вдруг перестали быть податливыми и глядели загадочно, словно втихомолку изменили свой смысл и значение.
Десятки пересчетов не внесли ясности. Нараставшее раздражение вымотало силы, сделало невыносимым все вокруг. Слабо мелькнула надежда, что ошибка произошла не у него, в расчетном, а значительно раньше, быть может, даже у главного конструктора. Постепенно это перерастало в уверенность, и уже не хотелось думать о том, что в его, Тихонова, силах исправить положение.
С таким настроением он и предстал перед Швецовым.
Аркадий Дмитриевич разложил перед собою расчет, спросил как бы между прочим:
– Значит, не клеится?
Что-то удержало Тихонова от того, чтобы выложить главному свою догадку. Скорее всего оттенок, каким был окрашен вопрос. Даже распаленное воображение не могло уловить в нем хотя бы намека на что-то обидное. Ни той начальственной нотки, за которой может последовать жестокий разнос, ни ловко замаскированного превосходства, ни фальшивого сочувствия – ничего этого не было. Равный обращался к равному.
Расчет был трудный, многоэтажный, и Аркадий Дмитриевич ушел в него сразу и целиком. С лица его быстро стекла улыбка, и оно долго оставалось неподвижным, как маска. Только глаза выдавали напряженную работу мысли. Они то сужались – и тогда казалось, что главный вобрал в себя целый сонм цифр, то расширялись, – и тогда казалось, что мозг его, завершив трудную работу, переплавил все эти цифры в важное обобщение, и цепь расчета стала короче на одно звено.
Тихонов сидел не шелохнувшись, поглощенный зрелищем высшей сосредоточенности. Он не мог упрекнуть себя в недостатке тщательности, главный тоже никогда не высказывал такого упрека, но сейчас ему – вдруг начало казаться, что он напрасно поддался чувствам. Нечего было уповать на чью-то ошибку, делать ее одним из условий задачи. Это непростительное для конструктора школярство. Надо было совсем иначе. Надо было так, как Швецов – отрешиться от всего на свете, обо всем забыть и слиться с расчетом, увидеть в нем продолжение собственной мысли.
– М-да, ничего удивительного, дело новое…
Швецов произнес это как поощрение. В промахе молодого конструктора он видел отражение сложности задачи. В сущности перед ним была любовно выполненная, но не завершенная работа, и только доброе слово могло сейчас обратить силы человека ему же на пользу.
Слушая главного, Тихонов смотрел на него почти с нежностью. Получалось так, что наиболее сложная часть расчета уже сделана, теперь осталась лишь самая малость, и тот, кто справился с первым, непременно осилит и второе. Можно было даже подумать, что не произошло никакой ошибки – Швецов указал на нее как бы мимоходом, без малейшего нажима, и она выглядела такой незначительной и безобидной, что хотелось ее защитить от самого себя.
В какой-то момент Тихонову показалось, что вот сейчас Аркадий Дмитриевич закончит разговор и с блеском выложит готовое решение, что все сказанное им было подготовлено к такому эффектному финалу. Его обдало жаром, и он с мольбою подумал: «Только бы не это!»
Но главный не умел быть великодушным наполовину. Высказав свои соображения, он даже не притронулся к расчету, наоборот, отложил карандаш.
Тихонов собрал свои бумаги и, сдерживая восторг, сказал обыденно:
– Надо будет поторопиться, чтобы к сроку…
Это было вместо неуклюжих выражений признательности. В КБ не было заведено благодарить главного за помощь. Аркадий Дмитриевич понимал, что для человека нет тяжелее груза, чем быть обязанным.
Швецова нельзя было причислить к носителям единственной добродетели. Трудно сказать, что в нем преобладало – великодушие или глубокое уважение к людям. Скорее всего великодушие шло от его уважения к человеку. Еще в молодости, в бытность свою токарем московского завода «Динамо», он, недоучившийся студент, испытал доброе отношение к себе старых рабочих, и это запало в душу глубоко и навсегда. Они не корили интеллигентного молодого человека за неумелое обращение со станком. Увидят, что у него получается нескладно, и сами придут на помощь. Он им «спасибо», а они пропустят благодарность мимо ушей. Какие, мол, тут счеты, рабочего человека не положено благодарить за помощь.
А все потому, что видели: старается студент, всю душу вкладывает в дело.
Бывало и наоборот: подчас старым мастеровым необходима была его помощь. Поступит в цех чертеж заковыристого профиля, изведутся люди, да так и не сумеют прочитать. Позовут студента, дадут ему злополучный чертеж и стоят молча, пока «ученый человек» вникнет в суть, ждут.
Недолго приходилось им ждать, потому что студент читал чертежи так же свободно, как книгу. И объяснял их так просто, как если бы всю жизнь только тем и занимался. Его не благодарили, и это было ему по душе. Какие могут быть счеты между своими?
То, что в молодые годы постигалось как наука, в пору зрелости прочно устоялось, стало чертой характера. Молодым специалистам КБ иногда странным образом казалось, что Швецов – это вовсе не Швецов, а совсем другой человек редкостной простоты. Почему-то не укладывалось в сознании, что известный в стране конструктор может быть внимательным и участливым, все казалось, что равенство здесь немыслимо.
С точки зрения здравого смысла, это, пожалуй, необъяснимо. Ну зачем, спрашивается, думать о человеке не то, что он есть на самом деле?
Но, с другой стороны, непререкаемый авторитет, наряду со всеми своими положительными свойствами, имеет еще одно удивительное свойство: его признают все одинаково, а понимает каждый по-своему. Значительное представляется значительным лишь в самом главном. Все остальное в нем только угадывается.
Конечно же, в выдающемся конструкторе мы прежде всего предполагаем мощный интеллект, и как-то невольно думается, что все иные качества этого человека – своеобразное продолжение мыслительного аппарата и тоже подавляют своей мощью и масштабностью. И когда вдруг убеждаешься, что во всем прочем человек этот так же обыкновенен, как ты сам, начинаешь видеть в нем кого-то другого. Только спустя какое-то время, по мере узнавания, сознаешь, что он – это он.
Таких людей мы с радостью берем себе в учителя.
Можно объяснить черту характера человека, но как объяснишь его натуру? Знал ли сам Аркадий Дмитриевич, откуда к нему пришел этот редкостный учительский дар подготовить человека к взлету?
Говорят, что самое главное мы приносим в жизнь из собственного детства. А в детстве у него перед глазами был отец – народный учитель.
В студенческие годы пришлось самому побегать в репетиторах. Необходимость укрепила робкие задатки.
Потом, когда уже был создан «Русский авиационный мотор», командование Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского предложило ему руководить дипломным проектированием. Надо было научить молодых военных специалистов понимать и любить двигатель, а это значило передать свой конструкторский опыт.
В ту пору среди слушателей академии было много приверженцев авиационных двигателей с воздушным охлаждением. Этому способствовали испытания поликарповского У-2, гидросамолета МУ-2 конструкции Григоровича, легкого гидросамолета-амфибии Ш-1, созданного Шавровым, – новейших машин с знаменитым швецовским М-11. Сама жизнь вербовала Аркадию Дмитриевичу сторонников. Именно тогда, на пороге тридцатых годов, начала основательно складываться школа конструкторов авиадвигателей с воздушным охлаждением.
Не могла бы возникнуть школа, не будь учителя.
Был учитель – и появилась школа.
Единомышленники, верные общей идее, – вот что такое конструкторская школа. Это как полигон, где с разных позиций стреляют в одну точку.
Но это и как пчелиная семья, где из одной точки выходят на разные позиции, чтобы вершить общее дело.
Впрочем, школы бывают разные. Нередко под влиянием плодотворной идеи вдали от глазного творца появляются последователи. Их может быть много, даже очень много. Правда, у них нет непосредственного контакта с основным источником идеи, они чаще всего варятся в собственном соку. Главный же творец не спешит им навстречу, понимая, что это сулит ответственность и беспокойство. Такую школу вернее всего назвать заочной.
Совсем другое дело, когда главный творец и его ученики собираются под одной крышей, чтобы надолго остаться вместе. Вырастает дом, вырастают ученики. Складывается одинаковый для всех принцип, стратегия творчества.
В КБ Швецова эту стратегию уподобили штурму многоэтажного здания. Солдаты поднимаются вверх и распространяются по этажу, еще выше – и опять по всему этажу. Так удается охватить все здание. Только так можно подчинить себе большую идею.
И подобно тому, как немыслим без разделения ратный труд штурмующих, невозможен плодотворный труд конструкторского коллектива, если в нем не заложена правильная структура.
Аркадий Дмитриевич понял это сразу. В своем немногочисленном коллективе он создал такие подразделения, как конструкторские бригады, ведущие по узлу, ведущие по двигателю. Несколько позднее, когда КБ пополнилось специалистами, главный выделил перспективную группу. Ее освободили от текущих дел, поручив шлифовать замыслы будущих проектов.
В тридцатые годы специализация только-только получила права гражданства. Поэтому структуру, предложенную Швецовым, можно считать прозрением будущего.
Это была самая настоящая, не заочная, школа. Но главный не любил громких фраз и никогда не употреблял этого слова.
Уже год, как на заводе идет конвейерная сборка моторов. Воплощена идея Орджоникидзе – исчезли последние признаки кустарщины.
Тогда, в день пуска конвейера, Побережский произнес зажигательную речь во славу социалистической индустрии. Он не преминул бы отметить годовщину этого события – юбилеи, праздники всегда были его слабостью. Но Побережского больше нет на заводе, его имя вычеркнуто из списков моторостроителей.
На исходе зимы 1938 года, ясным днем, предвещавшим оттепель, люди растерянно спрашивали друг у друга: «Слышали?»
В этом вопросе была надежда услышать что-то успокаивающее, могущее рассеять тревогу.
– Слышали, Побережского взяли?..
– Не может быть! Почему, за что?
– Ничего не известно.
Оказавшись в тупике, люди всегда ищут спасительный ответ на вопрос, который не дает им покоя. Они призывают на помощь догадки, предположения, воспоминания, и из всего этого сооружают сложнейшие построения, которые прежде никогда не приходили в голову. Так поступают все, но не ошибается только тот, кто не поспешен в выводах.
Многие поверили в виновность Побережского. Рассуждали примерно так: «Ведь именно его, а не меня, тебя…»
А многие не поверили. Не в силах ответить себе на мучительный вопрос, они оставили его открытым на долгие годы. Так жить было куда труднее, надо было чем-то заполнить эту пустоту. И люди с головой уходили в работу, которая от всех бед спасение[1]1
После XX съезда партии старый коммунист, четырежды орденоносец И. И. Побережский был полностью реабилитирован.
[Закрыть].
Аркадий Дмитриевич закончил новый двигатель, выросший из третьей модификации заводского первенца. Он уже запущен в серийное производство, приправлен на конвейер, и что ни день – идет отгрузка нового мотора на самолетостроительные заводы.
Похоже, все забыли о том, что обещали этому двигателю имя Серго Орджоникидзе, а может быть, руки не дошли… Но авиационный мотор, как и человек, не бывает без имени. Однорядную звезду воздушного охлаждения с взлетной мощностью 1000 лошадиных сил назвали М-62.
Тысяча сил – мощь! Она на двадцать пять процентов выше, нежели у предшественника. Пусть небольшой, но все же это и рывок в высоту. Истребитель с таким сердечком может вести воздушный бой более чем в четырех тысячах метров от земли. Поликарпов, должно быть, потирает руки…
В КБ стояли перед выбором: либо наращивать мощность двигателя на десяток – другой сил, либо отважиться на глубокую модификацию, сделать существенный бросок вперед. Первое было выгоднее заводу, потому что двигатель, который выпускали несколько лет подряд, хорошо «вписался» в производство и не было необходимости перекраивать технологию. Второе же непременно повлекло бы за собой лихорадку, она всегда сопутствует внедрению нового.
Сложность заключалась еще в том, что решение зависело от технического директора и главного конструктора, а разногласия между ними исключались, поскольку это был один человек – Швецов.
И все-таки верх взяла точка зрения конструктора. По-видимому, тут сыграл роль дальний прицел: ведь после того, как будут исчерпаны ресурсы первенца, можно взяться за принципиально новый проект.
Но вот вопрос: до каких пор можно черпать из одной и той же конструкции? Ведь все имеет предел, нельзя бесконечно перегружать двигатель. Чтобы прибавить мощность, одного желания, к сожалению, недостаточно.
Человек создал двигатель, а природа создала самого человека. Почему же она, самый мудрый конструктор, не смогла наделить свое создание неисчерпаемыми силами? Медики всего мира только мечтают об усовершенствовании сердца, этого человеческого мотора. Но то будут два действия: модификация или замена. А значительное увеличение мощности работающего сердца – как оно должно выглядеть? Разве что вмонтировать в организм компрессор …
А если компрессор придать двигателю? Ведь все дело в том, чтобы питать цилиндры воздухом, давление которого выше атмосферного. Это предотвратит падение мощности с увеличением высоты полета самолета, двигатель перестанет «задыхаться». Значит, воздух нужно сжать перед подачей в цилиндр. Наддув с помощью нагнетателя! Ничего, что сжатие вызовет повышение температуры – сработает охлаждение, испытанное воздушное охлаждение, которое тем интенсивнее, чем выше скорость самолета. А скорость увеличится, двигатель с нагнетателем непременно даст значительно большую скорость.
Выбор был сделан.
Поликарпов, казалось, только того и ждал. Едва завод дал первую партию двигателей с нагнетателем, он сразу пустил в переделку истребитель И-15бис, который еще три года назад с легкой руки Коккинаки завоевал славу «самого-самого».
У Поликарпова было острое зрение. Он и на этот раз раньше других увидел недостаток, присущий его машине, – малую маневренность. Раньше это не так бросалось в глаза, завораживал мировой рекорд высоты. Но теперь, когда появился новый двигатель, пелена с глаз опала.
Новый истребитель со значением назвали «Чайкой». Он и впрямь отличался высокой маневренностью, этому способствовало убирающееся в полете шасси. Максимальная скорость самолета доходила до 440 километров в час.
Если «Чайка» чем-то не походила на чайку, то это, конечно, своими крыльями: Поликарпов создал биплан. Птица обходится парой крыльев, а самолету хорошую маневренность на горизонталях придают две пары крыльев. Они помогают парить, несут его, как былинку.
Новый двигатель Швецова пришелся впору и на поликарповском истребителе-моноплане И-16. Чкалов, испытавший машину в воздухе, дал ей высокую оценку.
Ах, эти оценки мирного времени! Они рождались после мучительных раздумий, взвешивались на аналитических весах неподкупной совести, их давали знатоки своего дела – испытатели, у которых слово – на вес золота. И все-таки эти люди, говорившие сущую правду, заблуждались. Боевая машина могла показать себя по-настоящему только в бою.
В те дни немногие знали, что наши истребители сражаются в небе Испании. Бои уже шли в предместьях Мадрида, и машины Поликарпова были надеждой республиканцев. Первое время они, надо сказать, оправдывали эти надежды: немецкие и итальянские эскадрильи, поспешившие на помощь генералу Франко, не выдерживали натиска наших маневренных, напористых истребителей. Обломки фашистских самолетов, сбитых «нашими», догорали на мадридских площадях, радуя истомленных войною людей. Жители испанской столицы на свой лад перекрестили хранителей неба, дали им ласковые имена. Были бипланы и монопланы, стали «чатос» и «моска» – «курносые» и «мушки».
Далеко на востоке, за тысячи километров от испанского фронта, в русских городах сугубо штатские люди становились стратегами. По вечерам они выходили из домов, обступали огромные уличные карты военных действий и с болью смотрели, как изогнутые черные стрелы, словно сахарные щипцы, сжимали Мадрид.
Республиканцы бились из последних сил. Гитлер, чтобы помочь Франко, бросил в Испанию крупные соединения новейших истребителей Мессершмитта. Их превосходство обозначилось сразу. «Курносые» и «мушки» были не в силах с ними соперничать: в воздухе они оказывались слабее.
Этот вывод тяжкой вестью переходил из инстанции в инстанцию, обрастая заключениями экспертов, особыми мнениями военных специалистов и руководителей авиапрома. Прежние оценки разом поблекли, утратили свою значимость и скорее походили на ярлыки, которые все еще украшают уцененный товар.
В штабах и наркомовских кабинетах бились в поисках ответа на вопрос: как такое могло случиться? Ведь наша авиация всего за каких-нибудь несколько лет совершила гигантский скачок вперед. Только завзятый скептик, а то и просто злопыхатель, мог умалить значение блистательных дальних перелетов, каскада рекордов, размаха авиационных новостроек. Что же произошло?
Ответ давался мучительно трудно. И все же, вырвавшись за рамки привычных представлений, специалисты склонялись к тому, что головокружительные успехи вызвали головокружение. Чем они были значительнее, тем нереальнее мы их оценивали.
Напрашивалась безрадостная аналогия. Будто мы поставили гигантский авиационный спектакль, разыграли его талантливыми силами, и сами же были зрителями и критиками. Но, восхищенные ярким зрелищем, вдруг забыли, что мы не только зрители. Впечатление было так захватывающе, что зритель вытеснил в нас критика. И эту ошибку жизнь использовала против нас самих.
Конструкторам тоже было над чем задуматься. Многолетняя работа «на рекорды» обернулась неожиданным финалом. Разумеется, за плечами осталась хорошая школа, пришла творческая зрелость, и никто не помышлял о том, чтобы перечеркнуть все то, чего удалось достигнуть, но было ясно: дальше придется работать уже не так, как прежде. Наступают иные времена, и часы надо будет сверять не по восхитительным воздушным парадам, а с самой жизнью.
Размышляя о случившемся, Аркадий Дмитриевич чувствовал, как вдруг, подобно ослепительной вспышке, все затмевало видение нового мотора. Оно возникло внезапно, и было неясно, почему повторяется в тот, а не иной момент, но само то, что вспышки эти повторялись в определенной последовательности, как бы подтверждало их неслучайность.
Видение мотора вылилось не из напряженных расчетов и перетасовки вариантов. Его породил импульс иного рода, и, наверное, потому воображение рисовало двигатель как нечто необъяснимое, не имеющее даже устойчивой формы.
Это была завязь мысли. Но мозг конструктора уже начал работать подобно генератору, получившему возбуждение.
То, что представлялось новым авиамотором, на какое-то время стало одушевленным предметом. Конструктор обращал к нему свои вопросы, поверял предположения, делился сомнениями. Ничего, что приходилось самому стоять по обе стороны диалога. Присутствие партнера ощущалось почти физически, и от соприкосновения с ним предположения и вопросы прояснялись и уже не казались праздными. Так легче было утверждать.
Легче было и отрицать, хотя отказ от привычного сложен и труден, как подвиг. Добровольно, без принуждения отбросить идею, которую сам же проводил в жизнь долгие годы, может только тот, кто чувствует себя способным на большее. Аркадий Дмитриевич это смог. Еще не зная точно, как будет выглядеть его новый двигатель, он знал, что больше уже не повторит однорядную звезду. Время ее прошло. Пусть догорает.
В свободные часы неудержимо тянуло к столу. Казалось, стоило остаться наедине с листом бумаги, как сразу потоком хлынут мысли, и их естественным завершением будет краеугольный расчет, к которому все остальное приложится само собой.
Но рука, державшая остро отточенный карандаш, вдруг замирала над листом, потом вздрагивала, как от удара электрическим током, и порывистым движением набрасывала причудливый контур, загадочный и чужой.
За этим следовало неподвижное сидение и полная отрешенность. И только потом, через час, а может быть, и через несколько часов, когда возвращалось обычное состояние, вдруг обнаруживалось, что от начального наброска не осталось и следа. Весь лист был испещрен величественными львиными головами, добродушными медвежатами, хитрыми мордочками лис.