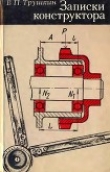Текст книги "Высокое небо"
Автор книги: Борис Грин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
В самом начале еще были возможны свои, маленькие, радости. Но по мере приближения к цели, они, подобно каплям ртути, сливались воедино и в конце концов обратились в нерасторжимый сплав.
Вот и получается, что радость коллектива – явление особого порядка. Для него не придумали формулы, но ясно, что дело тут не в обычном сложении. Математический подход здесь вообще неприемлем. Торжество коллектива не есть сумма людских торжеств, так же как солнце – это не сумма его лучей. Это тот необъяснимый математикой случай, когда сумма больше своих слагаемых…
О чем только не передумаешь, сидя у вагонного окошка. Пассажирский поезд Пермь – Москва растягивает свой путь почти на сорок пять часов, и на все это время люди вырваны из привычной для них обстановки. Вот и приходят в голову самые необычные мысли.
Дома, на заводе не очень-то отвлечешься, а тут, в поезде, какие занятия? К половине пути уже переговорили о делах и распили бутылку «Горного дубняка», а все не исчерпали свободного времени.
Заговорили о предстоящем вручении орденов. Побережский, ехавший уже за четвертым орденом, из скромности молчал. Остальные гадали: примет Калинин или Петровский?
За окнами нескончаемой стеной тянулись леса. Вдруг обнаруживался проем, и тогда в вагоне становилось светлее. Там вдали, как на просцениуме, виднелись деревеньки, утонувшие в снегах, и неудержимо манили к себе чуть мерцавшие огоньки.
Под потолком купе зажглась лампочка, и за окном сразу стало черно. Звякнув дверной ручкой, вошел проводник с подносом, уставленным стаканами. Чтобы не обременять себя в Москве лишней поклажей, пустили в ход остатки припасов, захваченных из дому. Прихлебывая чай, говорили о пустяках, на восточный манер расхваливали друг перед другом угощения, а то вдруг вовсе умолкали. Каждому хотелось представить себе завтрашний день, на который был назначен вызов в Кремль.
Было уже довольно поздно, но спать не хотелось. Аркадий Дмитриевич вышел из купе и тут же был атакован любителями шахмат. Его упросили на одну партию, и он, примостившись на чьей-то полке, быстро расставил фигуры.
– Ваши белые, – предложил партнер, тон его отдавал почтительностью.
– Нет, только черные, – Швецов повернул доску.
Видно, не зря на больших турнирах зрители находятся в основательном удалении от игроков. А в тесном купе не до правил. Вот и считает каждый своим долгом высказаться. Да еще противник достался словоохотливый – сделает ход и оповещает: «Капабланка бы пошел только так».
Аркадий Дмитриевич быстро разрушил порядки белых, заполучил несколько фигур. Но его противник не унывал. «Эйве бы пошел только так».
Зрители поняли, к чему идет дело, и, смеясь, стали пророчить победителя. Вдруг они умолкли, глядя на Швецова.
Аркадий Дмитриевич, не донеся руку до фигуры, которую собирался сразить, достал из кармана пиджака счетную линейку, всегда бывшую при нем, и начал что-то торопливо высчитывать. Казалось, он забыл о шахматах, забыл, что находится в окружении людей. Губы его неслышно шевелились, глаза бегали по шкале линейки.
Это длилось недолго, может быть, всего лишь минуту. Спрятав линейку в карман, он смущенно сказал: «Простите, это другое». И тут же довершил прерванный ход.
Когда Аркадий Дмитриевич вернулся в свое купе, Побережский уже спал. На коврике лежала раскрытая книга, и его рука, выскользнувшая из-под одеяла, свесилась вниз и словно прижимала ее к полу. Почувствовав осторожное прикосновение, спящий что-то пробормотал и шумно повернулся лицом к стенке.
На окне колыхнулась занавеска, и в глаза ударила россыпь ярких огней. Поезд подходил к Владимиру. Совсем близко была Москва.
Февраль – месяц вьюжный, но такого, каким он выдался в тридцать седьмом году, не припоминали даже коренные москвичи. Город был исхлестан снегом. Холодный ветер, хлынувший откуда-то с севера, отчаянно свистел в бесчисленных переулках и, вырвавшись на проспекты, штопором закручивал сугробы, подхватывал снежную пыль и швырял ее по сторонам. Это была воистину бесполезная работы природы.
Странное зрелище представляла собой обычно многолюдная и нарядная Тверская, только недавно переименованная в улицу Горького. Ее широкий, чуть искривленный коридор выглядел почти пустынным. Задыхаясь в снежной круговерти, люди переходили на подветренную сторону, а другая сторона казалась вымершей. Редкие автомобили держались ближе к обочине тротуара, будто боясь, что их завихрит, опрокинет на стремнине.
На той, безлюдной, стороне не видно было стекол. Будто бельмами затянуло окна и витрины. Водосточные трубы, сплошь залепленные снегом, представлялись никчемными белыми колоннами, которые вот-вот хрустнут и упадут.
Аркадию Дмитриевичу показалось, что путь до Красной площади продолжался целую вечность. Подходя к Кремлю, он умерил шаг, отдышался. Не останавливаясь, на ходу, опустил воротник пальто, сбил с плеч снег.
У Спасских ворот, хоронясь от ветра за кирпичным выступом, стоял молодой человек в новенькой бекеше. На петлицах у него были синенькие кубики, которые, казалось, и посинели от холода. Он взял под козырек и лихо повернулся, молча приглашая следовать за собой.
Из окошка комендатуры выглянул другой молодой человек в такой же бекеше и тоже с синими кубиками. Он долго вертел в руках поданные ему документы, наморщив лоб, что-то сверял и вдруг поднял брови и уставился Аркадию Дмитриевичу в лицо, точно фотографировал его глазами.
Кремлевский двор был отлично ухожен, как будто февральское лихо обошло его стороной. За комендантским порогом открылась строгая геометрия парка: стрельчатые дорожки с перекрестками, точнейшие окружности клумб, шпалеры низкорослых голубых елочек. Аркадий Дмитриевич увидел это в первый раз.
В зале заседаний Президиума ЦИК СССР все уже были в сборе. Яркий свет, преломляясь в хрустале громоздких люстр, бросил на стены изумрудные блики, и те, кто находился здесь впервые, задрав головы, смотрели вверх.
В глубине зала растворилась дверь, показался хорошо знакомый по портретам Григорий Иванович Петровский. В руках у него была большая кожаная папка, из которой выступали листы бумаги. Он нес ее перед собой, а сам смотрел в зал и, наклоняя голову, отвечал на приветствия.
Аркадий Дмитриевич глазами проводил Петровского к столу и увидел там высокую горку маленьких красных коробочек.
По праву заместителя Председателя Президиума ЦИК Петровский объявил открытие заседания и сразу приступил к делу. Его помощник, соблюдая ритуал, прочитал всем знакомое постановление. Затем он поименно называл награжденных, и Григорий Иванович вручал им коробочки с орденами.
Вот уже и Побережский вернулся на место. Как бы стараясь оттянуть счастливую минуту, он полюбовался коробочкой, затем достал орден Ленина и привинтил его над тремя другими орденами.
Дошел черед до Швецова. Стоя перед Петровским, он улыбнулся ему и встретил ответную улыбку.
Григорий Иванович тронул свою бородку и взял со стола красную коробочку. Чуть помедлив, он окинул взглядом крупную фигуру Швецова и, вновь улыбнувшись, сам достал орден.
Смутившись, Аркадий Дмитриевич подался к Петровскому, отогнул отворот пиджака. Несколькими ловкими движениями Григорий Иванович прикрепил орден и, чуть откинув голову, словно глядя на свою работу, зааплодировал вконец растерявшемуся Швецову.
Когда церемония вручения наград была окончена, Петровский строго посмотрел в зал. Все смолкли, приготовившись слушать речь первого заместителя «всесоюзного старосты».
Назавтра в газетных отчетах можно было прочесть такие строки: «Григорий Иванович Петровский особо отметил заслуги конструкторов, в том числе главного конструктора завода Аркадия Дмитриевича Швецова».
6
Обед в ресторане гостиницы «Москва» подходил к концу, когда Побережский, оглядев своих товарищей, загадочно сказал:
– Всем побриться, привести себя в полный порядок, потому что…
На него навалились:
– Какие еще секреты?
– Ну зачем томить душу?
Выстрелив хлебным шариком себе в ладонь, Побережский торжественно заключил:
– Потому что сегодня нас примет товарищ Орджоникидзе.
Через полчаса Аркадий Дмитриевич сидел в кресле у старого гостиничного парикмахера. Закрывая плечи клиента салфеткой, старик покосился на орден и внимательно посмотрел Аркадию Дмитриевичу в глаза.
Несколько секунд лицо парикмахера не оставляла мучительная гримаса. Можно было подумать, что клиент напомнил ему кого-то, а кого – не приходило на память.
– Вы меня, конечно, извините, но вы случайно не с Садово-Триумфальной?
Аркадий Дмитриевич удивленно поднял брови:
– В каком, собственно, смысле?
Не прекращая своей работы, старик объяснил:
– Я имею в виду в смысле Реалистического театра.
Невозможно было не улыбнуться.
– Нет, нет, – поспешно заговорил старик, – контрамарки мне не нужны. Настоящий мужской мастер, слава богу, в состоянии заработать не только на хлеб. Но будь я проклят, если не вы в прошлом году раскланивались публике на премьере «Аристократов». И значит, вы – Охлопков.
Отшутиться – значило бы обидеть старика, и Аркадий Дмитриевич переменил тон:
– Уверяю вас, вы ошиблись. Я не режиссер. Я инженер.
Старик был явно разочарован.
– Очень может быть, – согласился он. – Но клянусь своим здоровьем, что сходство у вас поразительное.
Отлично выбритый, в хорошем черном костюме, с орденом, Аркадий Дмитриевич выглядел превосходно. В таком виде он и вошел в кабинет Орджоникидзе в старом особняке на площади Ногина.
Товарищ Серго встретил пермских моторостроителей как добрых знакомых. Выйдя из-за стола, он с каждым поздоровался за руку и гостеприимным жестом пригласил сесть. Потом и сам вернулся за стол, в кресло с высокой деревянной спинкой. Из отдаления ему было видно всех разом. Опершись на подлокотник, он обвел глазами гостей, довольно оглядел их новенькие награды, которые сверкающим пунктиром повисли над его столом.
О чем думал в эти мгновения нарком? Возможно, ему вспомнилось лето 1934 года, приезд в Пермь, на завод. Всегда уверенный в себе Побережский показался тогда чуть растерянным. Завершался монтаж, и тысячи нехваток выбили его из колеи. Он ждал от наркома участливого слова, а получил суровую взбучку. Иначе было нельзя. У людей такого склада, как Побережский, как бы два запаса энергии, но они сами того не знают. Вымотавшись, такие люди способны опустить руки на пороге второго, резервного запаса. Тут главное – помочь им переступить через порог, а для этого нужен подходящий импульс. Вот и пришлось выбирать между слюнявыми сочувствиями и суровой прямотой.
Теперь совершенно очевидно, что осечки не случилось. Вот они сидят, директор со своей гвардией, – любо на них смотреть. Крепкие, полные сил, не знающие сомнений.
На последнем пленуме совета при наркоме Серго говорил, что нужно овладевать техникой так, как это делает Побережский со своим коллективом. На совете были директора индустриальных гигантов страны – бесстрашные бойцы, партийцы до мозга костей, орлы. Возможно, кого-то из них и кольнули слова наркома. Но факт остается фактом: в Перми сотворили чудо. Там признают одну меру – досрочно. Завод пустили досрочно, авиационный мотор освоили досрочно, а сейчас поговаривают уже о том, чтобы досрочно освоить проектную мощность производства.
С виду они скромняги. Ишь, как сидят – словно гимназисты: руки и то упрятали под стол. А какими делами ворочают – просто диво!
Швецов, например. Ведь если разобраться, он везет два воза – и технический директор и главный конструктор. Ехал человек на Урал за любимым делом, а ему такой довесок преподнесли – другой бы взвыл. И хорошо, что другой. Много еще этих других. Внизу не хотят сидеть, а наверху для них места нет. Вот и брюзжат, кичатся прошлыми заслугами, если, конечно, таковые имеются. А он живого дела искал, чтобы по душе, и получил его, даже с лихвой.
Что бы ему сейчас грохнуть кулаком по столу: «Конструктор я, почему же не по назначению меня используют?» Пришлось бы поднять руки: «Сдаемся, товарищ Швецов, ваша правда». Но он отлично понимает сложность момента, потому не выставляет ультиматумов. Завод пущен, и это, конечно, преотлично. Но часы лишь тогда часы, когда они безупречно точны. А в Перми их еще только завели.
Выйдя из-за стола и оправив свой оливкового цвета китель, Орджоникидзе прошелся по кабинету. То, что он сказал, было прямым продолжением его короткого раздумья:
– Первым заводом будет тот, который даст продукцию не кустарным способом, а на конвейер. В авиационной промышленности эту роль мы отводим вашему заводу.
Заложив руки за спину, нарком медленно прохаживался вдоль длинного стола и развивал свою мысль. Лицо его чуть побледнело, взгляд смоляных глаз стал сосредоточенным. Картина, которую он развертывал перед слушателями, и радовала, и заставляла крепко задуматься.
Первостепенная задача – наладить конвейер. В узком смысле – это чисто технологическая задача. Там, где появляется конвейер, умирает кустарщина. Тысячи людей словно настраиваются на одну волну, и возникает ритм. А что может быть важнее в современном производстве? Работать в ритме – значит идти вперед, работать без ритма – все равно, что подниматься по эскалатору, бегущему вниз.
В 1934 году, когда завод был вздыблен монтажом, о конвейере даже не помышляли. Пришел план на сборку пятидесяти моторов – какой уж тут конвейер! В готовых цехах станки работали через один, а то и вовсе молчали. Главным действующим лицом оказался слесарь, а внушительный блок цехов превратился в затрапезную мастерскую. Гора родила мышь.
Надо ли агитировать за конвейер сейчас, когда завод принял законченный вид? Нет, конвейер надо пустить, и это будет лучшей агитацией.
Не вечно заводу возиться с М-25. Слов нет, мотор получился хороший, но авиация кричит: «Дайте мощность!», а это значит, что Перми придется засучить рукава. Нужен еще более мощный и надежный мотор, и прийти в авиацию он должен непременно с конвейера.
Лишь в самом узком смысле эту задачу можно назвать технологической. В широком плане это политическая задача. Советский Союз должен иметь свои моторы. Свои! Случись война, за границей их не купишь.
…Слушая Орджоникидзе, Швецов думал о том, что здесь, в кабинете наркома, подведена черта под всем, что удалось сделать на первом этапе. Теперь начинается новый, второй этап, который, быть может, станет самым важным во всей его жизни конструктора.
7
В городе все переполошились. С утра на улицах полно народу. Не праздничный день, а висят флаги. Из репродукторов льются песни. У газетных киосков столпотворение.
Развертывая свежий номер «Звезды», люди припадают глазами к короткому сообщению:
«Сегодня с поездом № 46 приезжают в Пермь Герой Советского Союза В. П. Чкалов и орденоносцы моторостроительного завода».
Нина Ивановна узнала об этом, разумеется, не из газеты. Ночью ее разбудил настойчивый звонок почтальона, принесшего телеграмму Аркадия Дмитриевича. Сон как рукой сняло. Едва дождавшись рассвета, она стала собираться на вокзал, чтобы встретить мужа.
В трамвае давка – яблоку негде упасть. Кто-то из заводских узнал Нину Ивановну, уступил место. В поселке ее знали многие, и не только как жену главного конструктора.
Как в этой тихой, невидной женщине, в прошлом московской машинистке, проявилась натура общественницы? Она и сама не взялась бы ответить на этот вопрос.
Когда они жили в Москве, все было иначе. У Аркадия Дмитриевича были свои дела, у нее – свои. Изо дня в день, пунктуально в одно и то же время он уходил на завод и возвращался домой, в Костомаровский переулок, где его ждал привычный уют. При всем желании она не могла бы стать ему помощницей в его многосложных обязанностях главного инженера и главного конструктора завода. В ее силах лишь было создать ему условия для спокойной работы.
По вечерам, когда Аркадий Дмитриевич усаживался за чертежный стол, она не сразу уходила из комнаты. Стоя в дверях, еще долго смотрела ему в спину, зная, что вот сейчас он наклонится вперед и возьмет правой рукой карандаш, не поворачивая головы, другой рукой нащупает счетную линейку, потом выпрямится в кресле, словно вбирая в легкие воздух, и только тогда склонится над листом ватмана.
Она не смогла бы сказать о его моторах ни слова. То, чем жил муж, было недоступно ее пониманию. Его работа представлялась ей чем-то очень серьезным и значительным, чему она не могла подобрать подходящего имени.
Но что из того? Она и так была счастлива. От сердца к сердцу у них лежала прямая дорожка.
Когда Аркадий Дмитриевич решился переехать в Пермь, она не возразила ему ни словом. Нелегко было ей, коренной москвичке, расстаться с родным городом, но она и виду не подала. «Раз надо, значит надо».
На новом месте и жизнь пошла по-новому. С первых дней Нину Ивановну взяла в работу неутомимая Елизавета Побережская, жена директора завода.
– Они ударным делом заняты, – закипая, говорила она о мужьях, – а мы что же, так и будем киснуть?
Нина Ивановна растерялась.
– Но чем же мы можем помочь заводу? Я машинисткой могла бы…
Побережская взорвалась.
– Чем? Мы? Да если все жены специалистов объединятся в бригады, горы можно будет своротить. То ли нам доставалось в гражданскую!
Нина Ивановна уже слышала о боевой молодости Елизаветы Побережской. Она и с будущим своим мужем познакомилась на фронте где-то под Коростенем.
– Я согласна в бригаду, – робко сказала Нина Ивановна, еще не представляя своей будущей роли.
Побережская не бросала слов на ветер. Уже на следующий день жен специалистов пригласили в партийный комитет. Они вошли настороженно, еще не зная, к чему приготовиться – к мирному разговору или к обороне. Их объединяла неизвестность. В остальном же они были почти чужими и совсем разными.
За столом в парткоме оказалось около пятидесяти женщин. Пожилые и молодящиеся, молодые и совсем юные. Они были в платках, беретах, старомодных шляпах и вычурных шляпках, рожденных последним криком моды. Их глаза, устремленные друг на друга, проницательно видели то, что невозможно передать словами.
Последней пришла Побережская. Сбросив кожаную куртку, она громыхнула стулом и села.
К назначенному сроку больше никто не явился. Решили не ждать, начинать.
Боже праведный, что произошло после того, как парткомовец провозгласил отточенный лозунг: «Завод должны строить все!» Будто в комнате разорвалась шумовая бомба. Одни одобряли, другие криком выражали протест, третьи пытались пообстоятельней объяснить свою позицию. Казалось, что все пятьдесят «за» и все пятьдесят «против».
Парткомовец не предвидел такой реакции, и стоял перед женщинами растерянный, бессильный их утихомирить. Его выручила Побережская, грозно крикнувшая: «Стыдно, гражданки жены!»
Когда улеглись страсти, выяснилось, что большинство в общем-то «за». Тут же договорились организовать бригады помощи заводу, где бы жены специалистов могли приложить свои силы. Мужья будут делать свое дело, а они, жены, помогут в устройстве быта рабочих, наладят работу детских садов, яслей, займутся столовыми.
До сего дня Нина Ивановна хранит газетную вырезку, где есть такие слова:
«Жена главного конструктора завода т. Швецова принимает активное участие в работе санитарной комиссии».
Это было началом. Потом пришлось вести кружок ликбеза, организовывать круглосуточную работу детского садика, заниматься благоустройством заводского сквера. В общественных заботах стремглав проносилось время.
Не могла усидеть дома и Евдокия Моисеевна. «Почему только жены, а матери что же?»
Газета и ей уделила доброе слово:
«Евдокия Моисеевна Швецова, мать главного конструктора завода, пошла в детские сады и ясли. После ее работы сразу наметилось улучшение. На столе у детишек появились яблоки. Гречневая каша заменена манной. Ржаной хлеб сменился пшеничным)».
Ощущение того, что и близкие ему люди живут одной с ним жизнью, радовало Аркадия Дмитриевича. Когда в семье говорили: «У нас на Заводе», это звучало так, как если бы сказали: «У нас дома».
Прошлым летом Орджоникидзе проводил Всесоюзное совещание жен работников тяжелой промышленности. Заводские послали в Москву Побережскую. Елизавета возвратилась с орденом, а Нине Ивановне привезла велосипед – подарок от товарища Серго.
Все еще стоит в прихожей эта сверкающая никелем полуколесница. Некому на ней ездить. Разве что Володе, сыну, но он живет в Москве, по горло занят студенческими делами. В авиационном институте, говорят, ребят муштруют безжалостно.
…Нина Ивановна потерла варежкой замерзшее стекло, прильнула к сверкающей полоске. Трамвай бежал вдоль железнодорожной насыпи, у самого ее подножия, загроможденного старыми деревянными строениями. На повороте пассажиров качнуло, в просвете показалась привокзальная площадь. Тотчас грянул оркестр, как будто он только и дожидался прихода трамвая.
Перед вокзалом гудел людской разлив. Милиционеры, взявшись за руки, не давали ему выплеснуться из берегов. Чей-то знакомый голос крикнул: «Пропустите Швецову!», и Нина Ивановна, под прицелом сотен глаз, побежала к перрону.
Поезд Москва – Пермь, поигрывая зелеными позвонками вагонов, медленно, словно обессилев, заканчивал свой бег. В голове состава тяжко охнул паровоз, выпустив густое белое облако. Затяжным перебором звякнули буфера, сразу стало тихо.
В тот же миг на перроне все пришло в движение. Казалось, люди устремились одновременно во все стороны. Где-то совсем рядом прогремело «ура», и возглас этот разом пресек неразбериху, бросив людей к одному вагону.
Нина Ивановна узнала Чкалова сразу. Он стоял в проеме двери, широченно улыбаясь, размахивая над головой крепко сцепленными руками. Ему протянули оранжерейный букет, он живо схватил его, с треском разорвал ленточку и бросил цветы в толпу.
Аркадий Дмитриевич сошел на перрон вслед за Чкаловым и Побережским. Елизавета, пробившись вперед, обняла всех троих, звонко расцеловала каждого. Спохватившись, крикнула в толпу: «Пропустите Швецову!», и Нина Ивановна не заметила, как очутилась в середине живого коридора, который замыкался за нею, подталкивая вперед, к вагону.
Теряясь под чужими взглядами, Нина Ивановна сняла варежку, протянула мужу руку:
– С приездом…
Утром следующего дня, сразу после завтрака, Нина Ивановна принесла кипу свежих газет. В местной «Звезде» Аркадий Дмитриевич нашел маленькую заметку, под которой стояла его подпись.
Не сдавать взятых темпов!
Не сдавать взятых темпов работы, с еще большей энергией и энтузиазмом выполнять порученное заводу дело – вот каким будет наш ответ на высокую награду партии и правительства.
Мы дадим стране новые мощные машины, превосходящие лучшие заграничные образцы.
А. Швецов, главный конструктор завода.
Перечитав эти строки, поморщился: «Боже, сколько треску!» Его всегда выводил из себя барабанный бой газетных полос. Возможно, сказывалась придирчивость бывшего корректора – в студенчестве ему пришлось испытать себя и на этом поприще.
Однако заметку написал не кто-нибудь, а он сам. За несколько часов до прибытия поезда в Пермь, кажется в Верещагино, в купе заявился молодой человек, представившийся корреспондентом. Он не просил, а решительно сказал: «Надо», чем сразу расположил к себе Побережского. Под укоризненным взглядом директора Аркадий Дмитриевич сдался.
Но бог с ним, со стилем. Главное-то сказано: дадим новые мощные машины, превосходящие лучшие заграничные образцы. Не слишком ли смело? Пожалуй. Хотя у Орджоникидзе вопрос был поставлен именно в такой плоскости, и только так придется его решать.
Эту же мысль, правда в своеобразной интерпретации, высказал и Чкалов, выступая перед заводскими комсомольцами. Под стать заправскому оратору, он провозгласил:
– На моей груди рядом с высшей наградой – орденами Ленина – со вчерашнего дня висит значок ударника завода. Принимая этот значок, я даю обязательство носить его с честью. Я первый начал летать на моторах вашего завода, и на этих моторах я постараюсь сделать все, что могу, для осуществления задачи, поставленной перед советскими летчиками: летать выше всех, дальше всех и быстрее всех.
Если даже сковырнуть митинговую окраску этих слов, все равно нельзя не увидеть за ними реальной потребности времени. Возможно, кому-то показалось, что Чкалов только и бредит рекордами – «выше, дальше, быстрее». Но он работает с Поликарповым и Туполевым и хорошо представляет себе, что нужно сегодня.
Еще два дня, и Чкалов возвратится домой. За плечами у него перелет по маршруту Земля Франца Иосифа – мыс Челюскина – Петропавловск-на-Камчатке – остров Удд. Впереди перелет в Америку, подготовка к нему идет вовсю. Жаль, конечно, что завод не успеет дать подходящий мотор. Микулин опередил, с ним тягаться не просто. Но ничего, тысячесильный М-62 уже довольно хорошо прорисовывается. Это не просто модификация предыдущего двигателя. Одноэтажный дом, на котором надстроили два этажа, уже не назовешь одноэтажным.
Стоя у зеркала, Аркадий Дмитриевич тщательно повязывал новый галстук. Мысль его была нетороплива. То, о чем он думал, было продолжением разговора с самим собой, как-то незаметно возникшего после встречи с Орджоникидзе. Один за другим всплывали вопросы, которые не могли оставаться без ответа.
Было тревожно оттого, что там, в верхах, строят обширные планы, опираясь лишь на его, Швецова, обещание дать новый мощный мотор. Что, если двигатель не удастся? Это будет куда больше, нежели личная катастрофа. Такая зловещая поправка разрушила бы намеченные планы, спутала все сроки.
Удивительно, как жизнь меняет понятия. В двадцатые годы в кругу московских конструкторов любили потолковать о свободе творчества. И это не резало слух. Конструктора было принято считать свободным художником, и в первую очередь он сам считал себя таковым. Сроки? Они определялись наитием, то есть, по существу, никак не определялись.
А сейчас в творческий мир конструктора властно входит время. Мало того, что ты работаешь над новым проектом, мало того, что дела идут в общем успешно. Назови точный срок окончания работы.
Но, с другой стороны, многое зависит от того, какими глазами смотреть в календарь. Он может быть мячиком на резинке, а может быть жестким ограничителем. Все оглядываются на время, только время ни на кого не глядит. Перед ним все равны, конструкторы тоже.
Да, конструктор перестал быть свободным художником. Этого никто не декретировал, так повелела жизнь. Получается совсем по-ленински: не задачи до уровня конструктора, а конструкторов – на уровень задач.
Разговор с собой обыкновенно завершался оптимистическим финалом, особенно если удавалось переключиться. Так было и сейчас. Оставалось каких-нибудь двадцать минут до начала торжественного пушкинского вечера в оперном театре. Следовало поторопиться.
Новый галстук пришелся Аркадию Дмитриевичу впору. Оглядев себя в зеркале, он повертел головой, привыкая к свежему воротничку, пригладил волосы, снял с вешалки пиджак. Пригласительные билеты с коричневым оттиском пушкинского профиля положил Нине Ивановне в сумочку.
В зале оперы всегда приходило на память: «Театр уж полон…» Город гордился своим театром, и трудно было припомнить, когда бы он пустовал. Но на этот раз привлек даже не отлично поставленный «Евгений Онегин». Все знали, что в зале будет Чкалов.
Его встретили бурным восторгом, по памяти сличая с известными портретами. Это был всем знакомый Чкалов – широкоплечий, налитой силой, даже внешне отмеченный печатью безудержной отваги. Казалось, что ему стоит усилий отвечать на приветствия, заслуженные прошлогодним подвигом. Он, казалось, был готов совершить нечто необыкновенное прямо сейчас, здесь, в этом сверкающем зале. И когда его глаза пробежали по полукругу балконов, можно было подумать, что он примеряется, удастся ли тут развернуться в лихом вираже.
Так уж получилось, что этот вечер подарил ему случай показать свою удаль. Во время спектакля у Татьяны, склонившейся над письмом Онегину, от случайного прикосновения к зажженной свече вспыхнул парик.
Перемахнув через барьер директорской ложи, Чкалов в мгновение ока очутился на сцене. Благодаря ему актриса отделалась испугом. Спектакль продолжался.
Последняя встреча с Чкаловым была в день его отъезда. Крупными хлопьями шел снег, и тропки, протоптанные вкривь и вкось, превратили платформу перрона в белое стеганое одеяло. Обычная сутолока станции сейчас была полна значения, это будило в душе что-то смутное, похожее на далекое воспоминание, и поезд, тронувшийся после троекратного трезвона колокола, показался таким близким и дорогим, как будто его оторвали от сердца.
Схватившись за поручень, Чкалов выгнулся из вагона, что-то крикнул провожавшим, и свободной рукой крутанул в воздухе параболу. Никто не расслышал его слов, но все поняли – это знак: он облетит «шарик».
Пройдет всего четыре дня, и большое общее горе заглушит эти приятные воспоминания. Весть о кончине Серго Орджоникидзе остро поразит своей внезапностью, отзовется болью. Что-то властное заставит уйти поздним вечером из дома на завод, к людям, с которыми совсем недавно довелось быть в старом доме на площади Ногина.
А еще через день выйдет заводская газета в траурной рамке, и будут в ней такие строки:
«Серго стоял у колыбели нашего молодого завода, беспрерывно заботясь о нем.
Серго приехал к нам в 1934 году, когда еще на заводе шел только монтаж и освоение производственного процесса. Приезд Серго мобилизовал коллектив, влил уверенность в силы, он помог коллективу выполнить и перевыполнить задания любимого наркома. Жесткие сроки, данные Серго, были перекрыты, мотор был освоен и выпущен досрочно. Победе молодого коллектива Серго радовался вместе с нами. Серго был с нами в Москве 7 февраля этого года на товарищеской беседе, после того как правительство вручило нам орден Ленина для завода и ордена каждому из нас.
Слова Серго на этой беседе навсегда врезались в сердце каждому из нас. Товарищ Орджоникидзе дал задание коллективу сделать еще более мощный и надежный мотор.
Этот мотор будет сделан…»
Под этими строками подписи моторостроителей – орденоносцев. И Швецова тоже.
Потом, по предложению Побережского, партийный комитет завода примет решение: новому мотору присвоить марку СО – в честь Серго Орджоникидзе.