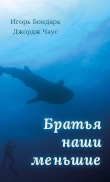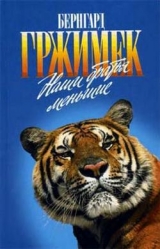
Текст книги "Братья наши меньшие [Мы вовсе не такие]"
Автор книги: Бернхард Гржимек
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 35 страниц)
Глава двадцатая
Есть ли животные с «шестым чувством»?

Случилось это весенней ночью три года назад в Северной Канаде. Один мужчина вышел из лагеря набрать воды из ручья, протекавшего всего в каких-нибудь пятидесяти метрах. С тех пор его больше никто не видел.
«Год тому назад охотник за красной дичью решил как-то после обеда отправиться в одиночку в небольшой рейд по близлежащим окрестностям, и только одиннадцать дней спустя его нашел один из двадцати пяти человек, посланных на его поиски. При этом они прочесывали всю округу на расстоянии в тридцать километров», – так рассказывает Квоннесин – писатель-индеец, завоевавший, кстати, мировую известность.
Средний человек, по его утверждению, не способен запомнить пройденный им в лесу путь и выбрать нужное направление, чтобы вернуться назад. На этой неспособности и лежит основная вина за потери человеческих жизней в лесах Северной Канады, гораздо большая, чем выпадает на долю других опасностей и случайностей, не считая, конечно, лесных пожаров. Сплошь и рядом получается так, что кто-то сбившийся с пути начинает описывать самые настоящие круги, натыкается в конечном счете на тропу, протоптанную (о, радость!), несомненно, человеком, и попадает – первый раз с огорчением, а в последующие уже с полным отчаянием – к собственному же костру, который только вчера или позавчера покинул… Почти каждый человек, даже бывалые, опытные трапперы, впадает после этого в панику и, будучи не в силах совладать с обычным стремлением заблудившихся вырваться любой ценой из этого заколдованного круга, начинает, словно помешанный, не разбирая дороги, прорываться в каком-либо одном направлении. При этом он, не щадя ни одежды, ни собственной кожи, яростно продирается сквозь кустарник и заросли густого подлеска. Пение птиц начинает звучать для него издевательской насмешкой, и он уже не замечает красоты окружающей природы, ее удивительной гармонии. Человек, этот венец творения, оказывается вдруг самым беспомощным, самым неприспособленным созданием во всем этом прекрасном, величавом лесу…
Почти все заблудившиеся уже спустя пару дней теряют рассудок, перестают реально воспринимать окружающую обстановку: им чудятся то привидения, то огни лагерных костров. Одного старого траппера при подобных обстоятельствах нашли через шестьдесят два дня с помощью самолета. Он был почти голый, совершенно искусанный мошкарой и предельно истощенный. Оказывается, солнце скрывалось целую неделю за облаками, а к тому времени, когда оно вновь появилось, его рассудок уже настолько помутился, что ему почудилось, что оно восходит и заходит с обратной стороны. Поэтому он упрямо продолжал следовать на север, углубляясь все дальше и дальше в бесконечные дебри. Заблудившихся обычно до самого конца не покидает надежда вырваться из леса – останки их, как правило, сохраняют позу ползущего человека.
Люди, привычные к лесу, например дровосеки, в случае, если они во время работы отклоняются в сторону от просеки, могут заблудиться не хуже горожан. Егери, инженеры, землемеры, сплавщики леса, как правило, носят при себе компас. И только расстановщикам капканов и золотоискателям, как белым, так и индейцам, присуще умение ориентироваться в незнакомой местности. Однако, как утверждает тот же индейский писатель Квоннесин, это отнюдь не врожденная способность. Просто эти люди умеют ориентироваться по незаметным для других знакам самой природы, например по тому, куда наклонены вершины елей; они никогда не забывают о том, что вода всегда стекает под уклон, что оленьи тропы в марте проложены непременно по южным склонам, что древесная кора всегда толще с северной стороны. Если одно лишь поколение индейцев изъять из их привычной обстановки, эти почти бессознательные способности будут безвозвратно утеряны, как они утеряны и у белых.
Итак, коль скоро его нет у человека, этого врожденного чувства направления, уверенной ориентации на местности, то, может быть, оно свойственно хотя бы животным? Ведь в газетах часто мелькают подобные сообщения. Так, лишь позапрошлой зимой я прочел заметку о том, как молодая кошечка, которую крестьянин по фамилии Кишке, из деревни Аттерваш, продал жителю Губена (расположенного в девятнадцати километрах оттуда), прибежала назад и преспокойно улеглась на свое привычное место за печкой. Из другой заметки явствовало, что в прошлом году еще одна кошка, которую в картонной коробке увезли из Рупольдинга в Карлштейн, в Баварии, спустя четыре дня вернулась назад, на свою «родину». Но наиболее достоверно доказанным можно считать сообщение о трехлетнем кастрированном коте, которого его хозяева из Кёцшенброда подарили другой семье, проживающей в Дрездене-Лёбтау. Животное увезли на электричке и окольными путями доставили на новое место жительства. Весь путь составил не менее шестнадцати километров. Спустя два дня кот исчез и в тот же вечер заявился на старое место, причем прибежал он совсем с другого конца и отнюдь не той дорогой, которой его увозили. Поскольку на нем был надет ошейник с голубым бантом, то путем опроса удалось проследить весь пройденный им путь, составивший одиннадцать километров. Следовательно, кот бежал домой кратчайшей дорогой.
То, что лошади удивительно уверенно находят дорогу назад, общеизвестно. Один немецкий золотоискатель, вернувшийся из Канады, рассказывал, как взял на одной почтовой станции напрокат двух лошадей, за пользование которыми надо было платить по три доллара в день. Прибыв на место назначения, ему надлежало лишь снять с них переметную суму и недоуздок, а потом просто отпустить. Прибыв ровно через два дня на следующую станцию, он снял с лошадей поклажу, разнуздал их, дал им шлепок по заду, и – эгей! – не успел он опомниться, как они уже переплывали назад реку. И потом еще долго раздавался удалявшийся топот их копыт.
На хуторе, стоящем у самой дороги, было совершено ограбление. Украли много продовольствия и одежды. Чтобы увезти украденное имущество, воры похитили у соседнего крестьянина двуколку, а затем бросили пустую повозку у дороги. Хозяин лошади предложил снова запрячь шестнадцатилетнюю кобылу в повозку и отпустить поводья. Лошадь неторопливо протрусила примерно шестнадцать километров по шоссе, а потом свернула на лесную дорожку. Вскоре она остановилась возле землянки. Там и нашли все награбленное. С помощью различных улик удалось впоследствии найти и самих грабителей. Вне всякого сомнения, основная заслуга здесь принадлежит хорошей памяти лошади.
Мне припоминается смешная история, случившаяся со шведским майором, купившим какую-то особенно спокойную и степенную лошадь. Каково же было его недоумение, когда на определенных улицах Стокгольма эта лошадь упрямо останавливалась у каждой второй или третьей двери. Идти дальше она соглашалась только после того, как выходила удивленная горничная и спрашивала, что угодно господину майору… Оказывается, прежде лошадь развозила по этим улицам молоко!
Еще более удивительную историю рассказывали еще до войны об одной гарнизонной лошади из первого гвардейского уланского полка, стоявшего в Потсдаме. Эту лошадь перевезли по железной дороге из Потсдама в Хиршберг, где она должна была участвовать в маневрах. Внезапно она вырвалась из рук коновода и убежала, и изловить ее не удалось. Спустя пять дней лошадь как ни в чем не бывало уже стояла в своей потсдамской конюшне. Правда, уздечки с набором на ней не оказалось, но седло было цело. Животному, следовательно, пришлось пробежать двести пятьдесят километров по совершенно незнакомой местности, пересекая железнодорожные линии, через несколько больших городов и густозаселенные пригороды Берлина; центр Берлина она миновала, по-видимому, глубокой ночью, когда на улице не было никакого движения.
Что касается лошадей, то похоже, что они действительно следуют иногда по какому-то наитию, руководствуются так называемым «шестым» чувством, которого у нас, людей, нет. Однако это еще не доказано. Возможно ведь, что лошади уже приходилось прежде когда-нибудь бывать в некоторых районах из тех, которые она пересекала, когда бежала домой. Научного подтверждения подобного умения лошадей и кошек ориентироваться в незнакомой местности пока еще не получено. Когда аналогичные опыты проделывались с животными, вся предыдущая жизнь которых была точно известна, результаты иногда получались совершенно озадачивающие.
Вот пчелам, например, в течение всей их жизни в улье приходится исполнять поочередно разные обязанности. На младших пчелках многие недели подряд лежит обязанность возиться с личинками, ухаживать за ними, кормить их, и только под конец своей жизни они становятся «добытчицами», то есть вылетают на сбор пыльцы и нектара. Если молодую пчелу, еще никогда не летавшую на добычу, вынуть из улья и выпустить на некотором отдалении от него, она не найдет дороги обратно, потому что, вылетая первый раз на добычу, пчела сначала продолжительное время летает перед ульем взад и вперед, внимательно его разглядывая. Глаза ее при этом все время направлены в сторону улья. Таким способом в ее мозгу четко запечатлевается внешний вид и местоположение улья. Что это именно так, было уже доказано целым рядом экспериментов. Так что никакое ни «чувство направления», ни исходящие якобы от улья невидимые излучения не приводят пчелу обратно к родному улью, а только хорошая ориентировка в окружающей местности.
Очень красивым опытом удалось также установить, что ориентироваться пчелам помогает и положение солнца. Если пчелу, только что насосавшуюся нектара на цветке, накрыть черным колпаком и продержать в течение двух часов в полной темноте, то она, будучи выпущенной на волю, полетит не прямым ходом к своему улью, а под углом к нужному направлению; угол этот будет точно соответствовать смещению солнца за эти два часа, проведенные пчелой в темноте. Пролетев приблизительно двести метров в неправильном направлении, пчела явно замечает свою ошибку. Она начинает беспорядочно метаться из стороны в сторону в поисках знакомых ей примет и в конце концов натыкается на окружающую улей местность, а потом уже находит и сам улей.
Зуек-галстучник, широко распространенная птица песчаных пляжей, заботливо закапывает свои яйца в песок, когда улетает на кормежку. Никакой человеческий глаз не в состоянии различить среди однообразия песчаной равнины место, куда закопаны яйца зуйка. И тем не менее птица находит его совершенно безошибочно. Объяснение этому тоже искали в каком-то не изученном пока «чувстве направления» или таинственной беспроволочной связи между гнездом и мозгом птицы. Но когда однажды, во время отсутствия зуйка, подняли приметный красный камешек, лежащий в двадцати сантиметрах от гнезда, и отнесли в сторону на несколько метров, птица, вернувшись, начала шарить совершенно не в том месте, а именно в двадцати сантиметрах от этого камня! Значит, и зуек-галстучник ориентируется на местности лишь по определенным приметам.
А каким образом африканские пингвины, выращивающие свое потомство на острове, недалеко от Кейптауна, возле южной оконечности Африки, находят свой путь в бескрайних просторах океана? Ведь иногда на этих птиц можно наткнуться в открытом море, в заливе Мадагаскара, отдаленном от этого островка на целых три тысячи шестьсот километров, а то и совсем в другом направлении, недалеко от Южного полярного круга, в четырех тысячах восьмистах километрах от места их гнездовий. А это как-никак равно расстоянию от Гибралтара до Архангельска! И нам, людям, для которых водная стихия представляется лишь бесконечной и бескрайней пустыней, без каких-либо опознавательных знаков, трудно представить себе, как миллионы пингвинов из года в год могут безошибочно находить в ней свой крохотный островок, даже если они на нем родились и выросли. Может быть, они все же обладают каким-то врожденным чувством направления? Во всяком случае, подобное решение этой загадки так и напрашивается само собой. Однако в научных исследованиях всегда следует держаться правила: сначала исключить возможность более простых, прозаических объяснений какой-либо загадки в поведении животных, а уже потом…
Так, например, удалось выяснить за последние годы, что многие животные способны ориентироваться по солнцу и даже более того – по звездам. Свежевылупившиеся черепашки находят дорогу к морю по его голубому отражению на небе.
Орнитолог Тинеманн проделывал следующие опыты с молодыми аистами, выращенными без родителей. Этих птиц отпускали на волю значительно позже, чем взрослые аисты улетали на юг. И, как это ни странно, молодняк без всякой указки со стороны старых, опытных птиц безошибочно направлялся по правильному, обычному пути пролета аистов! И не правда ли, удивительно, что аисты, возвращающиеся аж с Верхнего Нила, точно находят свое старое гнездо на крыше учительского сарая в каком-нибудь затерянном местечке вроде Швестервитца? А то, что другие птицы из года в год возвращаются к месту своего гнездовья под облюбованным ими кустом, хотя этот куст ничем абсолютно не отличается от тысячи других таких же кустов? Тут уж им не может помочь никакое врожденное «влечение». В подобной ситуации им приходится ориентироваться по прошлогодним воспоминаниям после того, как перелетный инстинкт приведет их назад, в знакомую местность.
И вообще я должен сказать, что о способе ориентации у перелетных птиц можно предполагать все, что угодно, но при этом ясно одно: этот вопрос не выяснен до конца. Вот посудите сами. Взрослых горихвосток, отловленных весной, непосредственно после их возвращения с юга, отправили по железной дороге на четыреста восемьдесят километров к северу. Там их отпустили. И что же? Через некоторое время все они заявились назад, в свой старый сад, несмотря на то что лететь им пришлось в направлении совершенно противоположном тому, куда их должна была вести «врожденная тяга» к перелетам. Орнитологи не раз проделывали подобные опыты и с другими птицами: отлавливали их, отсылали за сотни километров в разные стороны света и наблюдали, как они спустя некоторое время снова возвращались в свои старые, привычные места обитания. Похоже, что они все же обладают необъяснимым «шестым чувством», «чувством направления» или «тяги к дому» – как хотите, так и называйте.
И тем не менее в самые последние годы возникли известные сомнения по этому вопросу. Один исследователь вынимал птенцов аиста из гнезда и содержал их почти целый год в той же местности, но в просторной вольере. Аисты вырастали и сами благополучно приступали к размножению. Этих птиц, которым, естественно, никогда в жизни еще не приходилось обозревать свою родину с высоты птичьего полета, отвозили на несколько сот километров в сторону и там выпускали. Ни один из аистов не вернулся домой! Те из них, которых удалось поймать, обосновались где-то поблизости от места выпуска. Может быть, за время содержания в вольере эти птицы потеряли всякую способность к полету, в особенности к длительному, и потому были не в силах следовать своему «шестому чувству»?
Чтобы проверить это, тот же исследователь отловил большое количество старых скворцов, продержал их год в той же вольере, что и аистов, а затем отправил их туда же, куда отправлял тех. И что же? Более половины старых скворцов можно было спустя некоторое время увидеть на их родине. Следовательно, птицы, в памяти которых запечатлелся вид их родины сверху, те нашли дорогу домой. И здесь закрадывается сомнение в том, что птицы, столь удивительным образом находившие дорогу назад, руководствовались при этом особым «чувством дома», таящимся у них в груди. Скорее всего, они, подобно почтовым голубям, совершали свои поисковые круги, пока не натыкались на знакомую местность.
У Свена Гедина был необыкновенно преданный четвероногий друг – большая лохматая собака Таккар, проделавшая вместе с ним все долгое путешествие по Тибету. Когда исследователь наконец спустился из суровой горной страны в теплые, солнечные долины Индии, верное животное внезапно исчезло. Как впоследствии сообщали миссионеры из Поо, собака самостоятельно проделала весь долгий, нескончаемый путь назад, в Тибет, и в один прекрасный день вновь лежала на своем привычном месте перед воротами станции. Но эта собака ведь тоже уже проделала однажды этот путь пешком.
Более удивителен случай, происшедший в Англии в 1927 году. Там свору гончих продали из Камберленда в Суссекс, причем отвезли туда на поезде. Через несколько дней вся свора в полном составе заявилась к старому хозяину. Расстояние по прямой составляло четыреста пятьдесят километров, а бежали ведь собаки отнюдь не по прямой! Другую свору охотничьих собак, прочно запертую в транспортные клетки, переправили через добрую половину Англии на юг. Телеграмма с места назначения подтвердила их благополучное прибытие, а вторая, высланная на следующий день, сообщала, что собаки вырвались из загона и бесследно исчезли. Уже на третий день все пять собак появились в своем старом питомнике, изможденные и изголодавшиеся – кожа до кости! У некоторых подушечки лап оказались стертыми, а одна из сук вскоре умерла.
Оригинальные научные опыты по проверке «чувства дома» у собак проводил и Бастиан Шмид. Он сажал кобеля Макселя в корзину и отправлял его на грузовике, петлявшем разными окольными путями, в незнакомую псу местность. Пугливо и недоверчиво озираясь, покидала собака корзину. Но затем она поднимала голову, и взгляд ее скользил по небосклону – туда-сюда, а затем он стал все чаще задерживаться в том направлении, где находилась «родина» собаки. Казалось, что в ней включился какой-то никому не известный механизм. На обступивших ее чужих людей, равно как и на лай соседних дворовых собак, она не обращала ни малейшего внимания. Невольно напрашивалось сравнение с диким животным, ориентирующимся в незнакомых природных условиях – так это выглядело. Пес сначала беспорядочно кидался в разные стороны, возвращался назад, вновь отбегал и наконец спустя полчаса после выпуска устремился в правильном направлении, ведущем к его незримому дому. Он бежал весьма целенаправленно, но старался огибать встречающиеся на его пути рощи и держался подальше от всяческих средств транспорта. Когда это представлялось возможным, он старался обходить стороной и деревни. Добравшись до ближайшего к его родному городку предместья и выбежав на знакомое шоссе, пес галопом помчался вперед, высоко задрав от радости хвост.
Первый раз ему потребовалось час и тридцать восемь минут для того, чтобы добраться до дому, при повторном опыте – только сорок три минуты.
Так же и сука, выпущенная в совершенно незнакомом ей месте города Мюнхена, за действиями которой наблюдало несколько велосипедистов, нашла дорогу домой, составлявшую восемь с половиной километров, за девяносто три минуты, при повторном опыте – за тридцать семь минут.
Следовательно, животные обладают врожденным умением ориентироваться на местности, которое помогает всем особям одного и того же вида добираться до совершенно определенных местностей. По всей вероятности, существуют еще и сверх того какие-то более узкие, специализированные механизмы, позволяющие отдельным животным (как в случае с кобелем Макселем) находить дорогу к своему дому в маленьком городке.
Заинтересовавшись этим вопросом, я ставил подобные же эксперименты с лошадьми и описал их результаты в своей книге «Мы вовсе не такие». Я работал тогда с лошадьми, знавшими только свою конюшню и выгон, в отличие от обычных верховых и тягловых лошадей, знающих, как правило, все дорожки и стежки по всей окрестности. И мои лошади не были в состоянии найти дорогу к своей конюшне.

Глава двадцать первая
Кто смышленней: волк или собака?

Между прочим, в моем доме жил не один только волк Чингис. Уж не знаю, почему так складывалось – то ли киношники вечно ко мне приставали, то ли сам великий бог Маниту собственной персоной (известный покровитель волков, любивший принять волчье обличье и шастать по лесам) сыграл со мной такую шутку, но за те годы, что мне довелось прожить на свете, у меня перебывало уже четыре волка; некоторые жили по многу лет, а кое-кто живет и теперь.
Жить вместе с волком – это, конечно, не просто. Это значит на часок пораньше вскакивать с постели, размельчать лошадиные потроха, разрубать здоровенные кости, выметать и поливать клетки, играть в «салочки», гладить и рычать – словом, прежде чем приступить к своей служебной деятельности солидного делового человека, приходится каждый день поиграть в циркового дрессировщика или служителя зоопарка. Но потом уже, в течение всего рабочего дня, ведешь себя абсолютно степенно, и ничто не напоминает о твоей двойной жизни! Разве что какая-нибудь собака примется с особым интересом обнюхивать твою штанину…
Но любитель животных, содержащий у себя дома (все равно с какой целью) зверей, никогда не должен ограничиваться лишь получением удовольствия от общения с ними. Ведь если мы сами для себя загадка в этом мире, то еще загадочнее для нас животные. Поэтому все, что нам удастся узнать о них – что думают и чувствуют эти наши братья меньшие, – поможет пролить хоть какой-то свет в кромешной тьме нашего раннего детства и детства всего человеческого рода вообще.
Вот я экспериментировал всегда со своим волком Чингисом, и мне даже удалось установить с ним новый научный рекорд «продолжительности памяти»: волк (без помощи обоняния) находил на другой день зарытое им самим накануне мясо. Но все же его волчья память оказалась короче памяти двух собак: те запоминали на полчаса, даже на целый час, под которой из трех мисок я прячу мясо, Чингис же путал миски уже спустя пятнадцать минут.
Значит, волки глупее своих потомков – собак? Становятся ли животные сообразительнее от одомашнивания? А что, если бы человеческий младенец из каменного века каким-то чудом очутился в современной детской коляске, а потом его стали бы в гимназии пичкать латынью, французским, алгеброй и естествознанием – что бы тогда выяснилось? Оказался бы он глупее своих цивилизованных собратьев? Ведь хорошая память – это отнюдь еще не доказательство ума. У человека, легко запоминающего телефонные номера всех своих знакомых, включая приходящую уборщицу, и надолго сохраняющего их в своей не слишком-то загруженной голове, может тем не менее оказаться гораздо меньше смекалки, чем у каждого из нас. Поэтому давайте попробуем подойти к конкурсу на большую смекалку – назовем его «Волк против собаки» – с другой меркой. Пока что счет 0: 1. А теперь посмотрим, кто лучше и быстрее уловит взаимосвязь между вещами и быстрее сориентируется в обстановке.
Я привожу Инку, красивую темную матерую волчицу родом с Аляски, и запираю ее в клетку, стоящую в моем саду. Инка – животное противоречивое: то она приветлива и любезна, а то вдруг набросится на кого-нибудь и хочет его во что бы то ни стало разорвать на части. Меня, правда, она полюбила со второй нашей встречи и, по-видимому, навсегда. Мы, когда встречаемся, приветствуем друг друга обычно очень нежно.
Итак, я запираю темпераментную Инку в клетку, а сам беру шнур, привязываю один его конец снаружи к прутьям клетки, а другой оттягиваю подальше и прикрепляю к нему кусок мяса. Интересно, смекнет ли она, что к чему, и как поступит в такой ситуации? Догадается ли потянуть за шнур, чтобы втащить мясо в клетку? «Что за вопрос!» – воскликнет любой из вас. Но, помилуйте, бывали уже случаи, когда собаки умирали с голоду, но так и не могли додуматься до, казалось бы, такого простого решения подобной задачи.
Но только не Инка! К ней это никак не относится. Я еще завязываю узел, а она уже нетерпеливо скребет лапой, просунув ее меж прутьев клетки; потом она внезапно хватает шнур зубами, подтягивает «добычу» к самой решетке, а затем уже лапой подгребает ее к себе, вовнутрь. Спустя тридцать секунд после начала опыта – хап! И мяса как не бывало.
Пока я прилаживал к клетке пустой шнур, волчица не удостаивала его даже взгляда. Следовательно, она не из озорства и желания поиграть со мной затягивала его в клетку – нет: ее интересовало исключительно только мясо, привязанное на другом конце. Все снова и снова затягивает она в клетку следующие приманки, которые я привязываю к шнуру. Но стоит мне захотеть подразнить ее и предложить ей пустой шнур, как она тут же презрительно отворачивается.
Теперь опыт усложняется. Вместо шнура в клетку всовываются две деревянные планки: одна – пустая, а на наружном конце другой заманчиво нанизан на гвоздь аппетитный кусок мяса. Не раздумывая Инка хватает зубами нужную планку, дергает и тянет за нее и добирается до мяса, несмотря на то что планка то и дело застревает и заклинивается меж прутьев решетки. Не буду долго распространяться на эту тему и скажу коротко: из тридцати четырех опытов Инка в двадцати двух случаях хваталась сразу же за нужную планку. А то, что она иногда обмишуривалась и тянула за пустую – ну, так это же надо знать Инку! С таким бурным темпераментом, суматошным характером это вовсе не удивительно. Она рычит и ругается, и вообще никто, кроме меня, не имеет права вытащить пустые планки назад из клетки. А если кто и осмелится, то начинается бешеное состязание – кто перетянет, и человеку редко удается выйти из него победителем. Мы еще только нацепляем мясо на гвоздь, а Инка, вертясь возле самой решетки, уже всеми силами старается вырвать планку у нас из рук. Люди с таким нетерпеливым характером наверняка бы тоже ошибались в выборе нужной планки. Но тем не менее правильные решения явно преобладают над неверными: опыты показали, что волчица примерно в девяноста пяти процентах случаев явно улавливает ситуацию и действует весьма целенаправленно.
А вот как поступит Катя? Моя стройная, грациозная волчица Катя, которой разрешается лежать у меня в комнате, которая, словно воспитанная барышня, едет рядом со мной в трамвае, Катя, которая по отношению к людям, в особенности к детям, – нежный ангелочек, а к собакам и другим волкам – сущий дьявол. Как поступит она? Вот уже три четверти года как она у нас в доме, но держит себя со мной все еще так пугливо и подобострастно, что можно подумать, что воспитывали ее с помощью побоев…
Катя поначалу не обращает ни малейшего внимания на мои планки с приманкой, несмотря на то что я позаботился о том, чтобы она была голодна и чтобы аппетит у нее был по-настоящему «волчий». Только когда я отхожу от клетки метров на двадцать, она начинает «работать». Иной раз мне приходится даже прятаться в укрытие или вовсе уходить домой и смотреть через полевой бинокль в окно. Ни разу Катя не ухватилась за планку зубами, как это делали все другие волки. Она всегда роющими движениями передних лап затягивала ее к себе в клетку. Из пятидесяти четырех опытов Катя в тридцати четырех случаях избирала планку с наживкой. Из трех моих волков она оказалась самой внимательной. Как раз от этого робкого животного я меньше всего ожидал таких результатов. Это еще одно доказательство того, как легко можно ошибиться в оценке того или иного животного, руководствуясь лишь степенью его доверчивости или бойкости.
Липе же, этот трехлетний самец-производитель из Лейпцигского зоопарка, с его чудесными янтарными глазами и мощным лохматым черепом волка-вурдалака, а на самом деле с золотым сердцем добродушного старого морского котика, тот из сорока восьми проб в тридцати случаях делает правильный выбор, а в восемнадцати ошибается. «Работает» он как лапами, так и зубами. Случалось и так, что он стоял передними лапами на планке, а зубами тщетно старался оторвать ее от земли и втащить в клетку. Со стороны это выглядело предельно глупо. Но я не смеялся, потому что вовремя припомнил случай, как и сам однажды старался поднять ветку, на которую наступил ногой.
А теперь на очереди Фурба, ласковая и подхалимистая собачья «дамочка». И что же оказывается? Она побеждает всех моих красивых волков. Сначала Фурба делает вид, что даже не замечает всех моих приготовлений, несмотря на то что целый день перед этим постилась. Даже в тех случаях, когда разгрузочная диета продлевается на более длительный срок, она все равно садится с самым безразличным видом в угол клетки, и мне приходится разными уловками и уговорами ее подбадривать. Но начинает она всегда неизменно с того, что умильно «служит», исполняет испытанные «танцы» на задних лапах, с помощью которых привыкла выклянчивать подачки у гостей за столом, или садится и, сложив передние лапы вместе, энергично ими машет, что означает: «Дайте, дайте же, пожалуйста, собачке кусочек!» Но я неумолим и не обращаю внимания на ее ужимки. Я даже поворачиваюсь и ухожу. И смотрите-ка, вдруг выясняется, что Фурба прекрасно знает, как это надо делать! Она принимается быстро рыть передними лапами и затаскивает нужную планку в клетку. Работает она только лапами, зубы в ход не пускает, совсем как Катя.
А теперь пусть Вальдман, этот важный и степенный песик, который часто приходит к нам в гости, покажет, на что он способен. Вальдман – такса, причем длинношерстная. То, что память у него лучше волчьей, он уже доказал во время прежних своих посещений. А вот как с «сообразиловкой»?
Но на сей раз Вальдман оскорблен. Как же я смею запирать его в клетку? Да еще такую, в которой так отвратительно пахнет волком! И невзирая на урчание голодного желудка, он горестно усаживается в угол, и никакие просьбы, никакая ругань не способны пробить его толстокожее упрямство таксы: нет, не просите, ничего мне от вас не нужно! На приманку он даже не смотрит. Он ее просто не видит! Но когда я отпираю дверцу, он спокойненько обегает вокруг клетки, бросается прямехонько к куску мяса, хватает его зубами и горделиво трусит с ним к дому: и не подумайте даже, что я стану есть его в вашей мерзкой клетке! Вот так.
Ну да. Мы ведь и без тебя, Вальдман, знаем, что этот раунд в конкурсе «Волчья смекалка против собачьей» волки давно проиграли. Недаром на одно неправильное решение у волков приходится 1,81 правильных, а у собак – 2,13.