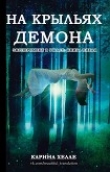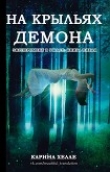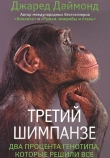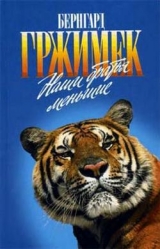
Текст книги "Братья наши меньшие [Мы вовсе не такие]"
Автор книги: Бернхард Гржимек
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 35 страниц)
Глава шестая
Лошадиный дантист

Прежде чем перейти к рассказу о воробьях и слонах, надо начать, пожалуй, с наших собственных зубов, заглянуть, что называется, к себе в рот. Когда зубной врач вырвет наконец предмет ваших продолжительных мучений и страданий, то, рассмотрев его поближе, вы сможете убедиться, что ваш дырявый зуб состоит из двух различных слоев: наружной, очень твердой оболочки – эмали и гораздо менее твердой внутренней массы – дентина. И если эмалевое покрытие кое-как устояло против порчи (кариеса), то вот дентин разрушен до основания.
Но тут я должен упомянуть, что в расчеты природы вовсе не входило, чтобы зубной врач пломбировал человеку зубы или вырывал их у него из челюсти. Когда один исследователь спросил однажды у старого африканца племени балунда, в каком возрасте у них обычно начинают выпадать зубы, тот ответил, что они давно уже все выпали (имея в виду молочные), а те, что выросли после, уже до самой смерти. У некоторых негритянских племен (страшно даже подумать!) принято затачивать напильником зубы. У пожилых людей такие сточенные зубы от употребления бывают «съедены» почти до самых десен. У заточенного зуба наружный слой – эмаль, как более прочная, держится дольше чем внутренний – дентин. Поэтому у подточенных зубов получается острый, зазубренный край, состоящий из крепкой стекловидной эмали. Такие зубы очень остры.
Ну вот. А среди животных есть такие, которым подобные острые, зазубренные края зубов совершенно необходимы для того, чтобы нормально питаться. Вот, например, лошади. Им ведь приходится перемалывать своими зубами, словно жерновами, сухую твердую массу травы или сена и долго, старательно ее жевать. И в то время как у нас, равно как и у собак, кошек и хищников, жевательная поверхность зубов, как правило, находится постоянно под гладким эмалевым покрытием, то у лошадей и вообще жвачных все совсем иначе. У них зубы постоянно стачиваются друг о друга. Чтобы на таком лошадином зубе было как можно больше острых режущих зазубрин, наружное его покрытие образовывает много складок и вмятин. От этого жевательная поверхность зуба делается ребристой и шершавой, словно рашпиль. Все, что попадает меж таких зубов, перемалывается в порошок, даже если это старая, пересохшая солома!
Когда таксу Тимошку приводят к ветеринару с зубной болью, то с ним там поступают так же, как с нами самими у зубного врача, то есть его больной зуб можно либо удалить, либо запломбировать. А вот с жеребцом Вихрем это дело обстоит совсем-совсем иначе. Во-первых, не так-то просто разглядеть через его относительно небольшое ротовое отверстие сидящие далеко в глубине коренные зубы. Я как ветеринар во время таких осмотров полагаюсь на свои пальцы и действую на ощупь: залезаю рукой глубоко, буквально по локоть, в лошадиный рот и провожу пальцами сначала по нижней, а потом по верхней челюсти. Должен заметить, что это непросто и небезопасно. Лошадиную голову во время таких манипуляций должны держать по крайней мере два помощника. Если же жеребец Вихрь, которому такое беспардонное обшаривание рта, безусловно, не по вкусу, внезапно напряжет свои сильные шейные мускулы и рванет головой кверху, то он может шутя сломать мне руку. Помощники в таких случаях должны железной хваткой вцепиться в уши лошади и в недоуздок и не отпускать их даже в том случае, если лошадь оторвет их от земли.
Вздумай Вихрь сжать челюсти – от моей руки мало бы что осталось. Лошадиные челюсти сжимаются с гораздо большей силой, чем львиные или тигриные, потому что лошадям ведь приходится свою пищу перетирать, в то время как хищники ее только разрывают, а это происходит в основном за счет шейных мускулов. Поэтому я вставляю в рот животного специальную распорку, не позволяющую сжать челюсти.
Итак, мои пальцы скользят по лошадиным зубам. Я чувствую, что на верхних и нижних зубах Вихря образовались острые, как лезвия, края, о которые он уже не раз повреждал себе язык. Дело в том, что лошадиные зубы в отличие от наших растут в течение всей жизни. По мере стачивания они вновь выдвигаются из десен ровно настолько, насколько сточились. Таким образом, зубы жвачного всегда остаются одинаковой длины. Это весьма практичное приспособление, которому мы можем только позавидовать. С другой стороны, оно имеет и явные недостатки: если лошадь начинает жевать неправильно из-за больного зуба, например, то зубы стачиваются неравномерно и на них образуются острые зубцы, превращающие пережевывание пищи в сплошное мучение. Так что я вооружаюсь большим никелированным полукруглым рашпилем, накладываю его на зубной ряд и начинаю стачивать их поверхность с сильным нажимом. Вихрю это явно не нравится, но что делать! Я думаю, что сверление бормашиной у нас во рту гораздо хуже! Нужно лишь внимательно следить за тем, чтобы не поранить при этом десны (ведь лошадь может в любой момент дернуть головой), а это вызывает обычно сильное кровотечение, которое там, глубоко во рту, бывает трудно остановить.
Я снова ощупываю челюсть: острые зубцы исчезли. При этом мне удается выяснить, почему Вихрь последнее время начал неправильно жевать. В одном зубе я обнаруживаю дыру. Изъятые оттуда остатки пищи издают специфический гнилостный запах. Значит, зуб надо удалять.
Удаление зуба у нас проще, чем у лошади. У этих жвачных животных каждый зуб накрепко скреплен с двумя соседними, он почти срастается с ними, и поэтому вырвать его бывает нелегко. Ветеринару в таких случаях обычно приходится усыплять своего пациента, чтобы избавить его от излишних мучений, а себе облегчить условия работы. Усыпляют лошадей совсем иначе, чем человека, а также большинство домашних животных, и другими наркотическими средствами, а именно: когда лошадь захочет пить, ей в поилку подливают хлоралгидрат. Иногда же предпочитают ввести им усыпляющее с помощью шприца прямо в вену на шее, следовательно, непосредственно в кровь. При этом я всегда строго инструктирую своих помощников, что надо делать, чтобы Вихрь не поранил себя, когда, полуоглушенный, будет валиться на подстилку. Будучи неправильно стреноженным, он может устроить себе какой-нибудь перелом, так что надо проявлять величайшую осторожность. Стреноживать, однако, лошадь необходимо, потому что непроизвольными движениями во время сна она может опасно ранить врача или его помощников.
Сначала мы пробуем вытащить больной зуб обычным способом – через рот. Для этого мы берем щипцы с длинными рукоятками, служащими хорошим рычагом. Кроме того, мы накладываем на соседний близлежащий зуб треугольный металлический клин тоже с рукояткой, которую крепко держит в надлежащем положении один из помощников. Поверх этого клина кладутся щипцы: эффект от этого удваивается. Когда мы снаружи изо всей силы надавливаем на ручки, щипцы должны тянуть зуб кверху. Головка щипцов крепко-накрепко завинчивается, чтобы зуб не мог из нее выскользнуть.
Но несмотря на все наши усилия, зуб не шевелится. Он намертво заклинен, точно кирпич каменного свода между двумя соседними кирпичами. Тогда нам приходится прибегнуть к другому, не так уж редко применяемому по отношению к лошадям методу – выталкивать зуб со стороны надкостницы. Делается это так: сначала сбривают шерсть с соответствующего кусочка щеки, делают в ней надрез, сквозь который, отодвинув в сторону десну, на нужном месте просверливают тонкую челюстную кость и через образовавшееся круглое отверстие нащупывают корень упрямого зуба. В это отверстие вставляют стамескоподобный инструмент и, ударяя по нему молотком, выгоняют зуб наружу.
Наконец-то он у нас в руках, этот зловредный зубище длиной со средний палец руки, но вдвое толще. В разрезе эта желтая штуковина представляет собой прямоугольник.
Но поскольку лошадиные зубы имеют обыкновение постоянно отрастать, то теперь возникает другая трудность, с которой мы ни у человека, ни у обезьяны, ни у собак, ни у многих других животных не сталкиваемся. У противоположного зуба теперь будет отсутствовать его партнер, о который он прежде постоянно стачивался и благодаря которому во время пережевывания пищи непрерывно вдавливался в челюсть. Теперь зуб в нижней челюсти противостоит пустому месту в верхней: он будет беспрепятственно расти в этом освободившемся пространстве и становиться все длиннее.
Мы начинаем подумывать о том, не вырвать ли заодно и этот, ставший ненужным, но абсолютно здоровый зуб?
Да, это совсем непросто, когда у жеребца Вихря разбаливаются зубы! Но у него, слава Богу, в каждой половине челюсти по шесть коренных зубов, поэтому без одного из них он может спокойно обойтись. А вот для слона подобная потеря зуба граничила бы, наверное, с катастрофой, потому что у него и в верхней и в нижней челюсти в каждой стороне только по одному коренному зубу. По форме он напоминает лошадиный, с той только разницей, что размером он с добрую буханку хлеба. Когда какая-нибудь дамская сумочка попадает меж двух таких жерновов (а такое иногда случается в зоопарках), то служитель через пару дней в состоянии выдать ее огорченной владелице разве что искореженный кусочек металла, оставшийся от пудреницы…
А теперь мы наконец добрались и до воробьев, о которых я упоминал вначале. Ну, так вот. Когда такой гигантский зуб у слона выпадает, потому что сточился или заболел, то первыми это замечают обычно воробьи, потому что тогда в огромных слоновьих «шарах» – этом гипертрофированном подобии конского навоза – внезапно появляется масса неразмолотых и непереваренных овсяных зерен. Настоящая благодать для воробьев! Поистине нет худа без добра, и один строит свое счастье на несчастье другого. Недаром же поется: «В жизни всегда это так происходит – кто-то теряет, а кто-то находит!»
Однако слону голодная смерть из-за потери зуба не угрожает. И хотя у лошади в каждой половине челюсти по шесть зубов, тем не менее когда они у старой клячи полностью выдвинулись из надкостницы и выпали, то больше уж ничего не вырастет. А вот у слона хотя только по одному зубу с каждой стороны, но тем не менее они у него пять раз в жизни меняются, то есть по мере стачивания, через каждые десять – пятнадцать лет, у слона вместо выпавшего вырастает новый зуб. Таким образом, девяностолетний слон тоже может похвастаться шестью коренными зубами, только растут они у него не рядом друг с другом, а один вслед за другим…
Сочувствие к другому возникает обычно сильнее всего в тех случаях, когда тебе самому плохо. Так каждому зубному врачу следовало бы время от времени посидеть самому в своем «кресле пыток» и испробовать, каково это, когда у тебя в больном зубе сверлят и ковыряют или наматывают на тонкую проволочку и вытаскивают оттуда нерв…
Так один молодой практикующий ветеринар по фамилии Бекер, сидя с открытым ртом в зубоврачебном кресле в ожидании пломбы, по вполне понятным причинам задумался над душеспасительным вопросом: что могут ощущать его лошадиные пациенты в аналогичных обстоятельствах?
Потому что и у лошадей бывает зубная боль. Да еще какая! Правда, нашим бравым лошадкам не приходится страдать от кариеса зубов, который в основном и обеспечивает постоянную работу и заработок стоматологам…
И не то чтобы лошадиные зубы не знали кариеса. Просто он у них не успевает развиться и разрушить здоровый дентин: как только гнильца появилась на жевательной поверхности зуба, она просто-напросто стирается вместе со всем верхним слоем. Редко кариесу у лошади удается проникнуть раньше в глубь зуба, чем он бывает сточен. Ведь начинается такой кариес обычно только с самых незначительных маленьких дырочек. Из ста лошадей только у одной встречаются гнилостные процессы в зубах. Так что это весьма полезное приспособление, когда у кого-нибудь зубы сверху стачиваются, а снизу вновь отрастают.
Но есть у этого приспособления и свои недостатки. Ведь только у самых старательных жевалыциков, которые энергично двигают челюстями взад-вперед и слева-направо, поверхность зуба стачивается равномерно. У диких жвачных – зебр, дикой лошади или кулана – никогда не обнаружишь неравномерно сточенных зубов. Что же касается наших домашних лошадей, то им ведь уже не приходится жевать ни чертополоха, ни полузасохшего тростника, с тем чтобы превратить его в съедобную кашицу. Им насыпают сено и солому мелкорубленными в кормушку да еще сдабривают отборным питательным овсом. Поэтому они стали лениво жевать, их нижняя челюсть уже не так энергично движется взад и вперед, влево и вправо. Таким образом, уже не вся жевательная поверхность зуба равномерно трется о свою визави, а только часть ее; самая наружная и внутренняя части вовсе не приходят ни в какое соприкосновение ни с чем. Следовательно, они и не стираются. А поскольку снизу зуб все время отрастает, то вскоре появляются нежелательные острые кромки и зубцы, травмирующие десну, язык или защечные полости. Но когда дело доходит до этого, то лошади уже и жизнь не мила, и овес не в радость!
«Если бы лошади умели кричать от зубной боли, многим фермерам по ночам не удавалось бы уснуть», – утверждает доктор Бекер. Из десяти тысяч лошадиных челюстей, которые ему пришлось осматривать за время своей практики, 80 процентов были дефектными. У большинства лошадей наблюдались именно такие вот неравномерно сточенные зубы с острыми, словно осколки стекла, краями. Можно только представить себе мучения, которые претерпевают такие лошади во время еды. Это все равно что набрать в рот осколки от разбитой пивной бутылки и стараться осторожно разжевать меж ними свой завтрак!
Но дело не только в этом. Вся эта история с лошадиными зубами имеет еще и большое хозяйственное значение. Когда лошадь испытывает зубную боль, она неохотно принимает пищу, порой вообще отказывается от нее и ест только в минуты самого отчаянного голода. От этого она, конечно, тощает и теряет силы. Притом она еще и плохо размельчает ее, а следовательно, и не переваривает пищу. Многие зерна овса выходят из кишечника в нетронутом, первозданном виде, к вящей радости находчивых воробьев. Когда таким лошадям приводят челюсть в порядок, то их дневной рацион спокойно можно сократить на один или два фунта овса, и они все равно будут хорошо поправляться. А пока что на сегодняшний день площадь, равная по размерам всей области Саксония-Ангальт, засевается тем самым овсом, который можно было бы сэкономить, если бы всем нашим лошадям регулярно осматривали и подправляли зубы. Так, во всяком случае, утверждает, согласно своим подсчетам, доктор Бекер.
Однако лечение лошадиных зубов было до сих пор делом не слишком-то приятным как для лошади, так и для ветеринара. Правда, отдельные острые зубцы и каемки можно было «откусывать» щипцами. Но для того чтобы «перекусить» лошадиный зуб, нужна недюжинная сила; для этого необходимо иметь еще и специальные щипцы с сильно удлиненными ручками, на которые надо давить что есть мочи. Кроме того, зачастую зуб не удается откусить ровно: та его часть, которая осталась в десне, растрескивается и раскрошивается; может он и расшататься. Мелкие зубы можно, конечно, подпилить специальным стальным напильником, но поскольку они сами твердые, как алмаз, а лошадь во время столь малоприятной процедуры не желает держать голову смирно, то такой метод тоже не находка.
«А что, если попробовать обрабатывать лошадям зубы бормашиной? Тогда ведь их с легкостью можно будет обтачивать и сглаживать, не применяя никакой особой физической силы», – так размышлял практикующий ветеринар доктор Бекер, сидя в «кресле пыток» у дантиста. Однако от его идеи до реального изготовления необходимой для этой цели аппаратуры оставалась еще дистанция огромного размера. И на пути его вставало немало сложных преград. Должно было пройти целых пятнадцать лет, тысяча и одна бессонных ночей и много напряженных рабочих дней, прежде чем идея Бекера воплотилась в жизнь. Но осуществления ее он добивался самым упорным образом – работал не покладая рук, отказываясь даже от таких заманчивых приглашений своих знакомых, как-то:
– Да будет вам возиться в мастерской! Приходите, сыграем в картишки. Неужели вам неохота посидеть за таким приятным занятием, как скат?
Поскольку ротовая полость у лошади значительно глубже, чем у нас, насадки для лошадиной бормашины должны быть гораздо длин нее обычных; так как лошадиные зубы гораздо крепче и больше наших, то и электромотор, приводящий в движение бормашину, должен быть мощнее. Изготовляемые в наше время бормашины, предназначенные для лошадей, делают восемь тысяч оборотов в минуту, что соответствует скорости 60 километров в час, с которой крутится точило, обрабатывая зуб. Приятно смотреть, как неровный зуб быстро и равномерно стачивается в течение нескольких секунд! Буры, предназначенные для людей, делают лишь две с половиной тысячи оборотов в минуту. Когда мы во время сверления зуба ощущаем боль, то это обычно объясняется тем, что бур, да и сам зуб от интенсивного трения разогреваются. Зубной врач в таком случае опрыскивает его водой, смывая при этом с него «буровую пыль», мешающую работе. Для лошадей же устроено гораздо удобнее: к насадке лошадиной бормашины припаяна тонкая трубочка, через которую во время сверления непрерывно подается вода, смывающая с зуба «буровую пыль» и обеспечивающая хорошую видимость. А поскольку зубы у лошади, как правило, вовсе не больные, дырявые, а совершенно здоровые, только слишком длинные, то само сверление не доставляет пациенту никаких особо неприятных ощущений, и практически никогда не возникает надобности вводить обезболивающее средство. Сами буровые диски изготовлены из карборундовой крошки алмазной крепости, скрепленной меж собой цементоподобной мастикой. Затупленный во время сверления верхний слой острых карборундовых осколков постепенно сменяется следующими, все вновь и вновь выступающими из стачивающейся мастики. Таким образом, диск хоть и уменьшается по мере его использования, однако остается до самого конца острым и шероховатым.
Изобретательный «лошадиный дантист» на этом не остановился. Он придумал еще, как и из чего сделать пломбы и мосты для своих пациентов. Это тоже было непросто, потому что имеющиеся зубоврачебные отливки не подходили для подобных размеров. Все нужно было переделывать, изобретать заново и конструировать.
– Я помню, мы провозились весь сочельник и все рождественские праздники, – рассказывает доктор Бекер. – Мы пробовали, мастерили; гостил у меня тогда мой покойный брат – золотых дел мастер. Как сейчас помню, было это 4 января 1933 года, когда у нас наконец получилась первая необходимая отливка. Такая вот лошадиная пломба гораздо совершеннее, чем у нас, людей. Ведь наша амальгамовая пломба – инородное тело, навечно засунутое в зуб. У лошади же пломбой заполняют кариесное отверстие лишь для того, чтобы не дать распространяться гнилостному процессу. Зуб же, постепенно отрастая, сверху стачивается, и пломба вместе с ним. Когда пломба окажется «сжеванной», то одновременно с ней исчезнет и дыра, и зуб снова стоит целехонький как ни в чем не бывало! Поэтому-то лошадиные пломбы изготовляются специально из мягкого металла – бронзы, чтобы они беспрепятственно стачивались вместе с зубом.
Изобретать новые инструменты дело отнюдь не легкое. Но, пожалуй, еще труднее поломать укоренившиеся взгляды и привычки и пробить это новшество, внедрить его в практику. В особенности если каждое такое изобретение стоит целого маленького состояния, а сам изобретатель к тому же не какой-нибудь университетский профессор, а всего лишь никому не известный ветеринарный врач из заштатного городка! Но в один прекрасный день счастье все же ему улыбнулось, и доктор Бекер стал почтенным и высокооплачиваемым профессором Берлинского университета.

Глава седьмая
Черно-белые

Не знаю почему, но я уже давно испытываю чувство симпатии к хорошеньким, забавным африканским карликовым козочкам. В один прекрасный день мой приятель обещал прислать мне такую парочку. А две недели спустя он сообщил, что уже отправил их, да еще в придачу большую красивую валлийскую козу.
С давно прошедших дней моего детства, когда я, будучи учеником четвертого класса, в Нейсе, сам растил, пас и доил красивую белую и безрогую козу, у меня сохранилась старая книжонка – «Коза, ее содержание, уход, кормление и разведение». Вот ее-то я и выгреб из дальнего угла книжного шкафа. Бог ты мой! Между ее страниц сохранилось еще несколько сухих травинок со старого гарнизонного кладбища, на котором я, будучи весьма предприимчивым малым, сумел арендовать угол для скашивания травы и сушки сена…
О, эти чудесные летние дни меж заброшенных, почти уже сравнявшихся с землей могильных холмиков, тихое перешептывание старых лип над головой, а рядом, над самым ухом, привычное хрупанье жующей белобородой козы…
Из этой полезной книженции я и вычитал, что валлийские козы «в качестве молочного скота никакого значения не имеют и используются большей частью в качестве экспонатов для зоопарка». Ничего себе новость! Интересно, что скажет на это старая фрау Вегман, живущая в моем домике, высоко в горах, куда я собираюсь поместить всех трех подаренных мне коз?
Что именно она сказала, я узнал в следующий же приезд в горы:
– Сатана это, а не коза! Крушит все налево и направо! О том, чтобы подоить ее, и речи быть не может! И вообще невозможно даже разобрать – коза это или козел?
Ну, ясно. Ведь она из зоопарка, а кому надо в зоопарке раздаивать козу? На это есть коровы и овцы.
Но красоты она была необыкновенной! Перед – густо-черный, потом по самой середке резкая граница, и вся задняя половина тела – снежно-белая. Действительно, настоящий экспонат для выставки! Глядя на нее, я невольно вспоминал ту сказку из «Тысячи и одной ночи», где в заколдованном замке сидят печальные люди, которые лишь до пояса состоят из плоти и крови, а все, что ниже, – из холодного, черного мрамора.
Эту валлийскую козу вскоре действительно пришлось отправить назад в зоопарк. Откровенно говоря, мне было неловко перед соседними крестьянами держать козу, на которую можно лишь любоваться, но не доить.
Но я не раз еще задумывался над тем, каким образом эти валлийские козы дошли до своей сумасшедшей расцветки. Родом они из Валлиса в Швейцарии, где обитают на уединенных и недоступных альпийских лугах, где молоком их практически невозможно воспользоваться. Там они наподобие серн или каменных козлов кое-как перебиваются в суровых условиях высокогорья. Считается, что это очень старая порода коз, потомки древнеримской козы, как утверждают «козьи» специалисты. Во всяком случае ни одному человеку, живущему там, наверху, в горах, в голову не придет путем кропотливой селекции выводить породу специально такой окраски: черный перед словно по линейке отделен от белой задней части. Кому это нужно?
Тут уж более ясен вопрос с голландскими черно-белыми кроликами. Они в прежние времена были обычными крупными откормочными кроликами, которых в изобилии продавали на рынках Брабанта. И хотя их шкурка и была черно-белой, тем не менее пятна на ней располагались как попало. До тех пор, пока в прошлом столетии ими не занялись любители-кролиководы. Десятками лет они трудились, подбирая нужные пары, пока не добились того, что все черное сдвинулось назад, а все белое, в виде жакета, вперед со строгой границей на «талии». Никто уже не обращал внимания на размеры этого бывшего «жаркого», и длинноухие со временем становились все меньше – не важно… Лишь бы вокруг глаза было отчетливое черное пятно, а на черных задних лапках – белые манжеты. У немецких кролиководов допускалось, чтобы черные пятна вокруг кроличьих глаз растягивались назад, к затылку, и за ушами сливались вместе. Английский же стандарт, наоборот, требовал, чтобы эти пятна разделяла четкая белая линия. Как видите, кое-что все-таки застревает в голове, если ты, учась в четвертом классе, разводил кроликов!
Так что же – эта половинчатая окраска всего лишь взбалмошная причуда? Людской каприз? Ведь в планы матери-природы такая яркая и странная одежда вряд ли входила. Каково могло быть назначение подобного, бросающегося в глаза мехового наряда? Какое место отведено ему в разнообразном гардеробе матушки-природы, где даже самая пышная и красивая шкура служит всего лишь выживанию в борьбе за существование, а вовсе не тому, чтобы радовать чей-то глаз…
Но постойте-ка, что же это такое? На картинах венецианца Джокопо де Понте, жившего с 1515 до 1592 года, мы внезапно обнаруживаем тех же самых «половинчатых» кроликов, которых наши кролиководы с таким трудом вывели в прошлом веке! По-видимому, маленькие четырехногие голландцы появились точно тем же путем, как и разные другие породы домашних животных: не в качестве чудачества изобретательного селекционера, а в результате того, что природа, перебирая время от времени запас своих моделей, бросает в борьбу за существование какую-нибудь новую наследственную «мутацию». А жестокая борьба за существование вскоре искореняет, убирает подобное ненужное новшество, например черно-белый мех для дикого кролика, поскольку он несовершенен и непрактичен для его образа жизни. Кроликовод же, найдя однажды такой голый и слепой «лотерейный билет природы» на мягкой подстилке в углу своего сарая, ради забавы и оригинальности спасет смешного «половинчатого» крольчишку от суровой выбраковки природы. Более того, он может постараться закрепить в следующем поколении этот случайный дефект и вырастить «новую породу».
Но и там, где никакой любитель-селекционер не простирает своей спасительной руки над черно-белым смешным созданием, оно тоже может иногда утвердиться и не исчезнуть с лица Земли. Я это понял, стоя перед клеткой чепрачного тапира в Берлинском зоопарке. Животное это обитает в Юго-Восточной Азии и на Суматре. По внешнему облику и образу жизни оно напоминает свинью, но имеет небольшой хобот, сближающий его со слоном. И точно так же, как у слона, в грудной клетке у тапира отсутствует плевра, то есть легкие накрепко приросли к ребрам. Но, несмотря на все это, тапир сродни не этим животным, а кому бы вы думали? Лошади! Примерно так выглядели прадедушки наших прилежных лошадок – у них тоже было по нескольку пальцев на ногах вместо копыт, и ростом они были гораздо ниже. Тапиры появились примерно в середине третичного периода, и если они сохранились в течение целых тридцати миллионов лет, претерпев столь малые изменения, в то время как большинство других тогдашних видов животных либо вымерло, либо полностью видоизменилось, эволюционировало, то это означает, что тапир прекрасно оснащен для борьбы за существование!
Так что белая «попона» на спине этого животного ему явно полезна, несмотря на то что не является необходимым атрибутом «одежды» любого тапира (американский тапир, например, одноцветен). И на самом деле, из рассказов исследователей Юго-Восточной Азии и охотников за тапирами мы узнаем, что яркая контрастная окраска издалека полностью искажает очертания этого крупного животного, она как бы разрывает его на части. Так, среди скал и в особенности при постоянной игре света и тени тапира практически невозможно различить на фоне окружающей обстановки даже тогда, когда он спокойно стоит, не прячась за укрытием. Более того, на детеныша тапира, темная шерсть которого испещрена яркими неровными полосками, вполне можно нечаянно наступить, когда он безмятежно спит под сенью лиственного полога!
Люди только во время Первой мировой войны убедились в том, что серый, так называемый «защитный» цвет отнюдь не лучшее средство и не последнее слово в искусстве камуфляжа. И уже во время Второй мировой войны пушки, газовые хранилища и военные корабли разрисовывали квадратами, кругами и различными другими фигурами желтого, зеленого, синего, серовато-синего или белого цвета. В таких случаях видно, что что-то есть, но не видно, что именно.
Разумеется, нельзя утверждать, что мы переняли такой новый способ камуфлирования у тапиров и валлийских коз, точно так же как, изобретя парашют, отнюдь не скопировали летучие семена одуванчиков, а построив самолет, не повторили способ полета птиц. Просто дело в том, что на Земле все живое вынуждено подчиняться одним и тем же законам выживания; и те, кто хочет победить в жестокой борьбе за существование, невольно приходят к аналогичным решениям, будь то жираф, прячущийся под спутанными ветвями акаций, кажущийся невидимым в игре их желтовато-коричневых теней, или… «венец творения» собственной персоной!