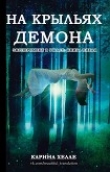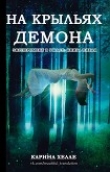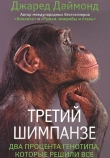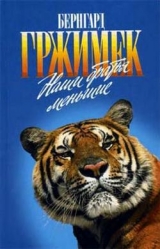
Текст книги "Братья наши меньшие [Мы вовсе не такие]"
Автор книги: Бернхард Гржимек
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 35 страниц)
В 1958 году видели самца-жирафа, который во время поединка упал в обморок и в течение двадцати минут не мог прийти в себя. В том же году близ Хейлброна, в ЮАР, группа туристов нашла в тридцати метрах от дороги неподвижно лежащего на земле взрослого жирафа. Люди решили, что он убит, и вылезли из автобуса, чтобы поближе его рассмотреть, но, к своему большому удивлению, обнаружили, что он дышит и смотрит на них широко открытыми глазами. Поскольку животное не шевелилось, мужчины набрались храбрости и решили помочь несчастному подняться на ноги. Они перекатили жирафа на живот и подогнули ему ноги, чтобы тому легче было подняться. Они и не подозревали, какой смертельной опасности себя подвергают. Работники зоопарка в аналогичных обстоятельствах повели бы себя значительно осмотрительнее. Но в данном случае жираф не оказывал ни малейшего сопротивления своим нежданным помощникам. В конце концов он самостоятельно встал на ноги и «высокомерно» посмотрел сверху вниз на людей, копошившихся где-то у его ног, щелкающих фотоаппаратами и жужжащих кинокамерами. Затем он взмахнул хвостом и спокойно побрел в лес. Время от времени он еще оборачивался и удивленно смотрел на своих спасителей.
Сами же мы в Серенгети как-то нашли мертвую самку жирафа без видимых повреждений. Было это в апреле 1963 года, и умерла она от неудачных родов.
Молодые самцы-жирафы часто устраивают и просто шуточные бои. Во Франкфуртском зоопарке это любил делать наш жираф Отто со своим сыном Туло. За неимением настоящего противника Отто часто сражался с высоко подвешенной корзинкой для корма, осыпая ее мощными ударами своей «каменной» головы.
Трудно узнать, что происходит в такой высоко посаженной массивной голове, каким отражается мир в этих больших, расположенных словно на башне глазах.
Недавно доктор Бакхауз провел во Франкфуртском зоопарке тщательные исследования органов чувств у жирафа, и кое-что ему уже удалось выяснить. Теперь, например, точно известно, что жирафы обладают цветовым зрением, во всяком случае они способны различать основные цвета: желтый, синий, зеленый и красный.
А теперь немножко подробней о «лесных жирафах» – окапи. В 1838 году в Греции, близ Марафона [14]14
Древнее селение в Аттике, северо-восточнее Афин. (Примеч. ред.)
[Закрыть], были найдены какие-то древние кости. Среди них особенно часто встречались кости неизвестного ученым животного, нареченного ими Helladotherium («греческий зверь»). Больше всего оно напоминало жирафа, хотя у вымершего вида ноги были значительно короче, да и шея не шла ни в какое сравнение с жирафьей…
Вымерло животное миллионы лет тому назад и бесследно исчезло: Helladotherium не оставил на Земле никаких потомков, никакой родни. Так, во всяком случае, думали в течение шестидесяти лет, пока…
Пока история этого загадочного, легендарного существа не начала приоткрываться снова, но теперь совсем с другого конца. Шел 1888 год. Как раз в это время Генри Стэнли, миновав центральноафриканские озера, проник в неисследованные девственные леса Конго. Он встретил там пигмеев и в своем очерке «В самой черной Африке» очень наглядно описал их образ жизни. При этом он упомянул, что в их языке есть слово, обозначающее либо «осел», либо «лошадь». Дело в том, что их, как ни странно, нисколько не удивили лошади из его каравана, более того, они стали утверждать, что похожие животные попадались в их ямы-ловушки и что они их едят.
Это в свою очередь немало удивило Генри Джонстона, назначенного несколькими годами позже губернатором соседней, пограничной с Конго, тогдашней английской колонии Уганды [15]15
С 1962 года – Республика Уганда. (Примеч. ред.)
[Закрыть]. Дело в том, что ослы и лошади – степные животные, избегающие лесов. Следовательно, в густых лесах Бельгийского Конго [16]16
С 1971 года Республика Заир. (Примеч. ред.)
[Закрыть]действительно обитает либо какой-то неизвестный доселе вид «лесной» зебры, либо другое животное, чем-то напоминающее зебру.
Генри Джонстон расспрашивал и самого Стэнли об этом загадочном чудо-животном, и любопытство его от этого разгорелось только еще сильнее.
Во время поездки в Форт-Бени англичанин хорошенько расспросил пигмеев о том сказочном, никому не ведомом животном, которое якобы живет в их лесах. И они ему рассказали, ничего не утаивая, что это за животное, как выглядит, что они называют его окапи, что передняя половина тела у него коричневатого или темно-серого оттенка, а задняя, брюхо и ноги – в белую полоску. Все это казалось неправдоподобным, однако бельгиец из Форта-Бени полностью подтвердил такое описание и даже пообещал найти шкуру этого животного, валяющуюся где-то в служебном помещении. К сожалению, выяснилось, что солдаты уже разрезали ее на ремни и патронташи. Нашлось лишь два небольших куска от этой шкуры, которые Джонстон и забрал с собой.
Прибыв домой, он направил их в Лондон, Королевскому зоологическому обществу. Было ясно, что шкура не могла принадлежать ни одному из известных науке видов зебр. Поэтому в декабре 1900 года было опубликовано об открытии нового вида крупного млекопитающего, получившего латинское название «Equus (?) joh-nstoni» – «лошадь Джонстона». Вопросительным знаком давали понять, что науке еще не ясно, относится ли вновь открытое животное действительно к роду лошадей или нет.
Сомнения эти рассеялись уже полгода спустя, притом самым неожиданным и ошеломляющим образом. В июне 1901 года в Лондон были доставлены совершенно целая шкура и два черепа этого животного: любезные бельгийцы из Форт-Бени сдержали свое обещание и прислали Генри Джонстону эти трофеи. По костям черепа безошибочно можно было определить, что животное это отнюдь не сродни ни лошади, ни ослу, но и не антилопам или рогатому скоту – словом, никому из ныне живущих на Земле животных. Но зато оно потрясающе походило на того самого Helladotherium, жившего миллионы лет тому назад в Греции…

Зоологам пришлось выделить это животное в особый род Окаріа – Окаріаjohnstoni. Именно это название и можно прочесть на табличке, висящей на вольере, в которой содержатся эти редчайшие животные у нас во Франкфуртском зоопарке.
Так что же такое окапи?
Это нечто вроде «лесного» жирафа, только с укороченными ногами и шеей, как бы доисторический предок жирафа. Несколько таких вот древних видов животных, которые в других местах давно уже были вытеснены более совершенными и «современными» видами, по-видимому, нашли свое последнее прибежище под защитой густого полога влажнотропического леса Конго. Кроме окапи, это еще конголезский павлин и нигде больше не встречающаяся большая лесная свинья.
Тот факт, что такое крупное млекопитающее причудливой формы, да к тому же так ярко раскрашенное, столь долго оставалось неизвестным зоологам, стал во всех странах мира одной из главных газетных сенсаций начала нового столетия. И когда теперь начинают утверждать, что в снегах Гималаев живет снежный человек, а в шотландском озере Лох-Несс – чудовище, то в ответ на презрительное недоверие ученых их всегда стараются уязвить тем, что ведь и о существовании окапи они еще недавно тоже ничего не подозревали…
Словом, открытие окапи вызвало большой шум. Знаменитые охотники соревновались между собой, кому удастся стать первым европейцем, добывшим это осторожное, неуловимое животное. Все ведущие музеи жаждали скорей получить скелеты и шкуры.
Герцог Адольф Фридрих Мекленбургский, в то время один из самых известных путешественников по Африке, считавшийся метким стрелком, целый год (с 1907 по 1908) пытался поймать на мушку это чудо-животное, но тщетно – у него ничего не получилось. И хотя он и привез с собой пять шкур и один скелет окапи, но все это он выменял у пигмеев. Точно так же не везло и многим другим претендентам.
Чем недоступнее и загадочнее проявлял себя окапи, тем сильней возрастало нетерпение с ним познакомиться. Американские и европейские директора зоопарков уже мечтали о том, как они станут содержать это редчайшее животное в своих зоопарках.
Долгие годы потратила экспедиция под руководством Герберта Ланга на попытки раздобыть живых окапи для Бронкского зоопарка, крупнейшего из четырех зоопарков Нью-Йорка. Сотрудник Ланга доктор Джеймс Чепэн в своем докладе Нью-Йоркскому зоологическому обществу очень убедительно объяснил, почему окапи так долго не попадались на глаза европейцам.
Дело в том, что это животное нашло свое последнее пристанище на Земле в самом недоступном и неудобном для европейцев месте. Оно обитает в узкой полосе леса протяженностью около тысячи и шириной не более двухсот двадцати километров. Кроме того, это место удалено от ближайшего побережья на добрую тысячу километров. Необозримость этих лесов действует пугающе: они тянутся на две тысячи двести километров, причем сплошным непроглядным пологом, без прогалин, через половину всего континента, от побережий Гвинеи до покрытой снегом вершины Рувензори. И несмотря на тропическую пышность такого зеленого ковра, это одна из самых малонаселенных областей на земле. Беспощадное солнце не переставая выкачивает влагу из этой зеленой губки, удушающая влажность накаленной атмосферы делает пребывание здесь невыносимым. А кроме того, по всей этой области почти ежедневно прокатываются, громыхая и круша все на своем пути, сильнейшие тропические грозы. Здесь все явления природы страшно гипертрофированы.
И действительно, бледные, изможденные, с блуждающим взглядом лица тех, кто возвращался из экспедиций в западную половину Экваториальной Африки, никак не располагали жаждущую сенсаций публику к увеселительным прогулкам по этим местам. Даже выносливые спортсмены, посещавшие самые разные районы Африки, не находили для себя ничего притягательного в этих лесах.
Так, во всяком случае, описывал эти места доктор Чепэн. Мы же много недель провели в этих лесах, и я должен честно признаться, что нам они не показались такими уж страшными, как тем двум американским искателям окапи сорок лет тому назад.
Впрочем, Лангу и его людям так и не удалось тогда достичь своей цели. Первый окапи, которого поймали живым близ реки Итури, разумеется, был детенышем. Он прожил очень недолгое время у одного бельгийского чиновника. Когда же в 1909 году Лангу посчастливилось поймать второго детеныша, тот погиб лишь из-за того, что запаса консервированного молока хватило только на четыре дня. А он не мог достаточно быстро добраться со своим маленьким пленником до ближайшего населенного пункта.
И вот ирония судьбы: вскоре после возвращения Ланга и Чепэна, после стольких лет бесплодных блужданий по непроходимым тропическим лесам, в декабре 1918 года поймали третьего детеныша окапи, которому суждено было попасть живым в зоопарк. Поймали его местные жители, когда ему было всего несколько дней от роду, близ Буты, в четырехстах километрах севернее Стэнливиля [17]17
С 1966 года город Кисангани. (Примеч. ред.)
[Закрыть]. Жена одного из правительственных чиновников выкормила найденыша консервированным и парным коровьим молоком, и 9 августа 1919 года его сдали в зоопарк Антверпена. Прожил он там, к сожалению, только пятьдесят дней.
Следующий живой окапи попал в тот же, единственный в те времена, бельгийский зоопарк девять лет спустя. Этот экземпляр прожил там пятнадцать лет; погиб он 25 октября 1943 года от недоедания, когда Бельгия находилась под немецкой оккупацией.
А те экземпляры окапи, которые поступали в зоопарк Антверпена с 1931 по 1932 год, умирали спустя четыре недели после прибытия. Аналогичная судьба постигла двух других, попавших в 1935 году в Лондон и Рим. В зоопарке Базеля окапи тоже прожил только с июня по август 1949 года.
Дольше всех продержался в неволе самец-окапи по кличке Конго. Его привезли в Нью-Йорк 2 августа 1937 года, и прожил он там семнадцать лет, после чего 2 мая 1955 года его пришлось усыпить, чтобы избавить от мучительной боли в суставах ног.
К тому времени, когда мы поехали в Конго, чтобы привезти к себе во Франкфуртский зоопарк окапи, в Европе их было всего четыре экземпляра: в Париже, Лондоне, Копенгагене и Антверпене и один в Нью-Йорке. Наш окапи должен был стать первым окапи в ФРГ и шестнадцатым за пределами Африки. Помимо посетителей Антверпенского зоопарка, окапи видела только публика в Англии (1935), США (1937), Франции (1948), Швеции и Дании (1949). В Антверпене содержалась парочка окапи: он и она.
С 1933 года эти редчайшие млекопитающие находятся под охраной закона. Отлавливать их разрешается только государственным уполномоченным, и те несколько экземпляров, которые за это время были отловлены, распределялись бельгийским правительством только между зоопарками, ведущими научную работу.
Конго [18]18
С 1960 года – Республика Конго, с 1969 года – Народная Республика Конго. (Примеч. ред.)
[Закрыть]обладает известной монополией на окапи. Область их распространения занимает площадь, равную всей Швейцарии. Однако точно определить, каково поголовье этого вида, который уже в течение тысячелетий находится на грани вымирания, не может никто. Но, во всяком случае, они встречаются все же чаще, чем этого опасались еще несколько лет назад. Об этом свидетельствует число следов, а также шкуры, то и дело появляющиеся у местных жителей. От чиновников по делам охоты в лесу Итури я узнал, что на каждый квадратный километр приходится примерно два окапи. Если это так, то в общей сложности их должно быть несколько десятков тысяч, следовательно, больше, чем, например, горилл.
Однако, несмотря на эти цифры, старания привезти живых окапи из Африки долгие годы оставались совершенно безрезультатными, хотя этих животных отлавливали так осторожно и бережно, как ни одно другое. И все-таки они в большинстве случаев не могли перенести тягот длительной транспортировки. Ведь с места поимки и приручения их нужно было сначала сотни километров везти в транспортных клетках до реки Конго, затем около трех недель их доставляли речным пароходом до Леопольдвиля [19]19
С 1966 года – город Киншаса. (Примеч. ред.)
[Закрыть], потом погружали на железнодорожный состав и довозили до портового города Матади. А там зачастую приходилось несколько дней ждать, пока их заберет какой-нибудь океанский пароход, на котором им предстояло плыть неделями, чтобы добраться до Европы или Америки.
В 1949 году с места поимки было отправлено десять окапи. Только пять прибыли живыми в Леопольдвиль, а из четырех погруженных на палубу океанского теплохода два умерло по дороге, а из двух оставшихся один погиб уже в Базеле, через два месяца после прибытия.
Отдавая себе отчет в том, что пигмеи испокон веков постоянно охотились на окапи, следовало задать себе вопрос: а стоит ли при таких трудностях доставки вообще продолжать их отлов для зоопарков? Не лучше ли оставить их там, где они есть?
Но нельзя забывать, что на родине окапи тоже многое изменилось за последнее время. Банановые плантации все глубже врезаются в девственный лес, а из горных областей местные жители переселяются в новые поселения вдоль дорог, ведущих через лес. На расстоянии всего нескольких сот километров от мест обитания окапи возникли целые районы рудных разработок, так как там обнаружили уран, золото и другие ценные металлы. Не дай Бог, если на самой родине окапи обнаружат уран! Тогда им конец.
Следовательно, окапи находятся под угрозой вытеснения хозяйственной деятельностью человека ничуть не меньше, чем другие дикие животные на Земле. Поэтому с целью их охраны и (в случае необходимости) акклиматизации в каких-либо других районах Африки необходимо заблаговременно изучить их образ жизни и потребности. А это пока удавалось проделать только в условиях неволи, в зоопарке, что для такого скрытно живущего вида, как окапи, особенно важно.
И несмотря на то что многие окапи вскоре после прибытия в зоопарк погибали, именно они помогли ученым многое понять и продвинуться вперед в вопросе изучения их биологии и образа жизни. В специализированных европейских и американских институтах погибшие экземпляры вскрывали и тщательнейшим образом изучали. При этом выяснилось, что большинство животных погибало от паразитов, которые из-за тягот длительного путешествия, перемены питания и ослабления организма брали над ними верх.
Дело в том, что области девственных лесов совершенно свободны от трипаносом, а во время длительной поездки окапи подвергаются укусам кровососущих насекомых, которые и заносят им в кровь этих паразитов. В своих тесных клетках животные все время приходят в соприкосновение с собственным пометом и заглатывают при этом яйца кишечных и печеночных паразитов; личинки гельминтов могут проникать в организм и сквозь кожные покровы.
Окапи питаются только определенными видами растений своей родины. Во время же транспортировки они вынуждены привыкать к другим сортам зеленой листвы, которую срезают для них на редких привалах. А на пароходе им приходится приспосабливаться есть сено люцерны, кукурузу, хлеб и морковь. Это неизменно нарушает привычное равновесие между животным-хозяином и паразитом.
Если бы при первых неудачных случаях привоза этих животных в Европу не была бы обнаружена подверженность окапи заражению определенным видом трипаносом, к которым почти все прочие дикие африканские животные невосприимчивы, то при переселении в другой район Африки (необходимость в котором когда-нибудь может возникнуть) их могли бы завезти в совершенно неподходящую для них в этом смысле местность. Предназначенные для акклиматизации животные тотчас бы погибли, а вид исчез с лица Земли.
До недавнего времени из Африки вывозили преимущественно самцов окапи. Поскольку животные эти на воле живут обычно в полном одиночестве и самки только во время гона громкими криками призывают к себе самцов, то отлов нескольких самцов не наносит урона всей популяции в целом.
И все же каждое такое перемещение этого редчайшего животного из родных лесов в зоопарк умеренной зоны всегда рассматривалось как рискованное предприятие. Директору зоопарка, приобретшему такого редчайшего питомца, предстояло пережить не одну бессонную ночь. Но отдельным зоопаркам все равно вновь и вновь приходилось идти на такой риск, если они серьезно относились к своей задаче – с помощью тщательных исследований найти путь к спасению редких животных от исчезновения.
Очень мало кто из белых людей, всего только двое или трое, могут похвастать, что видели окапи на воле. Тем не менее поймать окапи все же можно благодаря их привычке следовать всегда одними и теми же тропами. При этом ловить таких ценных животных надо так, чтобы как можно меньше причинить им вреда.
Сколько было смеху (особенно веселились пигмеи, сопровождавшие нас), когда мой сын Михаэль, вскрикнув от неожиданности, вдруг погрузился по самые уши в землю! Оказывается, он провалился в искусно замаскированную ловчую яму. Нам пришлось его вытаскивать оттуда за руки, притом довольно перепачканного. Но когда наши маленькие провожатые указали мне место, где находилась следующая ловчая яма, я при всем желании не мог ничего разглядеть, настолько равномерно и естественно была уложена густая лесная подстилка.
Такая ловчая яма глубиной обычно немногим больше двух метров. Книзу она несколько сужается и имеет очень гладкие отвесные стенки. Поверх нее вдоль и поперек вплотную укладываются длинные прутья, а сверху настилаются ровным слоем прелые листья. Антилопы, даже маленькие дукеры, из такой ямы без всякого труда выскочат. Но окапи прыгать почти не способны, в чем проявляется их родство с жирафами. Они будут всячески тянуться шеей, головой и длинным языком к лакомой ветке, но никогда при этом не оторвут передних ног от земли, то есть не встанут на задние ноги, как это делают в таких случаях почти все четвероногие, даже слоны.
Отлов окапи – целое искусство. «Государственная группа по отлову окапи», стационарный лагерь которой находится на пересечении реки Эпулу с автомобильным шоссе Кисангани – Ируму, выкопала более двухсот таких ловчих ям. Расположены они на маршруте протяженностью примерно в шестьдесят километров. Все многочисленные западни надо каждое утро заново осматривать. С этой целью двадцать пять обходчиков постоянно курсируют между ними.
Когда какой-нибудь окапи проваливается в западню, обнаруживший его обходчик первым делом обязан нарубить побольше зеленых веток и старательно прикрыть ими яму, чтобы животное успокоилось. Потом он должен сбегать за остальными, и они уже все вместе воздвигают вокруг западни сплетенный из тонких веток и лиан двухметровый плетень, чтобы пленник ни в коем случае не мог удрать. Потом приезжает отряд из двадцати рабочих, которые тут же приступают к сооружению для себя жилищ, необходимых им на несколько недель, потому что, как вы сейчас увидите, им придется с этим одним-единственным животным немало повозиться прямо здесь, на месте.
Поблизости от ловчей ямы сооружается круглый загон или вольера диаметром около тридцати метров, огороженная все той же плетеной двухметровой оградой. Она густо утыкается свежими зелеными ветками. Потом от ловчей ямы к загону строится «коридор», тоже с обеих сторон огороженный плетеным забором, замаскированным густой зеленью веток.
Затем один из участников операции очень осторожно подползает к яме и начинает сбрасывать с одного края землю на дно. Земля осыпается к передним ногам животного, а край ямы делается все более отлогим. Вскоре получается нечто вроде сходней, по которым окапи рано или поздно вскарабкивается наверх и по узкому зеленому проходу попадает из первого «отсека» во второй. В этой круглой, достаточно просторной вольере животное хотя и находится в заточении, но тем не менее чувствует себя в привычной обстановке, потому что ограждение внешне выглядит как густой зеленый кустарник. Стоящим вокруг африканцам, наблюдающим за окапи, предписано закрывать рот обеими руками, чтобы они от восторга не начали кричать или смеяться.
Но на этом работа отнюдь не заканчивается. В нескольких метрах от большого загона строится такой же второй, соединенный с первым узким проходом. Все это тоже тщательно маскируется зеленью. Теперь животное можно легко перегонять из одного «отсека» в другой, не показываясь ему на глаза. А в пустующем «отсеке» производится основательная уборка: его очищают от навоза и утыкают свежими зелеными ветками.
Если животное во время своего падения в яму поцарапалось или поранилось, то поврежденные места обрабатываются ватным тампоном, который просовывают на длинной палке сквозь ограду. Однако применяемые при этом лекарственные препараты не должны быть слишком ядовитыми или едкими, потому что окапи своим длинным темно-синим языком достает до любого места своего тела – он моется тщательнее, чем кошка!
Пока пленник постепенно привыкает к присутствию людей и к своему заточению, строится новый, на этот раз очень длинный коридор, ведущий к шоссе или к какому-нибудь месту, к которому можно подъехать на грузовике. Длина такого узкого прохода превышает иногда километр! Кончается он искусственной насыпью как раз такой высоты, чтобы она оказалась вровень с кузовом. Грузовик задом подъезжает к этой насыпи, и стоящая на нем транспортная клетка пододвигается открытой стороной к самому краю платформы. Клетка тоже замаскирована зеленью.
Окапи не гонят насильно по этому длинному коридору; в один прекрасный день он сам добровольно туда заходит и из любопытства идет дальше. Очутившись в этом узком проходе, где он не может развернуться, окапи вынужден прошагать все расстояние до другого его конца, то есть до самого выхода, ведущего в транспортную клетку. Как только он в нее вошел, за ним опускается дверца.
Грузовик отвозит пойманное животное в лагерь, и здесь оно тем же способом выходит из транспортной клетки в плетеный проход и, пройдя его, попадает в загон, в котором ему предстоит жить. Интереснее всего то, что за время всей этой длительной процедуры ни одна человеческая рука не касается окапи!
И вот рядом с этими загонами, в которых жили пятнадцать окапи, мы в тот раз и разбили свою палатку, чтобы иметь возможность за ними наблюдать. Ведь одного из пятнадцати постояльцев лагеря мы собирались увезти с собой во Франкфурт. Но какого?
Департамент охоты тогдашнего Бельгийского Конго начиная с 1946 года проводил планомерный отлов окапи в лесах Итури. В прежние времена в руки европейцев попадали только детеныши окапи, пойманные пигмеями, и случалось это крайне редко.
Такой мастерски разработанный способ отлова окапи, который я здесь описал, – исключительно заслуга начальника лагеря Ж. Медины, возглавлявшего группу по отлову.
За время с 1946 по 1950 год Медине удалось отловить пять или шесть окапи; их и разослали по зоопаркам. После длительного перерыва мы были первыми, кто прибыл с целью увезти одного из окапи, пойманных за последние два года.
Целых пятнадцать окапи, собранных в одном месте, – это такое зрелище, от которого у работника зоопарка может просто закружиться голова! Здесь было восемь самцов и семь самочек. Нам разрешили выбрать себе любого из самцов. Но которого же взять?
Находился здесь Непоко – светло-рыжий самец, широкий в груди, статный и горячий, как чистокровный жеребец. Лоис, совсем ручной, позволял себя гладить и обнимать за шею, что меня особенно привлекало. Ведь ручное животное гораздо легче лечить, если оно заболеет.
Каждый раз, возвращаясь после нескольких дней отлучки в лагерь, мы часами просиживали в загоне у окапи и изучали их. Ведь, как говорит пословица: «Кому выбирать – тому и голову ломать». Мы уже совсем было остановились на Лоисе, но тут заметили, что он время от времени прихрамывает и высоко при этом подтягивает заднюю ногу, как это можно иногда наблюдать у лошадей. Андуду казался нам уже довольно старым, у Байо была несколько отвислая нижняя губа, а Эпулу хотя и был совсем молодым, но пойман недавно и поэтому покрыт множеством ссадин и царапин.
В двух загонах жили самки окапи с детенышами. Поведение этих маленьких окапи явилось для меня неожиданным. Если я бежал за ними по загону или пересекал им дорогу, они тотчас же бросались на землю, вытягивали голову, прижимали уши. В это время до них можно было, конечно очень осторожно, дотронуться рукой, и они не убегали. Мать и детеныш вообще как будто не слишком стремились держаться рядом.
Подобным же образом поступают наши европейские косули: когда детеныш еще не в состоянии так быстро бегать, как мать, он затаивается в траве, а самка удирает, отвлекая внимание врага на себя, и, заманивая его все дальше и дальше, уводит в сторону от спрятавшегося детеныша.
Когда гуляющие по лесу находят такого одинокого детеныша, они думают, что мать его покинула, и забирают с собой. Поэтому я думаю, что и для пигмеев не представляет особого труда поймать молодого окапи. А то, что все же так мало окапи попадало в руки европейцев, скорее всего, объясняется тем, что пигмеи охотнее их съедали, чем продавали.
Оба живущих в лагере детеныша появились на свет не в результате размножения окапи в неволе – такого в те времена еще нигде не случалось. Первый детеныш окапи от родителей, содержащихся в неволе, увидел свет только 15 сентября 1954 года в зоопарке Антверпена. Впоследствии это удавалось и некоторым другим зоопаркам. Из немецких зоопарков потомство от окапи в неволе получали только во Франкфуртском зоопарке, и притом неоднократно. А эти двое родились в лагере потому, что их матери попали в ловчие ямы уже беременными. Это только показывает, с какой осторожностью производится вся процедура отлова. Так, самка, пойманная 16 июля 1953 года, через четыре дня родила здорового детеныша.
Надо сказать, что персонал проявлял исключительную заботу о своих питомцах: навоз из загона убирался по нескольку раз в день, чтобы окапи не могли заразиться яйцами паразитов. Из подобных же соображений кормовые пучки зеленых веток подвешивались высоко, на уровне головы животных. В каждом загоне всю ночь напролет горела лампа, чтобы окапи чего-нибудь не испугались. Между прочим, огня они не боятся: когда посреди загона зажигали костер, чтобы сжечь хворост и бумагу, окапи не обращали на это ни малейшего внимания.
Тем временем мы приняли решение забрать с собой во Франкфурт Непоко – самого большого и роскошного самца окапи. Но в один прекрасный день посыльный принес телеграмму из Момбасы, в которой говорилось, что нам дается свобода выбора между самцами окапи, «за исключением Непоко». Так что снова надо было начинать гадать и выбирать. В своем воображении мы рисовали себе страшные картины, что именно то животное, которое мы выберем, умрет еще на пути к самолету, в то время как все оставшиеся здесь будут припеваючи жить дальше.
Методом исключения мы уже остановили свой выбор на двух экземплярах. Это были Андуду и Эпулу. Андуду был взрослый самец, который уже два года прожил в лагере и с тех пор не подрос. Но кто мог знать, сколько ему было лет, когда он попал в западню? Ведь вполне могло статься, что через год или два он будет глубоким старцем. У Эпулу еще не было даже рожек, а молодняк более восприимчив к паразитарным заболеваниям: зато молодые животные легче приспосабливаются к новой обстановке. Мы останавливались то на Андуду, то снова на Эпулу, и дело дошло до того, что мы готовы были решить эту проблему таким вульгарным способом, как подбрасывание монеты: орел или решка? В конце концов мы все же взяли с собой Эпулу.