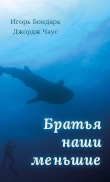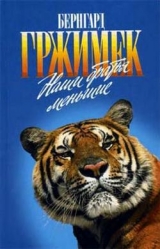
Текст книги "Братья наши меньшие [Мы вовсе не такие]"
Автор книги: Бернхард Гржимек
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 35 страниц)
Так, удалось, например, выявить, что клопы довольно плохо переносят холод. При минус восемнадцати градусах они в течение пяти минут все до одного отправляются к своим клопиным праотцам. Несколько дольше остальных выдерживают холод «подростковые» клопики. Яйца же значительно чувствительнее как к холоду, так и к жаре. Таким образом, есть возможность очищать дома от клопов путем промораживания помещений. Однако внутри помещений температура редко может достичь минус восемнадцать градусов, тем более проникнуть при этом во все щели. Но выяснилось, что и жара противопоказана этим вонючкам.
Если продержать их при температуре 45 °C в течение пятнадцати минут, то они все передохнут. Правда, у нас в стране почему-то редко используют подобную возможность испортить жизнь клопам. Во-первых, для этого надо плотно закрыть комнаты и натопить в доме так, чтоб чертям стало тошно. Кроме того, нужно, чтобы горячий воздух не скапливался под потолком, а равномерно проникал во все закоулки. А для этого необходимы специальные переносные печки со встроенными вентиляторами. Такие «горячие воздушные налеты» на клопов – самый новейший метод борьбы с этими паразитами.
Дальше. Владельцам «клопиных ферм» удалось выявить, что у их шестиногого стада имеется целый ряд естественных врагов в природе. К ним относятся некоторые синицы, книжные ложно-скорпионы, но главным образом тараканы. Однако разводить тараканов для борьбы с клопами – это все равно что изгонять беса дьяволом. Да к тому же способ не слишком-то надежный. Вот клещики пузатые, к примеру, хотя и нападают на клопов, но на человека, к сожалению, тоже. В Греции, например, был случай, когда удалось расправиться с клопами при помощи определенного вида пауков. Между прочим, когда нашего обычного паука посадили однажды в банку с двумя клопами, он, ничтоже сумняшеся, тут же их высосал.
Энтомологи, изучающие клопов, долгое время придерживались мнения, что самцов у них бывает больше, чем самок. Но это заблуждение. Просто более подвижные клопиные «дамы» ловчее и глубже прячутся в щели, поэтому их и ловят реже. Но если подсчитать свежевылупившихся клопов, то там на каждую клопиную «барышню» приходится по одному бравому клопиному «юнцу».
Клопы пробираются практически повсюду, куда только захотят попасть. Даже по оконному стеклу, особенно загрязненному, они с легкостью способны проползти. Если им что-то помешает, они попросту отрываются и падают вниз. Правда, приземляются при этом, как назло, обычно на спину. Поэтому каждый клоп обязан постичь нелегкое искусство уметь переворачиваться со спины на брюшко. Для этого существует пять способов (которые один исследователь наблюдал уже двадцать лет назад и подробнейшим образом описал).
О, они неутомимы и бесконечно находчивы, эти насекомые, в своем стремлении проникнуть в наши мирные жилища! И ничего нет позорного в том, что у кого-то в квартире завелись клопы. Я вот сам готов честно признать, что въехал однажды в квартиру, зараженную клопами. Разумеется, все мы очень перепугались, обнаружив подобный сюрприз. Но еще хуже то, что нам пришлось вынести обработку квартиры серным диоксидом, проделать которую заставили хозяина дома. Целую неделю вся квартира воняла этой мерзостью, и полмесяца все мы были вынуждены спать с открытыми окнами, хотя на дворе был уже ноябрь. Кроме того, выцвели некоторые скатерти и покрывала, потускнела обивка мебели. К счастью, на сегодняшний день помимо серного диоксида (которым, кстати, еще Одиссей после своего возвращения выкуривал настырных «женихов») появились гораздо менее едкие и неприятные для нашего носа газы, например этиленовый диоксид и другие. Но что совершенно неоспоримо, так это то, что против клопов следует пользоваться именно этими новейшими средствами (загазовыванием или горячей воздушной атакой), а не допотопными. А смазывание стен небезызвестным колоцинтовым соком или подмешивание его в клейстер для обоев помогает как мертвому припарки: он не отпугивает, не убивает и не привлекает клопов. И вообще все порошки и опрыскивания достигают своей цели только в тех случаях, когда попадают непосредственно на тело клопа. Но кто же способен разыскивать каждого отдельного клопа в его потайном укрытии?
Клопы в квартире – это отнюдь не признак нечистоплотности хозяев. Клопы ведь не ищут грязи: они ищут крови. Поэтому никакая тщательная уборка, мытье полов, вытирание пыли, чистка и натирка мебели им нипочем. А что их в кварталах бедноты больше, чем в богатых виллах, объясняется не загрязненностью жилищ, а их ветхостью, обилием щелей в стенах и полу. Но прежде всего это объясняется скученностью, теснотой, тем, что в одной комнате спит сразу помногу людей и клопам, таким образом, предоставлен богатый и удобный выбор жертв. Являясь там постоянной помехой ночного сна, клопы усугубляют развитие многих болезней, и прежде всего туберкулеза.
Являются ли клопы переносчиками инфекционных заболеваний, долгое время еще не было доказано. Сам укус в этом отношении более или менее безопасен, страшнее гораздо микробосодержащие испражнения клопа, которые при расчесывании места укуса могут попасть в ранку.
Никто на свете не может гарантировать свое жилище от проникновения клопов. Их можно затащить в дом с любыми слесарными и плотницкими инструментами, со строительным материалом, оставшимся после разрушения старых построек, с антикварной мебелью; квартируют они и в мягкой внутренней обивке фургонов для перевозки мебели. Более того, если они голодны, они просто-напросто поднимутся по наружной стене дома и вползут к вам через окно. Однажды уже видели, как клопы, словно канатоходцы, перебирались по телефонным проводам с одного конца двора в другой!
Как видите, действительно нельзя считать позором то, что в вашей квартире вдруг появились клопы. Надо только тотчас же браться со всей серьезностью за их выкуривание. Для этой цели необходимо обратиться в дезбюро, вызвать к себе специалиста с газовым баллоном или печью для прокаливания стен, а не стараться обойтись порошочками и мазилками.

Глава шестнадцатая
«Мартышкина любовь»

Целых четыре недели детеныш шимпанзе виснет на теле своей матери, вцепившись в ее теплую шерсть и надежно укрывшись от посторонних взглядов. И несмотря на то что мамаша старается придерживать его рукой, малышу приходится изо всех сил цепляться, чтобы не упасть во время ее прыжков. (Известно, что и мы с вами сохранили по сию пору остаток этого обезьяньего искусства: уже пятьдесят лет назад ученым удалось установить, что мы сразу же после рождения способны намертво ухватиться за палку и повиснуть на ней, если ее поднимут кверху!)
На ночь шимпанзе Сюзи укладывается на спину и скрещивает ноги и руки на животе таким образом, что видна лишь одна головка детеныша. Когда Сюзи днем сидит в своем углу, маленькая детская пушистая белая попка тоже опускается на пол, но ручки все равно судорожно держатся за материнскую шерсть.
Потом Сюзи начинает понемногу приучать дочку к самостоятельности – чуть отодвигается в сторону, и той приходится без посторонней поддержки ползти к ней. Но мамаше этого мало. Вскоре она хватает своими длинными черными руками, такими страшными на вид, но в данном случае нежными и осторожными, своего детеныша за его тонюсенькие лапки и заставляет идти впереди себя. Может быть, ей, как и многим человеческим мамашам, не терпится дождаться, когда же малыш самостоятельно встанет на собственные ножки? Во всяком случае, несколькими днями позже она держит его уже только за одну ручку, а он, неловко перебирая ножками, старается поспеть за ней. Картина необычайно трогательная для каждого, кому это удается увидеть.
А упражнения в ходьбе продолжаются. Сюзи сажает своего детеныша посреди клетки, а сама отходит в дальний угол и манит его к себе. Малюсенькому существу ужасно страшно и хочется поскорее уткнуться в материнский «подол». Но проползти такое большое расстояние одному? Нет уж. И детеныш делает то, что делают все детки в подобных случаях: остается сидеть на месте и истошно вопит. Сердце не камень, и Сюзи, не выдержав характера, подбегает к крикуну, берет его на руки и быстро успокаивает. Но час спустя она пробует снова, и материнское терпение берет верх над нерешительностью маленького трусишки.
Какой-нибудь господин Майер, посетитель Франкфуртского зоопарка, стоящий в это время всего в каких-нибудь двух метрах от решетки и наблюдающий эти сценки семейного счастья, даже не подозревает, какая редкостная удача выпала на его долю (притом всего за две марки!). Ведь десяткам охотников, исследователей и ловцов диких животных приходится по целым неделям красться по чащобе девственного леса вслед за человекообразными обезьянами, чтобы получить возможность пристрелить одну из них или накрутить хотя бы пару торопливых метров кинопленки. Наблюдение же, подобное этому, подтверждающее возможность размножения человекообразных обезьян в неволе и воспитания ими своего потомства, автоматически снимает все возражения, возникающие у отдельных лиц против содержания этих животных в зоопарках.
Лазить детеныш шимпанзе пускается более бесстрашно. Но тут Сюзи держится начеку, не отходит от него и не терпит никакого удальства: как только малыш залезает на высоту в полметра, она не долго думая сразу же хватает его и сажает на пол. Если же вылазки детеныша делаются слишком опасными, шимпанзиха кладет его на спинку, прижимает своими могучими руками к полу и, приблизив к его личику свой огромный рот, явно «стращает». Правда, маленький озорник быстро научается шлепать своими крошечными ручонками по материнскому лицу, хватать мать за нос и уши. Когда он при этом царапает ее своими отросшими коготками, она, невзирая на его отчаянное сопротивление, хватает эти ручки и заботливо откусывает ногти один за другим.
Но интереснее всего игра, которой забавляются мать и дитя, когда малышка уже начинает бегать. Детеныш подходит к матери, дотрагивается до нее рукой и пытается убежать. Но шимпанзе протягивает свою длинную руку и успевает в последний момент ухватить беглеца за тонкую, брыкающуюся ножонку. Маленький шалопай до того бывает увлечен этой беготней, что оба смеются до упаду и ни один не согласен первым прекратить эту возню, А я-то думал, что игра в «салочки» или «пятнашки» – человеческое изобретение! Когда жившая у меня в доме «девочка»-шимпанзе Улла готова была часами самозабвенно играть в такую игру, я считал, что этому она научилась у моих ребят.
Посетители зоопарка, в особенности если среди них есть молодые мамаши, наблюдая подобные сценки, часто восхищаются: «Ну прямо как у людей!»
Но если хорошенько подумать, то можно ли подобные действия причислять к «человеческим»? Ведь под это понятие подходят только те действия, которые свойственны одному лишь человеку, и никому больше. А такие явления, как перелом ноги, утоление голода, отнюдь не чисто человеческие особенности. Такой особенностью можно считать, к примеру, следующее: совершая какое-то действие, задумываться о его возможных последствиях. Животные же, в данном случае человекообразные обезьяны, хотя и способны действовать разумно, но это только самые первые, скромные зачатки разумной деятельности. И если мамаша-шимпанзе поначалу дает своему детенышу только крошечные кусочки банана, то делает она это не потому, что «знает», что он еще не в состоянии переварить такую пищу. Делает она это чисто инстинктивно, бессознательно.
Любители животных часто обижаются, когда утверждаешь нечто подобное. Но они забывают при этом, что и человек, слава Богу, не всегда и не во всем действует по велению рассудка. У нас тоже сохранились инстинкты, и нет ничего глупее считать их чем-то низменным и недостойным человека. Наоборот. Мне кажется, что именно эти древние, как мир, инстинктивные проявления и украшают по-настоящему нашу жизнь; это то, ради чего и стоит жить: любовь мужчины и женщины, влюбленность, супружеская верность, материнская любовь, дружба, защита семьи или общества, тоска по родине… Мы не потому встречаемся с любимой под черемухой, чтобы в будущем обеспечить себя хозяйкой для приготовления обедов, а потому, что нас тянет к ней неведомая сила. Мы не потому заводим детей и растим их, чтобы не платить налог за бездетность или обеспечить себе поддержку в старости. На это нас тоже толкает внутренняя потребность, и мы испытываем радость и удовлетворение от исполненного долга. А вот когда в эти инстинктивные чувства вмешивается холодный человеческий расчет, когда некий господин Шульце к влечению своего сердца примешивает еще и заботу о хорошем приданом – вот тогда они, эти чувства, действительно лишаются всего того благородного, что первоначально было в них заложено. Так что заложенные в нас «животные инстинкты» отнюдь не самое плохое, что в нас есть! И даже в тех случаях, когда они выражаются не в самых изысканных и возвышенных проявлениях, таких, как ненависть, негодование или ревность, то все равно они дороги нам, потому что по крайней мере искренни!
По какому тогда, скажите, праву одна мамаша упрекает другую в том, что та «носится со своим ребенком, как мартышка»?
Когда в Дрезденском зоопарке однажды пришлось временно разлучить самку орангутана с ее детенышем, произошел удивительный случай. Живущий в той же клетке самец, увидев лежащее на полу и кричащее что есть мочи существо, внезапно слез со своего спального балкона, подхватил орущий комок и исчез вместе с ним у себя наверху. При этом он даже не был отцом детеныша, его подселили к самке гораздо позже, и до этого случая он не обращал на малыша ни малейшего внимания. На следующее утро детеныш все еще продолжал висеть на его груди. Каждый раз, когда вернувшаяся в клетку мать пыталась отобрать у самца свое дитя, он злобно скалил зубы. В конце концов служителю пришлось хитростью выманить у него малыша. Но когда тот снова очутился на своем законном месте у матери, самец совершенно перестал им интересоваться. Он просто действовал согласно своей внутренней потребности, призывающей его защищать любого одинокого, осиротевшего детеныша орангутана, потому что в естественных условиях просто не бывает, чтобы мать-орангутан оставила своего детеныша в одиночестве, если она не ранена или не мертва. В описываемом нами случае самец бы и дальше продолжал защищать найденыша от любого посягательства, а следовательно, и от родной матери до тех пор, пока тот не умер бы с голоду.
Подобный случай описан неким Брандесом. Там шла речь о детеныше макаки-резус. Сильная и боевая «тетя» отвоевала новорожденного у слабенькой молодой мамаши и не желала возвращать обратно. Она ласкала, тискала и обихаживала малыша до тех пор, пока он спустя двое суток не умер голодной смертью у нее на груди.
Вот такое и называют «мартышкиной любовью»: упиваться собственным удовольствием от удовлетворения материнского инстинкта, тискать и баловать ребенка, не задумываясь о том, как это отразится на самом ребенке. Случается, что и женщины, стремящиеся лишь к удовлетворению своего эгоистичного желания понянчить ребеночка, уподобляются по жестокости этой «тете макаке». Совсем недавно я был невольным свидетелем такой сцены: возмущенная бабушка безапелляционно вступилась за внука, которого мать заслуженно отругала. Она начала в присутствии ребенка упрекать ту в том, что со вторым сынишкой обращаются куда мягче, что его больше любят… Может ли быть что-нибудь бессердечнее, чем сеять в детской душе недоверие к собственной матери, неприязнь к своему братишке с одной лишь целью проявить свой инстинкт защиты детеныша?
Другая женщина до того раскормила свою таксу, что она напоминала скорее ливерную колбасу, чем собаку. Несчастную душил астматический кашель, лестницу она одолевала с колоссальным трудом и с остановками для передыха. Но в ответ на советы поменьше кормить собачку ее хозяйка в течение нескольких лет отвечала одно и то же: «Бедняжка все равно больна, так пусть уж напоследок поест в свое удовольствие». И эта же женщина тут же бежит в Общество охраны животных, когда видит у кого-нибудь голодающего, неухоженного пса. Она, безусловно, возмутилась бы, если бы услышала, что обе собаки страдают в одинаковой степени – да, обе! Потому что хозяева их заботятся о своих питомцах не «по-человечески», а «по-мартышачьи», то есть эгоистично ублажают свои инстинкты: одни – материнское желание опекать и ухаживать, другие – свою жадность.
Но «мартышкина любовь» может проявляться и более миролюбиво. Так, павианья мамаша, жившая в зверинце у Дельмонта, не приняла своего новорожденного детеныша, зато весь жар материнского сердца отдала несколько дней спустя слепому еще котенку. Упрямо старалась она уложить его на спину, лапками кверху, и в такой позе носить на руках. И хотя котенок и старался уцепиться за «материнскую» шерсть, тем не менее во время ее лихих прыжков не мог удержаться и падал на землю. Павианиха каждый раз после этого старательно его осматривала со всех сторон: удивительный растяпа этот ребеночек! Позже она напрасно старалась вложить приемышу орехи меж лапок; правда, земляные орехи котенок ел, когда «мамаша» сама удаляла с них шелуху. Зато сырое и вареное мясо обезьяна ни за что не разрешала ему есть, и для того, чтобы накормить им котенка, его приходилось отнимать у «матери». Однажды настоящая кошачья мамаша пришла забрать своего котенка и, схватив его в зубы, побежала с ним прочь. С диким криком обезьяна кинулась с дерева за ней в погоню и наверняка разорвала бы ее на части, не подоспей к этому моменту ее хозяин.
Подобные же ревнивые бои обезьяна устраивала позже с влюбленными котами, приходившими ухаживать за молодой кошечкой. И если павианиха обнаруживала свою «гуляку-дочку» ночью праздношатающейся по двору, она с визгом и руганью затаскивала ее назад в свою спальную корзинку.
Временное отчуждение между двумя этими животными происходило только в те периоды, когда у кошки появлялись собственные котята. Но затем мир восстанавливался вновь, и оба животных продолжали жить вместе.
Так что приемная мать и приемыш стали пожизненными друзьями, и этой дружбы хватило на всю обезьянью жизнь.

Глава семнадцатая
Может ли пава умереть «с горя»?

Когда в зоопарке лев или бенгальский тигр пробегутся по снегу, то в газетах тотчас же появляются снимки, зафиксировавшие эту сенсацию. А вот то, что павлины, которые, между прочим, тоже родом с Цейлона и из Индии, живя в наших широтах, даже в холодное время года избегают пользоваться утепленными птичниками и предпочитают сидеть где-нибудь высоко на дереве или на коньке крыши, где их засыпает снегом, – это почему-то никого не удивляет, и никто по этому поводу не поднимает особенной шумихи.
Содержать павлинов у себя дома, во дворе, – это радость для глаз, но никак не для ушей! Недаром старая пословица гласит: «У павлина перья ангела, голос дьявола, а походка убийцы…»
В некоторых районах Цейлона ночью невозможно уснуть из-за громких воплей многих сотен диких павлинов. Имеются сообщения, авторы которых утверждают, что им случалось видеть в Индии по тысячу двести, а то и по тысячу пятьсот павлинов зараз! Еще удивительнее тот факт, что солдатам во время последней войны удавалось на острове Крит охотиться за павлинами. Этих птиц завезли туда за двадцать лет до этого. И совершенно непонятно, как такие крупные птицы смогли так долго продержаться на острове, где не существует никаких законов об ограничении охоты и где оружие носит каждый кому не лень.
Говорят, что когда на какой-нибудь уединенной полянке в лесу полдюжины павлинов одновременно распускают друг перед другом свои роскошные «веера», то получается зрелище неописуемой красоты. И ужасно чудно, когда, заподозрив что-нибудь неладное, все разом, как по команде, захлопывают свой «веер», и всего великолепия как не бывало!
С какой целью павлин, собственно говоря, распускает свой сверкающий всеми цветами радуги хвост? Разумеется, чтобы покрасоваться перед павами и произвести на них впечатление. Но поскольку павлин – птица не моногамная, то есть не придерживающаяся единобрачия, и, кроме того, вид, у которого самец не «гоняется» за самками, то он демонстрирует свою красочную приманку даже тогда, когда павы поблизости нет. Подобно тому, как табличка на двери кабинета врача привлекает внимание проходящих мимо больных и сулит им излечение от недугов, точно так же великолепный хвост павлина (по Хайнроту) означает нечто вроде: «Здесь празднуют свадьбы!»
Обычно в первую половину дня, до обеда, павлин занимается тем, что, стоя где-нибудь посреди открытой лужайки, распускает хвост и ждет событий, вернее, ждет самочек, которые должны приблизиться к нему, чтобы полюбоваться его красотой. Если самки сидят высоко на дереве, то павлин распускает свой хвост более полого, почти горизонтально, чтобы сидящие в «бельэтаже» и на «балконе» невесты тоже могли разглядеть блестящую приманку.
Самка, плененная роскошью павлиньего хвоста, приближается к брачному партнеру как бы случайно, делая вид, что вовсе и не замечает его. По дороге она наклоняется то влево, то вправо и небрежно что-то склевывает. Таков этикет брачного поведения у пав. Это небрежное склевывание, по-видимому, страшно возбуждает павлина, потому что в тех случаях, когда поблизости нет пав, он начинает «приставать» к курам, если только они, расхаживая поблизости от него, склевывают с земли зерна. Если же они этого не делают, он не обращает на них ни малейшего внимания.
Когда заинтересованная в брачном партнере самочка-пава подходит поближе, павлин начинает нервно топтаться на месте, хлопать крыльями, а затем… резко поворачивается к партнерше задом. Самка тотчас же обегает вокруг него, чтобы получше спереди разглядеть его невиданное великолепие. Павлин приветствует ее тем, что энергично потрясает всем своим огромным веером, а затем снова отворачивается. Самка опять обегает вокруг него, а он снова поворачивается к ней спиной. И так до десяти – двенадцати раз, пока самка наконец не присядет; тогда павлин бросается на нее, издав при этом воинственный пронзительный клич. В отличие от кур спаривания у павлинов происходят столь редко, что некоторые владельцы этих птиц практически никогда этого не замечают.
Казалось бы, что павлины с их маленькой изящной головкой и метровым громоздким хвостом – птицы довольно неповоротливые и беззащитные. Тем не менее они весьма воинственны, и главным их оружием в бою служат шпоры. Так, в Берлинском зоопарке один павлин решил помериться силами с большим индюком. Когда противник начинал слишком на него наседать, павлин просто перелетал через него на другую сторону. Однако боевитый индюк в конце концов все же победил бы и разделал красавчика под орех, если бы в потасовку вовремя не вмешался служитель птичьего павильона: ведь разъяренный индюк может и убить!
И по отношению к людям павлин ведет себя отнюдь не застенчиво. Нет, скромным его никак не назовешь. Так, Вильгельм Буш [25]25
Известный немецкий сатирик конца прошлого века. (Примеч. перев.)
[Закрыть]описывает забавную сценку, происходившую у него под окнами во дворе:
«Утром, в половине шестого, кормят кур, а заодно и красавца павлина с его изящной маленькой короной на голове и оперением, отливающим золотом и драгоценными камнями. Он здесь самый знатный. Клюет он мало и небрежно. А потом вдруг: тр-р-р – и роскошный веер из целой коллекции павлиньих „глаз“ уже мерцает под лучами утреннего солнца. А какой танец он исполняет! Весь дрожит, топчется на месте, бьет крыльями! Но все напрасно – старые тетки-куры даже не смотрят в его сторону – знай долбят своими твердыми костяными носами утоптанную глину! Я уверен, что павлины – это наверняка заколдованные олимпийцы; во всяком случае, когда на дворе появляется фрау Брюкнер – маленькая смазливая прачка, павлин проворно вскакивает ей на спину и по всем правилам искусства хватает клювом за косу. Боюсь, как бы она вскоре не начала откладывать яички! Во всяком случае кудахтать и трещать без умолку эта доморощенная „мадам Леда“ [26]26
Имеется в виду известный сюжет древнегреческой мифологии – «Леда, целующаяся с лебедем». (Примеч. перев.)
[Закрыть]умеет превосходно!»
Благодаря чванству отдельных римских выскочек павлины уже издревле обрели особую известность. Так, Вителлий и Гелиогабал старались произвести впечатление на своих гостей тем, что подавали к столу большие миски, наполненные одними лишь языками и мозгами этих редких птиц. Когда кутилы нажирались настолько, что больше в них не лезло, они заставляли раба щекотать у себя в горле павлиньим пером, чтобы избавиться от поглощенных блюд и освободить место для новых. Считается, что к 1560 году павлинов в Риме было не меньше, чем перепелов.
Поэтому в первой средневековой зоологической книге, принадлежащей перу врача Конрада Геснера, умершего в 1565 году в Цюрихе от чумы, можно было уже многое узнать об этих птицах. Так, в ней утверждается, что если павлин слышит, как кто-то поблизости восторгается его красотой, он тотчас же распускает свой пышный веер. Но, увидя при этом свои безобразные ноги, он «становится грустным и опускает хвост к земле. Если ему случается ночью проснуться, когда в потемках невозможно себя разглядеть, то он кричит от страха, потому что ему кажется, что он потерял где-то свою красоту… Завидя художника, павлин всегда готов ему позировать и стоит совсем неподвижно, чтобы удобнее было рассмотреть его и нарисовать. Своим криком он может напугать змей и прогнать любых других ядовитых животных. Если павлин заметит, что ему дали отравленную пищу, он тотчас же с диким криком начнет разбрасывать когтями ее из лотка в разные стороны…».
В те же времена появились первые белые павлины, бывшие тогда большой редкостью. Считалось, что они происходят из Норвегии. Поскольку самки там во время насиживания постоянно видят перед собой снежные горы, то и из яиц вылупляются белые павлинчики!
Впрочем, именно в этой старинной книге я нашел объяснение существования столь многочисленных «павлиньих островов», таких, как, например, знаменитый потсдамский. В книге рекомендуется разводить павлинов именно на небольших островах, потому что иначе этих ценных птиц могут растащить (многочисленные еще в то время) лисы. Долгое время в Германии свидетельством богатства считалось, когда в доме гостям подавали зажаренного павлина, начиненного к тому же редкими еще в те времена сливами. В старой зоологической книге даются точные сведения, как для этой цели следует резать павлина и как готовить. Кожу вместе со всеми перьями и головой полагалось при этом стягивать с тушки, а затем после жарки снова надевать. Чтобы павлин мог стоять на блюде, в его ноги и шею просовывалась железная проволока. Кроме того, считалось очень элегантным подавать павлина к столу «огнедышащим», для чего ему в горло засовывалась пропитанная камфорой шерсть, которая в нужный момент поджигалась.
Об удивительном событии, участниками которого были павлин и пава, написал в редакцию нашего журнала «Das Тіег» читатель Г. Бройкер:
«Тео, так звали павлина, был совсем ручным. Сразу же после своего прибытия (а прислали его в деревянном ящике двухметровой длины) он самостоятельно заявился на кухню, а несколькими днями позже уже каждое утро поднимался по лестнице на второй этаж, важно шествовал через всю квартиру, взлетал на открытое окно и там гарцевал, распустив свой шикарный веер. Но однажды утром его нашли мертвым в саду. Он налетел на провода и сломал себе шею. Единственная имевшаяся на птичьем дворе самочка-пава два дня безутешно просидела возле его трупа. Перед тем как его похоронить, мы выдернули у него все его красивые хвостовые перья и поставили их в вазу. Пава целыми днями бродила по саду, втянув голову в плечи. Но однажды наша дочка поставила вазу с павлиньими перьями на закрытое в эту пору окно. И недаром в старину говорили, что павлиньи перья приносят несчастье. В тот же вечер паву нашли мертвой под окном в саду. По-видимому, она увидела знакомый веер своего друга там, наверху. И по царапинам на стене дома можно было догадаться, что она тщетно пыталась взобраться на окно. Много раз подряд она билась головой о стекло, пока не сломала себе шею».
(Хочу добавить, что упоминание о царапинах на стене – деталь весьма важная. Не будь этого, я бы лично не принял всерьез рассказ об этой маленькой драме и не пересказал бы его вам, потому что в противном случае дело выглядело бы так, что несчастная пава, увидев в окне сверкающий веер своего погибшего жениха, не вынесла переживаний и умерла от несчастной любви…
Но когда нечто подобное говорится о павлинах, птицах полигамных, не придерживающихся единобрачия, то этому верить нельзя. Я во всяком случае не поручусь за достоверность подобного сообщения. А вот в то, что пава, увидев в окне знакомый веер, налетела на стекло и разбила себе голову, я поверю гораздо охотнее. Это хоть и менее романтичное, но зато более убедительное объяснение происшедшей трагедии.
Ведь тот, кто действительно серьезно хочет разобраться в поведении животных, тот должен в первую очередь искать наиболее скромные и трезвые объяснения их действий. А чувствительные и фантастические объяснения некоторых загадок нельзя принимать на веру лишь потому, что «так могло быть». Поверить в них можно лишь в том случае, когда все более простые и трезвые объяснения отпадают. Ведь даже самые скромные толкования поступков животных, как правило, бывают и так уже достаточно удивительными! Это я так, между прочим, по поводу царапин на стене.)
«В прекрасных перьях Тео, – пишет Г. Бройкер, – вскоре завелась моль. Но его красивая маленькая корона из ярких перышек еще сегодня, много лет спустя, украшает мой письменный стол».