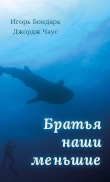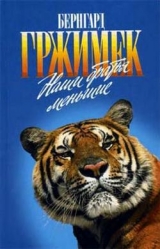
Текст книги "Братья наши меньшие [Мы вовсе не такие]"
Автор книги: Бернхард Гржимек
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 35 страниц)
Глава восьмая
Две родины кошки

В один прекрасный день Леночка Пумпель, сидя у ручья, увидела трех крошечных голых зверюшек, медленно плывущих по течению ей навстречу. А причина, по которой Леночка выбежала с зареванными красными глазами из дома и спряталась у ручья, заключалась в том, что отец снова не разрешил ей поехать в город и поступить машинисткой в бюро. Она все еще всхлипывала, когда вдруг заметила качающиеся на воде трупики котят, которых слабое течение понемногу прибивало в маленькую бухточку у самых ее ног. Там они и остались лежать на отмели, чуть покачиваясь на набегающей волне.
«Сколько раз я пила воду прямо из этого ручья, – возмущенно подумала Леночка Пумпель, – а эти соседи, тьфу, черт бы их побрал, оказывается, топят в нем своих котят! И какая вообще это подлость – вот так просто вышвыривать в воду этих маленьких несчастных существ!»
Девушка сорвала растение с твердым стеблем и выудила с его помощью всех трех утопленников. Какая жалость! Двое котят были пятнистыми, черно-белыми, а третий совершенно гладко-серый от носа до кончика хвоста. Уши, лапки и хвостик казались слишком маленькими для кошки, а голова, наоборот, неестественно большой и бесформенной, как у неуклюжего «гурвинека» из кукольного театра. Леночка Пумпель содрогнулась, рассматривая жалкие, крошечные трупики: только что народились на свет и уже грубо вырваны из теплого материнского гнезда и безжалостно убиты! Леночка снова принялась всхлипывать. На сей раз уже не по поводу несостоявшегося бюро, а по поводу утопленных котят.
Когда же она попыталась все тем же стеблем столкнуть серого котенка назад, в воду, и нажала ему при этом на животик, он внезапно пошевелил лапкой. Может быть, почудилось? Может, это она сама задела за лапку стеблем? Но нет – серый котенок был еще жив! Он шевелился! Едва-едва, но шевелился. Однако Леночка не могла решиться дотронуться руками до мокрого и холодного тельца, поэтому она сорвала большой лист подорожника, задвинула на него маленького страдальца и, ухватив кончиками пальцев загнутые кверху края, отнесла свою находку к матери на кухню.
Пумпели сами прежде зачастую топили котят – невозможно же, в конце концов, разводить их дюжинами в доме! Тем удивительнее было видеть, какие только усилия ни прикладывала фрау Пумпель, чтобы вернуть к жизни именно этого маленького серого найденыша.
В коробке с ватой, поставленной у самой печки, котенок отогрелся и ожил, просох и стал снова пушистым. Но знаете ли вы, что гораздо легче выкормить десять телят, чем одного такого малюсенького котенка без матери? Из чего его, во-первых, поить? После нескольких неудач Леночка вспомнила о кукольном рожке с резиновой соской и принесла его с чердака, где он валялся вместе со старыми куклами. Но не сразу маленькая Муши, как нарекли котенка, научилась пользоваться рожком. Кроме того, новорожденному котенку нельзя голодать более трех-четырех часов. И вот фрау Пумпель пришлось дважды за ночь вставать, чтобы утолить голод кошачьего младенца, напоить его теплым молоком из игрушечного рожка. Вскоре она догадалась, что его мучают боли в животе. Перед тем как сделать свои делишки, он долго вертелся и пищал и успокаивался только после того, когда ему мизинцем массировали брюшко, так, как это проделывает кошка своим языком.
Леночка Пумпель, эта взрослая семнадцатилетняя барышня, играла в котенка так, как несколько лет назад еще играла в куклы. Она то хвалила его, то бранила за то, что не желает пить или еще за что-нибудь. Но поскольку котенок не реагировал на ее указания (точно так же, как в свое время куклы), Леночка заподозрила, что он глухой. И правда: можно было над самым его ухом с грохотом ударить двумя крышками от кастрюль друг о друга – котеночек даже не вздрагивал. Вкусовые ощущения у него тоже еще отсутствовали: Муши было безразлично, что пить – разбавленное молоко или горький чай. А когда через некоторое время веки разомкнулись и показались невинные голубые кошачьи глазки, возникла новая забота: Муши явно была слепа. Она не следила за пальцем, если водить им перед ее носом. Более того, она не зажмуривалась от света карманного фонаря.
Но все эти страхи оказались напрасными. Муши научилась видеть, научилась слышать, научилась еще многому другому. Она научилась всем шалостям, которые так характерны для кошачьих деток (и даже солидных, убеленных сединами людей соблазняет поиграть с ними), научилась катать по ковру моток ниток, подкрадываться по всем правилам искусства к чьей-нибудь домашней тапочке с тем, чтобы одним прыжком напасть на нее самым потешным образом или, лежа на спине, всеми четырьмя мягкими лапами с втянутыми когтями воевать с пятью пальцами человеческой руки.
Однажды хулиганистый Леночкин братец запер Муши в свою клетку с белыми мышами. Возможно, он надеялся стать свидетелем кровожадного убийства. Но ничего подобного не произошло. Муши не обратила ни малейшего внимания на обитателей мышиной клетки и улеглась в углу спать. А мыши в свою очередь так осмелели, что доверчиво ползали по дремавшей в клетке кошке.
Малый даже не подозревал, что из-за этой его шалости Муши на всю свою кошачью жизнь станет безопасной для мышей.
Но только для мышей. А хищником она стала все равно. Каждый раз, когда Муши подходила к ручью, она видела, как под водой, меж прибрежных коряг, сновали быстрые серые полоски. А все, что снует, бегает, заставляет вздрагивать кошачьи когти, упрятанные в бархатные подушечки лап. С врожденным терпением всех кошек Муши часами сидела возле тех мест, куда прятались форели. Она сидела так неподвижно, что стрекозы беззаботно пролетали мимо самого ее носа, а осторожные рыбы принимали ее за камень на берегу. Вскоре форели одна за другой появлялись из своих укрытий и начинали резвиться на прогретом солнцем мелководье. Тогда следовал резкий бросок, Муши вонзала свои острые когти в гладкое рыбье туловище и мгновенно выбрасывала форель на берег, где она, описав великолепную дугу, приземлялась среди незабудок.
Фрау Пумпель застукала однажды своего наследника за тем, как он тайком зажаривал себе на кухне трех форелей.
– Вот погоди, придет отец, он тебе задаст! – принялась она ругать сына. – Ручей сдан в аренду, и если вы, мальчишки, таскаете из него форелей, то это самое настоящее воровство!
Но сын не воровал форелей. Он просто отбирал их у Муши. А та теперь приносила в день по четыре-пять штук!
– Мышей она не трогает, – вздыхала фрау Пумпель. – А вот форели – это пожалуйста. Именно форелями вздумала питаться.
Но единственный способ, которым можно было удержать кошку от рыбной ловли, заключался в том, чтобы запирать ее на целый день в доме. Стоило же ей вырваться из заточения, как она, невзирая на брань в свой адрес, с увлечением продолжала «рыбачить».
Однажды она оказалась запертой в чулане, где мышей было видимо-невидимо. Спустя четыре дня кошка была едва жива от голода, но ни до одной мышки не дотронулась.
Поскольку против упорного дочернего домогательства не может устоять ни «твердый отцовский запрет», ни материнское недовольство, то Леночка Пумпель все-таки попала в город. Правда, годом позже и в качестве медсестры. А поскольку отец тоже работал в городе, то семейство Пумпелей продало свой дом и переехало в городскую четырехкомнатную квартиру.
Когда подъехал фургон по перевозке мебели, фрау Пумпель посадила Муши в корзинку, обернула корзинку платком и понесла на станцию, откуда до города шел пригородный поезд. Ехать надо было девятнадцать километров.
Помню, как однажды в дни моего детства мы играли в жмурки. Я был простужен и должен был лежать в постели, но, поскольку мамы не было дома, я тоже принимал участие в игре, притом в одной ночной рубашонке. И вот я припоминаю: сколько бы меня ни крутили с завязанными глазами, пока я чуть не падал, я все равно знал, где дверь и где окно. Потому что ощущал, хотя и едва уловимо, с какой стороны мое тело овевает приятное тепло, исходящее от нашей большой зеленой кафельной печки в углу. Аналогичное, видимо, произошло и с Муши.
Сопящий паровозик тянул за собой вагоны, в одном из которых в своей корзинке сидела Муши. Кошка ощущала во всем своем теле необъяснимый, глухой протест. И сколько бы поезд ни петлял и ни извивался среди лесов и полей, сколько бы фрау Пумпель ни гладила ее успокоительно, просунув руку под платок, невзирая на то, где стояла корзина – то ли на полу меж сапог деревенских пассажиров, то ли наверху, на полке среди чемоданов, все равно Муши не покидало странное, неясное чувство: твоя родина – там! [21]21
Строго научного подтверждения такой способ ориентировки у кошек пока еще не получил. (Примеч. ред.)
[Закрыть]
Кошку выпустили из корзины, когда она снова оказалась дома: на привычном месте стоял диван с белыми пуговицами на чехле, где в правом углу с уже сильно вдавленными пружинами лежала вышитая подушечка – «кошкина подушка». Никогда в жизни она не ложилась на какую-нибудь другую, ни разу даже не позволила себе прыгнуть ни на один стул. Узкая портьера на двери отгораживала «парадную комнату», и кошка в новой квартире, как и в старом доме, не нарушала границ запретной зоны, несмотря на то что теперь эта комната находилась справа, а не слева, как прежде. Вскоре она отыскала и свою старую мисочку под скамейкой на кухне.
– Смотрите-ка, Муши чувствует себя совсем как дома, она, наверное, и не заметила, что мы переехали на новую квартиру, – радовались Пумпели.
Но радовались они рано. На следующее утро кошка пропала.
Наверное, выпрыгнула из окна на балкон нижних соседей? Но нет – в нижней квартире ее не оказалось; не оказалось и в подвале. Тщетно ее искали по окрестным садам. Никто ее не видел. Вечером отцу пришлось сесть на велосипед и поехать на старую квартиру, за город. Увы! И там никаких следов Муши. За ужином фрау Пумпель уже сидела с мокрыми от слез глазами. На всю ночь она оставила распахнутым окно и спала беспокойно. Ей все казалось, что вот он раздался, этот привычный глухой шлепок, с которым кошка спрыгивает с подоконника на пол. Или характерная тихая дробь, словно кто-то мягкими кончиками пальцев без ногтей барабанит по столу. Но каждый раз, когда она вставала, на полу было пусто, и только ветер шелестел надутой, точно парус, занавеской…
Спозаранку, в половине пятого утра, фрау Пумпель была уже одета. Она без чьей-либо помощи извлекла из подвала свой велосипед, села на него и поехала на старое место жительства. Возле гостиничного двора дорогу ей перебежала серая кошка и скрылась за сараями. Не обращая внимания на неистово рвавшегося с цепи пса, фрау Пумпель проникла во двор и громко позвала:
– Муши, Муши! – Но серая кошка не вернулась. Видимо, это была не Муши.
Когда женщина добралась до своего бывшего дома, было семь утра. Время, когда Муши обычно возвращалась после своих разбойничьих налетов на речку. И правда – вот она! Прыгает на закрытое кухонное окно – раз, второй, третий!
– Муши! Иди же сюда! Муши, иди ко мне! – кричит, нет, скорее вопит фрау Пумпель от счастья.
И вот уже красивая серая кошка умиротворенно мурлычет у нее на коленях.
– Я уж ей вчера молочка наливала и собиралась ее назад отослать, – рассказывает старушка, живущая теперь в этом доме. – Но она только поначалу разрешала себя трогать, а потом уже в руки не давалась – все время убегала.
То, что кошка одна, совершенно самостоятельно, нашла дорогу на свою «родину», пробежав девятнадцать километров, было сенсацией для такого маленького городка. К Пумпелям пришел репортер, и на следующее утро их имена и имя кошки уже были обнародованы на страницах городской газеты. А через день даже в районной газете четыре строчки были посвящены героическому марафону маленькой Муши.
А «героиня» лежала на своей диванной подушке. Если дотрагивались до ее лапок, она переставала мурлыкать и начинала сердиться: на темно-серых подушечках просвечивало розовое – лапы были стерты до крови во время этого долгого путешествия по непривычным дорогам!
Соседи приходили специально полюбоваться на Муши, а одна женщина даже принесла ей оставшийся после обеда кусок торта. О, Муши стала большой знаменитостью!
Она была дома. И тем не менее ее не покидало необъяснимое чувство тоски по своему «настоящему» дому, ее прямо-таки тянуло к дороге, ведущей мимо старых высоких платанов, растущих там напротив. Так ведь бывает и с нами, людьми: когда мы, закрыв глаза, думаем о своей родине, она находится в нашем воображении не просто где-нибудь, а в совершенно определенном направлении. Мы могли бы рукой точно указать где. Но – увы! – это ощущение обманчиво. Наша «тоска по родине» играет с нами злую шутку. Это чувство, равно как и многие другие инстинкты человека, давно у нас притупилось, утеряно или пришло в полный упадок. Поэтому тяга к дому неминуемо заведет нас в обратную от дома сторону, и мы непременно собьемся с правильного пути. А вот тяга к родному дому в «душе» у Муши обязательно поведет ее в правильном направлении, прямиком туда, где находится ее родина, потому что кошка должна жить там, где она выросла, если хочет избавиться от гнетущей тяги по дому.
Спустя пару дней фрау Пумпель позабыла запереть на ночь кухонное окно. К тому же она думала, что кошка уже свыклась с новой обстановкой. Когда наступила ночная тишина, явственно доносившая журчание близлежащего ручья, серая кошка снова отправилась в путь. Она бежала обычной кошачьей подпрыгивающей рысцой, но напрямик, пересекая улицы, сады, перелезая через заборы, – в строго определенном направлении.
Каждый раз, когда ее что-то пугало, кошка забиралась на какое-нибудь близлежащее дерево и оглядывалась по сторонам. То же самое она сделала, когда две собаки из Бухенберга – Фокс и Ники – напали на ее след и, возбужденно принюхиваясь, погнались за ней. Правда, убежище ее на сей раз оказалось не слишком надежным: слабое, молодое деревце, которое гнулось и качалось от наскоков рассвирепевших псов, обнаруживших своего врага, затаившегося там, наверху, и с бешеным лаем подскакивающих и царапающих кору, Крона деревца состояла всего из шести-семи веток, и кошке приходилось судорожно вцепляться в них когтями, чтобы не свалиться вниз. Всю ночь несчастному животному пришлось просидеть на дереве, потому что собаки не уходили далеко, раскапывая кроличьи норы совсем поблизости от дерева. Каждый раз, когда они сколько-нибудь удалялись в сторону, кошка предпринимала отчаянные попытки бегства, однако это неизменно привлекало внимание собак и влекло за собой новую громогласную осаду. К десяти часам утра кобели наконец угомонились и поплелись опустошать свои домашние миски. Вся кора дерева была снизу изодрана в клочья от их неуклюжих попыток взобраться наверх. Крестьянин, владелец участка, удивленно покачал головой, когда несколько позже обнаружил следы этой баталии: «И с каких это пор косули в это время уже принимаются за свои ристалища?»
Что же касается Муши, то она, следуя своему внутреннему зову, уверенно бежала в течение целого дня, не меняя направления. Она была избалованной домашней кошкой, привыкшей в семь часов утра получать плошку молока, налитую заботливой рукой фрау Пумпель, а в час дня – свою долю от семейного обеда. Когда Муши пробегала мимо отдельно стоящего хутора, то заметила полную миску с едой, поставленную возле закрытой двери. Жадно, но в деликатной и благовоспитанной манере, свойственной всем кошкам, она принялась за еду. В тот же миг из сарая выскочил возмущенный хозяин миски – огромная взъерошенная овчарка.
Бедная Муши! Что теперь делать? Кто ей поможет? Рядом гладкая стена дома, вокруг ни единого деревца, да если и побежать, страшный пес все равно догонит и схватит! Так что Муши осталась сидеть на месте, невзирая на бешеный стук своего маленького сердечка. Уши прижались к голове, спина выгнулась дугой, поднятый кверху хвост метет из стороны в сторону и извивается как змея. Левая лапа грозно поднята и готова к молниеносному удару. Каждый раз, когда собачий злодей, нагавкав себе достаточно смелости, бросается ей навстречу, она, громко фыркая и плюясь, отвешивает ему молниеносную оплеуху. Собачья морда искажена от бешенства, напоминая дик дьявола: десны обнажены, клыки щелкают, лоб собран в злобные складки: собака не только охраняет свою еду, она хочет еще схватить и разорвать этого нахального пришельца!
Наконец дверь отворилась, и в тот миг, когда мужчина перешагнул порог, кошке, воспользовавшись замешательством, удалось скрыться.
Вконец измученная и изголодавшаяся, она под вечер добралась наконец до старого дома. А туда как раз только что приехала Леночка, которую любезно подбросил на машине ее новый шеф. Вместе с нею увязался и братец. Увидев беглянку, все очень обрадовались, но Муши после волнений этого дня была в таких растрепанных чувствах, что не давала себя схватить и спряталась в кустарнике. После нескольких бесплодных попыток мальчишка, ликуя, появился с кошкой в руках.
Целых четырнадцать дней Муши оставалась запертой в новой квартире Пумпелей. Днем она и не делала никаких попыток сбежать, а оставалась самой что ни на есть послушной и примерной кошкой, но ночью… Ночью в нее точно бес вселялся! Она металась по подоконнику, жалобно мяукала и кричала до тех пор, пока сердце фрау Пумпель однажды не вынесло этих страданий, и она необдуманно выпустила свою любимицу «на волю». Только ее и видели!
В другой раз кошка ускользнула через парадную дверь в тот момент, когда господин Пумпель расписывался за заказное письмо.
Изловить беглянку становилось все труднее. Теперь Пумпелям приходилось вдвоем и даже втроем выезжать на старую квартиру, чтобы отыскать и поймать в кустах это «неверное создание». Когда она наконец уже сидела на коленях своих хозяев, то бывала счастлива безмерно и умела выразить это счастье громким мурлыканьем, ласкалась и жалась к близким ей людям. Бедное животное! Оно никак не могло совладать с раздиравшими его чувствами!
Однажды ее не было целую неделю. Найти кошку удалось только с помощью объявления. Ее держала у себя пожилая дама, которая подвязала ей на шею колокольчик и заперла в помещении вместе с восемью другими кошками.
Кошка постепенно дичала. Скоро поймать ее на старой родине становилось почти невозможным: Пумпели ездили за ней три-четыре утра подряд, и все без толку: она жалобно откликалась из кустов, но выйти не решалась и не давалась в руки. Однажды она оказалась искусанной и поцарапанной, потому что, измученная голодом, была вынуждена подраться с большой и сильной кошкой из-за плошки молока.
При этом надо сказать, что Муши была привязана к фрау Пумпель искренней любовью, гораздо более сильной, чем это бывает у других кошек по отношению к своим хозяйкам. Ведь, если вы помните, Муши не знала своей матери. Матерью ее была фрау Пумпель, которая выходила, выкормила и вырастила ее своими руками. Кошка всю свою жизнь прожила у одних и тех же хозяев. А фрау Пумпель в свою очередь так привязалась к найденышу, что не переставала горевать и плакать по поводу странного и необъяснимого вероломства этого ласкового и привязанного к ней существа. Знакомые уже начали пожимать плечами: ну можно ли так убиваться из-за какой-то кошки? Но фрау Пумпель знала, как трудно приходится ее несчастной Муши на старом месте, что она голодает, что собаки ее гоняют, а охотники того и гляди пристрелят. И в своем отчаянии решила написать мне письмо, умоляя посоветовать, что делать. Но, к сожалению, мы, казалось бы, такие умные, ученые люди, на самом деле знаем так позорно мало о наших четвероногих друзьях! И сделать можем ничтожно мало. Даже приучить маленькую кошку к новому дому и то не умеем. Так что бедной Муши предстоит и дальше вести свою бездомную, полную опасностей жизнь.
А мне осталось сделать только то, что я обычно делаю в таких случаях: рассказать своим читателям о несчастной кошке, мечущейся между двумя своими родинами…

Глава девятая
«Витаминные фабрики» животных

Мой сосед держит козу, с которой всю последнюю зиму творится что-то неладное. Что, собственно, с ней такое, сказать трудно, однако он пришел ко мне с просьбой сделать ей пару инъекций аскорбинки: говорят, что очень полезно. И даже если козе мало поможет, все равно хорошо – в молоке, по крайней мере, станет побольше витамина С, детишкам это совсем не помешает! Так он думает.
Но я-то знаю, что козе такие инъекции совсем ни к чему. Вот будь это морская свинка – тогда другое дело. Потому что у этих смешных толстых зверюшек одно с нами, людьми, общее: они могут, как и мы, заболеть цингой. Правда, у себя на родине, в Перу, где разгуливает масса как диких, так и домашних морских свинок, они никогда не страдали от подобного заболевания. Это мы, люди, наградили несчастных подопытных животных такой болезнью.
А сами мы, двуногие существа, начали болеть цингой… из-за компаса. Да, да, именно из-за обычного компаса. Ведь большинство болезней столь же стары, как и само человечество. Но в то время, как нам прекрасно известно, что чума за какие-то несколько лет превратила некогда процветающие Афины – город государственных мужей, философов, ваятелей и поэтов – в незначительный заштатный городишко, мы напрасно ищем у древних хоть какое-то упоминание о болезни мореплавателей – цинге. При этом ведь известно, что уже финикийцы добирались из Средиземного моря до Балтийского, да и греки были отважными мореплавателями. Но они не знали компаса и посему были вынуждены держаться близ берегов, а это позволяло им запасаться по мере необходимости свежим провиантом; да и что им оставалось делать, коли тушенка и маринованные селедки еще не были изобретены?
Но вот в XV столетии, когда испанцы и португальцы обошли на своих кораблях полсвета, эта болезнь подняла голову. Во время плавания Васко да Гамы в 1498 году в Калькутту погибли пятьдесят пять человек его команды, причем в страшных мучениях. И с тех самых пор пугающие вести об этом опасном заболевании, преследующем моряков в дальних странствиях, не прекращались. Когда сегодня читаешь подробные описания того, как у людей вываливались зубы, как кожа их покрывалась пятнами, а ноги сводила судорога, просто зло берет: ведь нам теперь хорошо известно, как легко можно было спасти этих несчастных!
А в те времена один гамбургский врач считал, что цингу может излечить кофе. Благодаря этому заблуждению Гамбург может похвастаться своим первым «кофейным заведением», открытым еще в 1680 году. Другой врач рекомендовал есть майских жуков. Так постепенно добрались до средств, на самом деле действенных против цинги. Балдуин Рус из Гента советовал людям есть ложечницу, а профессор Доель из Грейфевальда, наблюдая за тамошним населением, состоящим в основном из моряков, заметил, что от цинги хорошо помогает жерушник.
Особенное раздражение вызывают у нас сообщения о том, что люди мучились от цинги на одном из голландских кораблей, везшем лимоны! Все равно, как если бы кто-то умер от жажды, сидя возле ручья. Но, слава тебе Господи, наитие или счастливая случайность надоумили заболевших поесть лимонов, и – смотрите-ка – десны укрепились, они потеряли свою синюшную окраску, и ногами снова можно было пользоваться! Средство против цинги было найдено! Случилось это в 1564 году.
Но это еще не означало, что с цингой покончено. Только два века спустя на английском флоте была введена обязательная выдача команде лимонного сока, а капитанов, пренебрегавших этим законом и не запасавшихся на дальние плавания лимонным соком, облагали штрафом. Однако еще в 1866 году на испанском фрегате «Ла Бланка», шедшем из Сан-Лоренсу в Рио, из четырехсот пятидесяти человек заболело цингой двести семьдесят девять, из которых пятьдесят пять умерли.
Когда еще не существовало ни высших учебных заведений, ни научно-исследовательских лабораторий, ни современных клиник, новому лекарственному средству было трудно пробиться сквозь всяческие препоны и шарлатанство. Поэтому господину «кайзеровскому протомедикусу на Рейне», как именовался тогда Иоганн Крамер, в 1746 году еще приходилось напутствовать своих молодых коллег следующим образом:
«Не занимайся бесконечным смазыванием гниющих десен и парализованных коленей мазями, потому что это нисколько не помогает без соответствующего „внутреннего“ лечения; прием лекарств внутрь излечит эту болезнь безо всяких наружных смазываний. Необходимый целебный экстракт содержится только в свежих, сочных, то есть водянистых и одновременно довольно острых на вкус, овощах. Если у тебя их нет, то используй лимонный сок».
Опыт лечения цинги доктор Крамер, как ни странно, приобрел на суше. В те времена цинга разражалась еще довольно часто и среди сухопутных войск, в особенности во время длительной осады. В Нюрнберге, по сообщениям очевидцев, она встречалась еще в 1911 году, в особенности среди мужчин. В России того времени помимо тифа и других эпидемий свирепствовала цинга, унесшая колоссальное число жертв. В немецком флоте цинга тоже объявлялась не раз: так, с 1855 по 1875 год приходилось по 2,4 случая на тысячу человек. В 1847 году, когда юный Штраус уже прославился своими вальсами, на «прекрасном голубом Дунае» свирепствовала эпидемия цинги. По всей вероятности, только появление картофеля изгнало ее окончательно.
«Страшный скорбут» можно побороть употреблением в пищу лимонного сока и свежих овощей – это по прошествии трех столетий уяснил себе даже самый неопытный корабельный кок. Однако что именно в лимонном соке является целебным – об этом вплоть до Первой мировой войны распространялись самые нелепые представления. И лишь в 1913 году догадались, что цинга – болезнь, вызванная нехваткой, витаминов в организме. А в 1920 году недостающий витамин, вызывающий цингу, впервые получил название – витамин С.
Тильманс добыл из тридцати пяти килограммов шиповника 5,7 грамма чистого витамина С, Сен-Жорж из десяти литров сока, выжатого из стручкового сладкого перца, получил 6,5 грамма, а Кинг из десяти литров лимонного сока – от 1 до 1,5 грамма чистого витамина С.
К концу 1933 года химический концерн «Мерк», в Дармштадте, добывал из свежего зеленого перца уже основательное количество этого витамина для научных целей. Вскоре выяснилось, что шпажник содержит втрое больше витамина, чем перец. А затем уже витамин С стал появляться в виде таблеток на сахарной основе или в виде аскорбиновой кислоты, которую нам теперь так часто прописывают врачи.
Этот вопрос можно считать исчерпанным: цинги больше нет. Правда, еще в 1870–1871 годах, во время осады Парижа, она возникла вновь, но только в тюрьмах, больницах и домах для престарелых, постояльцы которых были вынуждены довольствоваться самой скудной казенной пищей.
А вообще-то тому, кто хочет в наши дни заболеть цингой, достаточно (из скаредности) целый год подряд ежедневно съедать по восемьсот пятьдесят граммов черного хлеба и запивать его черным кофе. Между прочим, не поручусь за достоверность, но мне рассказывали, что недавно в Берлине был зафиксирован случай заболевания цингой. Случилось это с одним пожилым господином, который, как выяснилось, питался лишь жареной ветчиной и больше ничем. Несколько инъекций, разумно составленное меню с салатами и картофелем – и мужчина снова был здоров. Так что с витамином С все как будто ясно. Стоит ли нам интересоваться им и дальше?
И все-таки стоит. Он остается необычайно интересным веществом, этот витамин С, или аскорбиновая кислота, как гласит его химическое название, даже несмотря на то, что цинга канула в прошлое. Цинга, о которой говорят, что «она нанесла флоту Великобритании больше вреда, чем флотилии Испании и Франции, вместе взятые».
Этот витамин интересен и удивителен хотя бы уже тем, что требуется человеческому организму в основательных дозах. Немало труда ушло на то, чтобы определить суточную дозу витамина С, необходимую человеку, чтобы он чувствовал себя прилично. Она равняется пятидесяти – шестидесяти миллиграммам, то есть пятой или шестой сотой грамма. И хотя это на первый взгляд выглядит очень скромно, тем не менее это большая порция по сравнению с другими витаминами, в которых нуждается наш организм. Витамина D (предохраняющего от рахита) нам требуется, например, в пять тысяч пятьсот раз меньше!
Для большинства животных аскорбиновая кислота не является витамином, потому что им не приходится, как нам, людям, принимать его с пищей. Для них это гормон, который они вырабатывают сами в собственном организме. Когда подопытных собак кормили специально лишенным витаминов кормом, чтобы искусственно вызвать у них цингу, они, к удивлению экспериментаторов, не заболевали и продолжали как ни в чем не бывало выделять с мочой аскорбиновую кислоту! Доказательство того, что они вырабатывают ее где-то в собственном организме. Но где? Этого мы пока не знаем. А поскольку коровы и козы проделывают то же самое, то мы, после длительного отступления от первоначальной темы, окольными путями, вновь вернулись к больной козе моего соседа. Ей не нужны инъекции «аскорбинки», потому что у нее есть собственная «витаминная фабрика».
А вот бедной морской свинке – той приходится, как и нам, старательно заглатывать витамин С, да притом еще в больших дозах, чем нам. Следовательно, если давать морским свинкам безвитаминный корм и добавлять к нему определенное количество, скажем, шиповника, то нетрудно вычислить, сколько аскорбиновой кислоты содержится в красном шиповнике. Это довольно долгое и нудное занятие, на которое уходят целые месяцы. Но зато оно дает гораздо более точные результаты, чем любое химическое исследование.
С помощью тех же морских свинок мы узнали, что установленная доза витамина, которую мы заглатываем, хотя и достаточна для того, чтобы не заболеть цингой, однако не спасает нас от «гиповитаминоза», проявляющегося в кровоточивости десен во время чистки зубов, весеннем переутомлении и в плохой сопротивляемости разного рода инфекциям. Значит, для того, чтобы быть абсолютно здоровым и работоспособным, необходима еще большая доза витамина С. А для лечения различных болезней, например туберкулеза, потребность организма в витамине С еще значительно увеличивается, как мы увидим несколько позже.
Ужасно не повезло нам с тем, что человеческий организм не в состоянии накапливать больших запасов аскорбиновой кислоты. В отличие, между прочим, от других витаминов. Запасы витамина С в нашем организме ничтожно малы. Если же мы попытаемся их увеличить, то золотой излишек витамина С выйдет вместе с мочой, и все. Следовательно, чтобы распределить эту благодать разумно и равномерно, в последние годы взялись тщательно изучать содержание витамина С в различных пищевых продуктах. При этом выяснились весьма удивительные вещи.