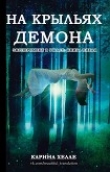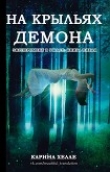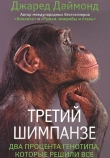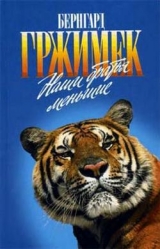
Текст книги "Братья наши меньшие [Мы вовсе не такие]"
Автор книги: Бернхард Гржимек
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 35 страниц)
Глава восемнадцатая
Лошади и горы

Было это в один из воскресных дней много лет назад. С только что приобретенной книгой под мышкой я лениво брел вдоль края долины, пока не достиг канатной дороги. Там я сел в вагончик, и меня плавно понесло вверх, на высоту семисот метров, вон из жаркой парилки Больцанской (Боценской) котловины. Крепость «Рукельштейн», только что горделиво и надменно взиравшая со своих высот на меня, жалкого, пропыленного путника, покачиваясь, двинулась мне навстречу, скромно присела и стала уползать вниз, все больше и больше съеживаясь. Через две минуты она превратилась уже в едва заметный игрушечный домик, спустившийся вместе с окрестной деревенькой на дно этого бывшего гигантского моря…
И вскоре я уже удобно расположился под дубом на бывшем берегу этого бывшего моря и разглядывал сияющие снежные вершины, высящиеся на противоположной стороне котловины.
В книжной лавке я раздобыл себе антикварную книжку – Джон Гагенбек «С кочующим народом Индии». Как истинный ценитель подобной литературы, я вскоре зачитался ею и мысленно улетел на берег Ганга, а когда отрывал глаза от книги, то задумчиво созерцал окрестные вершины, сложенные из хаотичного нагромождения доломитов.
Когда я полчаса спустя хватился своей куртки, то ее не оказалось. Ведь только что лежала возле самой моей головы! Вокруг ни души. Но внезапное озарение подсказало мне, кто мог ее стащить. И правда, скрытые от меня кустарником, на зеленом травяном ковре паслись три лошади. А в нескольких шагах от них валялась злополучная куртка.
При моем приближении все произошло именно так, как я и ожидал: молодой жеребец схватил куртку зубами и игриво поскакал с нею прочь. Я за ним через кустарники альпийских роз и по зарослям горечавки в яркую синюю крапинку… Началась увлекательная игра в «пятнашки». Вернее, увлекательная для жеребца и кобыл, но не для меня. Самый гвоздь заключался в том, чтобы подпустить меня на расстояние десяти метров, даже выронить как бы невзначай куртку, но в последний момент схватить ее зубами и ринуться прочь, да так, чтобы комья влажной земли из-под копыт летели мне прямо в лицо!
Как известно, кто разумнее, тот и уступит (в особенности если у него ноги покороче, да к тому же их вдвое меньше!). Поэтому я снова улегся на старое место и с безразличным видом раскрыл книгу. Вскоре и жеребчик мой утерял интерес к яркой куртке и, пощипывая траву, стал мало-помалу от нее удаляться. В тот момент, когда он исчез за живой изгородью, я, словно индеец, по-пластунски подобрался поближе и затем в несколько огромных прыжков снова овладел своей собственностью. Со стороны это, наверное, выглядело несколько странно.
Но откуда, спросите вы, я догадался, что именно лошадь могла утащить мою одежду? Зачем она ей понадобилась? Извольте, объясню. Это было одно из удивительных совпадений, счастливая случайность, которые порой происходят в нашей жизни: я как раз прочел в книге Гагенбека о трех суматранских пони, которые паслись совместно с индийскими овцами.
«У овец ежегодно появлялись на свет ягнята, и молодняк резвился тут же, возле взрослых, совершая свои потешные прыжки. Это почему-то особенно нравилось жеребцам-пони: они стремглав подскакивали к такому белому шерстистому комочку, хватали его зубами за спину и оттаскивали куда-нибудь в сторонку, в то время как овца, испуганно блея, бежала за ними следом. Один такой жеребчик почему-то обнаруживал явное пристрастие к белым предметам. Он способен был часами развлекаться куском белой бумаги и доводил конюха до полного отчаяния тем, что срывал с веревки выстиранные им рубахи, утаскивал куда-нибудь подальше и там бросал на землю. В один прекрасный день он с самым невинным видом подошел к детской коляске, разрешил молодой мамаше угостить себя сахаром, а визжащему от восторга ребенку позволил себя погладить, но потом… молниеносным движением вырвал подушку из-под головы младенца и был таков. Довольный, он гарцевал с подушкой в зубах по двору, и отнять ее у воришки удалось не без труда. Однако как только владелица коляски водворила подушку на место, он подскочил к ней и похитил ее снова».
Я повнимательнее приглядываюсь к пасущимся рядом ладным лошадкам, которые здесь, наверху, сыграли со мной подобную же шутку. Они рыжей масти и, в сущности, довольно низкорослы. Внезапно меня осеняет, почему они кажутся мне столь знакомыми: таких же точно, только с султаном из разноцветных перьев на голове, я видел в прошлом году в цирке, на манеже, в ярком свете прожекторов. Это так называемые хафлинги – маленькие, невзрачные вьючные лошаденки, которых знаменитый цирк тогда впервые демонстрировал вместо обычных арабских скакунов или снежно-белых липиццанских красавцев.
Я ведь сейчас нахожусь как раз на южнотирольской родине этих лошадок, которых отсюда последние десятилетия не только вывозили для показа в цирках, но и расселяли по разным другим горным и даже равнинным областям Центральной Европы.
У этих мелкорослых, чаще всего не превышающих в холке 1,55 метра, лошадок довольно своеобразная история. Родом они из высокогорья, расположенного северо-западнее Больцано (Боцена), где до многих хуторов и деревенек можно добраться только пешком по узким головокружительным горным тропам.
Счастливый случай, который в коннозаводческом деле встречается раз в несколько десятков, а то и сотен лет, свел пятилетнего благородного арабского жеребца Эль Бедави XII с тирольской крестьянской кобылой. От них в 1874 году в Тироле появился на свет прелестный жеребенок рыжей масти с темной полосой вдоль всего хребта. Нарекли его Фоли, и все сегодняшние хафлинги являются потомками этого знаменитого родоначальника. Если проследить родословную ныне здравствующих производителей этой породы лошадей, то легко заметить, что не менее двухсот сорока племенных жеребцов – внуки и правнуки знаменитого Фоли. Два сына этого жеребца выдались особенно удачными. Одного из них, по кличке Хафлинг, за его выдающиеся качества производителя австрийское государство дважды выкупало из частного владения; будучи уже поседевшим, пожилым, двадцатитрехлетним жеребцом, он на конезаводе «Кальванг» в Штейрмарке все еще продолжал производить на свет свое ценное потомство.
Энергичные тирольские конезаводчики пытались впоследствии повторить с помощью других арабских жеребцов скрещивание, оказавшееся столь удачным для Эль Бедави. Но точно так же, как у родителей Моцарта среди всех их детей появился на свет только один Вольфганг Моцарт, так и среди всех последующих жеребят ни разу больше не удалось получить подобного Фоли.
А уж инбридинг, близкородственное размножение среди хафлингов, распространен настолько, что волосы встают дыбом! И то, что они при этих обстоятельствах все же остаются такими крепкими, здоровыми, с огромным запасом прочности, объясняется исключительно суровыми климатическими условиями их родины, в которых все слабое безжалостно выбраковывается, то есть происходит жесткий естественный отбор. Когда этих лошадей перегоняют на летние пастбища в Альпы, на высоту 2000 метров, дорогу туда зачастую приходится расчищать в глубоком снегу. Так, Ретийские Альпы, относящиеся в большей своей части к Швейцарии, столь неприступны, что пригодны для выпаса лишь со стороны Австрии. Домашний скот там в любую погоду, даже во время штормов, под снежной метелью и градом стоит не защищенный никакими навесами: зачастую рядом с выносливыми лошадками можно найти замерзших под снегом телят и овец. Здесь выживают только сильные и здоровые! Недаром у жеребят-хафлингов такая густая, лохматая шерсть, а материнское молоко они тут, наверху, сосут до полугодовалого возраста.
То, что хафлинги называются именно хафлингами, ничем не оправданно. Лет двадцать назад один знаток лошадей так писал об общинной земле Хафлинг (ныне Авеленго): «Там не удалось обнаружить ни малейшего намека на коневодство, более того – там вообще очень мало лошадей».
Но если эти лошадки даже не совсем по праву носят свое название, то во всяком случае вполне заслуженно пользуются славой добросовестных альпинистов, которые с тяжелой поклажей, иногда до полутора центнеров, на спине способны карабкаться на высоту до тысячи, а то и две тысячи метров.
На следующий день я взял у одного местного крестьянина напрокат кобылку этой породы и бодро пустился на ней осматривать Альпы. Порой просто хотелось зажмурить глаза от страха, когда она, ничтоже сумняшеся, топала вниз по невероятно крутым, растресканным или отполированным до блеска скалистым тропам или же в спокойствии душевном опускала свои копыта на самый край головокружительного обрыва…
А ведь лошади, между прочим, степные животные. Тем более удивительно, как инстинктивно-уверенно они ведут себя в условиях высокогорья. Известный исследователь Тибета Фильхнер стал однажды невольным участником подобного «опыта». На обледенелой наклонной плоскости лошадь под ним поскользнулась и упала. Оба они стали сползать в сторону глубокого обрыва, пока Фильхнеру не удалось всадить в лед свой кинжал. Лошадь вцепилась в смертельном испуге зубами в пальто ученого и лежала абсолютно неподвижно, словно бы знала, что от любого движения может снова начать сползать вниз. Она не шелохнулась и тогда, когда Фильхнер стал привязывать к ее уздечке толстую веревку, чтобы, забравшись на безопасное, необледенелое место, подтащить к себе лошадь. Как только он начал тянуть за веревку, лошадь мгновенно вскочила, и, хотя копыта ее то и дело срывались и скользили, она тем не менее благополучно сумела выбраться с коварной обледенелой поверхности.

Глава девятнадцатая
Подкидыши

Кукушку почему-то считают птицей больших крайностей. Одни полагают, что в ней сидит сам черт, другие – что она приносит прямо-таки лучезарное счастье. Даже в роли тайного судебного исполнителя ей приходится иной раз выступать! Ведь посылая кого-нибудь к кукушке, мы имеем в виду отнюдь не небольшую пеструю лесную птицу, а самого дьявола собственной персоной! А если мы пожелали кому-то, чтобы его «кукушка взяла», то это означает: «чтоб черти сволокли тебя в ад» или «провались в тартарары…» [27]27
Речь идет о простонародных немецких ругательствах, синонимом которых в русском языке служат: «пошел ты ко всем чертям» или «провались ты пропадом». (Примеч. перев.)
[Закрыть]
Но стоит только в лесу закуковать кукушке, как мы уж тут как тут со своими настойчивыми пожеланиями, и давай скорее считать, сколько раз она прокукует, чтобы выведать, сколько же лет нам еще суждено прожить на этом свете. А поскольку мы всегда радеем о собственном благополучии, то заодно потряхиваем последней монеткой в кармане, надеясь, что при помощи этой маленькой хитрости поспособствуем тому, чтобы у нас весь год водились денежки. А вот четыреста лет назад кукушка помогала еще и против блох! В старой книжке о животных можно прочесть следующее: «Когда услышишь ее крик, нужно поскорее правой ногой очертить на земле круг, и тогда ни одна блошка до тебя уже не доберется…»
Но это все вопросы, касающиеся скорее специалистов по народным поверьям, чем любителей природы. Но и нам, зоологам, кукушка до сих пор еще задает немало загадок.
Например: когда кукушки, собственно говоря, спят? Весной, до самой ночи, часов до одиннадцати, можно услышать их перекличку, перемежающуюся воплями филинов, а около часу ночи они уже опять на ногах!
Один орнитолог определил, при какой средней освещенности птицы просыпаются и начинают петь. Оказалось, что самый чуткий сон у черных дроздов и зарянок. Они просыпаются при 0,1 люмена (сила света одной свечи на расстоянии 1 метра). Но сразу за ними уже идет кукушка, просыпающаяся при освещенности в один люмен. Вчетверо светлее должно стать, чтобы проснулись иволга и славка-черноголовка. Зяблику для этого требуются двенадцать люменов, зеленушке – сто!
Влюбленный самец кукушки – настойчивый крикун. Он приподнимает свой хвост косо кверху, слегка распускает крылья, надувает зоб и выкрикивает свое «ку-ку» во все стороны иногда по шестьдесят – семьдесят раз подряд. На мелких птиц эти его крики производят странное и озадачивающее на первый взгляд воздействие. Они начинают пикировать на него с высоты, бьют крыльями, носясь вокруг его головы, и стараются долбануть его клювом. Кукушка не в силах прогнать эту назойливую мелюзгу, сколько бы она ни старалась ухватить своих преследователей, издавая при этом хриплое шипение.
Но стоит только явиться на его зов самке-кукушке, как тут же начинается бешеная погоня, в которой подчас участвует по два-три самца сразу. Кукушечьи обычаи не возбраняют самке осчастливливать нескольких самцов подряд. Единобрачия у этих странных птиц вообще не существует. Иногда какой-нибудь самец прочесывает участок, заселенный четырьмя-пятью самками, и добивается расположения каждой из них, а случается и так, что самка-кукушка посещает попеременно владения двух самцов.
Впрочем, кукушка-самка не издает привычного кукования, предвещающего, сколько лет кому еще предстоит прожить. Так кричат только самцы. Самки же издают лишь торопливое «вик-вик-вик». Тем не менее влюбленного самца-кукушку можно приманить его собственным криком. Разумеется, для этого недостаточно просто прокричать «ку-ку», а следует более естественно подражать их зову. Тогда самцы воображают, что приближаются к ненавистному сопернику.
У мелких же пичуг есть все основания злиться на кукушку. Ведь это именно они, как известно, вынуждены играть роль приемных родителей для их подкидышей – печально известных кукушат. Сто шестьдесят два вида птиц кукушка «облагодетельствует» своими яйцами, начиная с крошечного королька и кончая крупными горлицами и вяхирями. Взрослая кукушка весит примерно столько же, сколько черный дрозд, а это значит около ста граммов. Тем не менее она откладывает яички, не превышающие размером воробьиные, а весом в три грамма, в то время как черный дрозд и другие птицы той же величины откладывают яйца весом в восемь граммов. Тому есть свои причины: ведь кукушка «осчастливливает» ими в первую очередь мелких птиц. А те бывают отнюдь не в восторге от подобного наглого вторжения и защищают свои гнезда с бешенством и отчаянием. Поэтому кукушка вовсе не жаждет застать хозяев гнезда дома. В жульническом подбрасывании яиц самке отчасти помогают и самцы: они своим криком намеренно отвлекают на себя разгневанных маленьких родителей, непрерывно их атакующих, а самка тем временем крадучись, потихоньку подкладываетсвое яйцо в кладки законных владельцев гнезда. По таким же причинам она старается откладывать свои яйца, в отличие от мелких птиц, не по утрам, а в послеобеденные часы, когда представляется наибольшая вероятность застать гнездо пустым.
С откладкой яиц кукушка не поспешает. Ведь ее яйца вовсе не предназначены для равномерного высиживания в одной общей кладке, как это имеет место у всех других птиц. Примерно через каждые два дня она неподвижно замирает на час, а то и на три возле облюбованного ею чужого гнезда. Выбирает подходящий момент, когда оно остается пустым, подлетает к нему, хватает в клюв одно яйцо из кладки, поспешно откладывает на его место свое и улетает с ворованным трофеем в клюве. Яйцо это, как правило, затем съедается. Чтобы проглотить его, кукушке приходится задирать клюв почти вертикально кверху, и если понаблюдать за ней в этот момент, то видно, что заглатывание его для птицы дело отнюдь не легкое и не простое.
Долгое время спорили о том, каким способом удается кукушке подкладывать яйца в кладки дуплогнездников – птиц, строящих свои гнезда в дуплах деревьев. Ей ведь невозможно туда протиснуться. Однако теперь уже многократными наблюдениями установлено, что кукушка способна, в случае необходимости, отложить свое яйцо на землю, а затем, взяв его в клюв, водворить в дупло.
Иной раз в одном гнезде можно обнаружить сразу два, а то и три и даже четыре кукушечьих яйца. Но принадлежат они всегда разным самкам. В случае если приемные родители поддадутся на подобный массовый обман, то после того, как вылупятся кукушата, будут разыгрываться настоящие трагедии.
Кукушечьи яйца могут выглядеть весьма различно, и распознать их в кладке приемных родителей способны иной раз только специалисты. И лишь у крапивника, пеночки и лесной завирушки это обстоит иначе: там кукушечье яйцо явственно отличается от основной кладки. Однако крапивники и пеночки слишком малы и слабы, чтобы выдворить чужака из своих глубоких гнезд. А вот почему лесная завирушка разрешает себя обманывать и не протестует против подлога – этого до сих пор выяснить не удалось.
А вообще-то только те виды птиц, которым не приходится иметь дело с кукушкой, бывают простодушны и доверчивы по отношению к чужим яйцам. Именно поэтому так легко удается подкладывать несушкам гусиные яйца: они охотно соглашаются сидеть даже на гипсовых, а то и просто на картошке; и уже бывали случаи, когда лебеди пытались высиживать пивные бутылки. Что же касается мелких птиц, то те разглядывают и проверяют свои кладки весьма внимательно, хотя и не в состояния заметить столь тонких деталей в их различии, как человек. По всей вероятности, они не так уж точно знают, как должны выглядеть их собственные яйца, а больше следят за тем, чтобы в кладке все яйца были одинаковыми.
Один орнитолог проделал как-то такой опыт с малиновкой. Он забрал у нее из гнезда незаконченную кладку, а вместо нее этот «зловредный дядька» подложил туда то же самое число яиц славки-завирушки. Когда обманутая малиновка отложила свое следующее яйцо, то обнаружила, что оно отличается от всех остальных в кладке, и не долго думая выбросила его из гнезда. И села насиживать чужие яйца славки-завирушки. Следовательно, она приняла собственное яйцо за чужое только потому, что оно по форме и цвету отличалось от всех остальных.
Когда кукушка замечает мелких птиц, занятых постройкой гнезда, ее прямо-таки подмывает приступить к откладке яиц. Она старается поместить свои яйца именно в свежие, только что достроенные гнезда, с неполными еще кладками, потому что яйца в законченных кладках могут оказаться уже сколько-нибудь насиженными, и тогда кукушонок появится на свет позже положенного срока и не успеет вытолкнуть своих «братьев» из гнезда. Поэтому кукушка внимательно следит за намеченной жертвой, чтобы точно знать, близок ли конец постройки гнезда, дабы не пропустить начало откладки яиц. В то время как кукушки обычно держатся очень скрытно и осторожно, они в период размножения становятся весьма беззастенчивыми и в поисках подходящих гнезд залетают даже в сараи и на сеновалы. Способны они подниматься и высоко в горы, когда обитающие там мелкие птицы поздним летом приступают к откладке яиц. Более того, кукушки порой доходят до того, что нарочно разрушают старые гнезда, чтобы заставить их владельцев построить новое…
Небезынтересен следующий вопрос: способна ли кукушка по своему усмотрению откладывать то голубые яички, требующиеся для гнезд горихвостки, то белые с полосками на тупом конце, необходимые для того, чтобы обмануть бдительность камышовой овсянки, а то крапчатые – для малиновки? И хотя жизнь и повадки кукушек достаточно удивительны, но все же не настолько. Просто самка-кукушка, вылупившаяся в свое время из голубого яйца, будет впоследствии и сама откладывать голубые яички и осчастливливать ими гнезда горихвосток, и лишь в том случае, если она не сумеет разыскать достаточное число гнезд горихвосток или почему-либо поведет себя по-глупому, то начнет откладывать свои яйца в другие гнезда, откуда они чаще всего незамедлительно бывают выброшены возмущенными хозяевами и, вписав крутую дугу в воздухе, шлепаются на землю…
Итак, выяснилось, что кукушки, внешне выглядящие совсем одинаково, делятся на различные расы, подбрасывающие свои яйца совершенно определенному виду птиц-хозяев. Будь это не так и подбрасывай они свои яйца, например, одним лишь крапивникам, то этим несчастным пришлось бы высиживать одних только кукушат и они скоро бы вымерли окончательно. Поэтому надо считать большим счастьем для мелких певчих птиц, что кукушки не составляют постоянных пар, а предпочитают свободную любовь. Таким образом, у них самцы и самки различных рас настолько перемешиваются, что в одной и той же местности появляются кукушечьи яйца самых разнообразных расцветок и распределяются более или менее равномерно по гнездам различных мелких птиц. Если же в каком-нибудь районе обоснуются кукушки, откладывающие специализированные яйца для гнезд тростниковых камышевок, то этим бедным птичкам придется плохо.
Нечто подобное было прослежено на одном из небольших озер. Там в 1919 году тростниковые камышевки вывели десять собственных выводков и четырех кукушат. Спустя год собственных выводков было девять, а кукушат – шесть, в 1922 году у этих птиц оставалось лишь три собственных выводка, зато подкидышей было уже восемь, а в 1925 году выжил всего один выводок тростниковых камышевок, в то время как в семи других гнездах сидели раскормленные кукушата с жадно раскрытыми клювами. Так в какой-нибудь местности определенный вид птиц по вине кукушек может оказаться истребленным. Разумеется, впоследствии это неминуемо приведет к тому, что такая нацеленная на тростниковых камышевок кукушечья раса вымрет и сама. Например, на озере Мюггельзее, близ Берлина, за последние годы совершенно исчезли кукушки, которые прежде осчастливливали своим потомством гнезда малиновок. Остались там только кукушки, «опекающие» гнезда камышевок, в кладках которых и по сию пору находят чужие яйца.
Тем не менее подбрасывание подкидышей – дело не такое уж простое, как полагали прежде. Ведь подсчитывали обычно только число птенцов, выживших в гнездах, а не исчезнувших яиц. На самом-то деле только шестьдесят два процента подкинутых яиц бывают приняты приемными родителями, а кроме того, еще тридцать процентов от оставшихся портятся во время насиживания. А из вылупившихся кукушат только сорок три процента становятся летными.
Неугодное, подозрительное яйцо птица обычно проклевывает, хватает клювом за край скорлупы и выбрасывает вон из гнезда. Однако проделать это с кукушечьим яйцом не так-то просто, потому что оно предусмотрительно снабжено гораздо более прочной скорлупой, чем равные по размеру яйца других птиц. Наиболее недоверчивыми проявляют себя пеночки: семьдесят семь процентов своих гнезд, занятых кукушечьими яйцами, они просто бросают и строят новые. А вот горихвостки, так те, как правило, никогда не отказываются от подкидышей.
Маленький кукушонок выбирается из яйца за день или два раньше, чем его сводные братья и сестры. И для этого у него есть серьезные причины. Появляется он на свет совершенно голым и с необыкновенно чувствительной кожей. Поэтому маленький крепыш весьма болезненно переносит любое, даже самое незначительное прикосновение. Если в первые четыре дня жизни до кукушонка дотрагиваться пальцем, он будет вести себя так, словно его колют раскаленными иглами. Все, что находится рядом с ним, причиняет ему боль и страдания. Поэтому еще слепой малыш начинает приседать, прижимаясь к самому лотку гнезда, и старается, чтобы находящееся по соседству яйцо или братишка перекатились ему на спину. На спине у кукушонка имеется специальная ложбинка, в которой он с помощью своих обрубочков-крыльев удерживает жертву, затем он с великим трудом подтаскивает ее к краю гнезда, и… вот она уже кубарем летит вниз, задевая за ветки. В отличие от своих братьев и сестер, отчаянно дрыгающих лапками и крылышками, этот увесистый молодец двигается по гнезду при помощи одной лишь головы. Поступай он иначе, дом его приемных родителей, это рыхлое, непрочное строение, мог бы живо развалиться, в особенности если речь идет о хрупких гнездах малиновки. В течение последующих четырех дней кукушонок оперяется, и своеобразная удивительная «тяга к выбрасыванию» постепенно в нем угасает, но к этому времени вокруг него бывает уже пусто.
«Но в том, что он делает это умышленно, притом именно в первые два-три дня своей жизни, в этом я совершенно не убежден, – писал в прошлом веке орнитолог Науманн, – трудно поверить, чтобы такое маленькое, беспомощное существо могло бы действовать столь сознательно, настойчиво и эгоистично».
Зоолог Хайнрот возражает: с таким же успехом можно оспаривать тот факт, что младенец знает, что ему положено сосать молоко, в то время как ему ведь неведомо, что для переваривания молока необходимо выделять сычужный фермент, пепсин и соляную кислоту…
Но плохо дело, когда в одно и то же гнездо попало несколько кукушечьих яиц, отложенных разными кукушками! Между вылупившимися из яиц крошечными созданиями тогда разыгрывается жесточайшая борьба не на жизнь, а на смерть. И заканчивается она только после того, как птенцы повыбрасывают друг друга за борт. В лучшем случае в гнезде остается один. Между прочим, кукушонок без разбора выкидывает из гнезда все, что туда положишь, – бумажные шарики и даже теплую покрышку, которой стараются обогреть искусственно выведенных в лабораторных условиях кукушат.
В последующие за этим дни кукушонку остается только одно – попрошайничать. Поначалу он делает это молча – просто широко раскрывает клюв. И это опять-таки очень разумно, потому что его «чужой» крик будет сильно отличаться от писка других птенцов, возможно еще оставшихся в гнезде. Но как только гнездо опустело, кукушонок становится громогласнее и начинает издавать свой требовательный крик.
Можно сколько угодно ломать себе голову над тем, почему приемные родители терпят, что чужак безжалостно выкидывает из гнезда их собственное потомство. Они ведь вполне могли бы его заклевать насмерть, выкинуть самого или покинуть и обречь этим на голодную смерть. Но ничего подобного им почему-то в голову не приходит. Порой можно увидеть, как птенцы малиновки, жалобно пища, висят в развилке веток под самым гнездом, в то время как самка-малиновка, не обращая на них ни малейшего внимания, удовлетворенно пестует подкидыша. Более того, может случиться, что она унесет в клюве из гнезда свою собственную кладку как посторонний предмет.
Понять подобное можно лишь в том случае, если полностью уяснить себе следующее. Птицы-родители выводят птенцов отнюдь не потому, что испытывают потребность вырастить себе потомство. Делают они это только потому, что сами получают колоссальное удовольствие непосредственно от самого процесса. Точно так же как многие другие животные, да и человек тоже, следуют зову любви не потому, что хотят завести детей, а просто потому, что удовлетворение этой потребности приносит им радость. Инстинктивную потребность «кормить и выхаживать» большущий подкидыш удовлетворяет ничуть не хуже, а то и лучше собственных мелких детей. Бывали случаи, когда содержащихся в неволе кукушат вдруг начинали подкармливать даже подростковые птицы других видов. И эти малютки старательно таскали корм попрошайничающим здоровенным обжорам! Иной раз этим крохотным птичкам приходилось садиться на голову своему питомцу, чтобы суметь засунуть корм в огромный, широко раскрытый клюв. Кроме того, один кукушонок причиняет своим приемным родителям не больше хлопот, чем собственный выводок из шести или семи голов. И хотя он такой огромный, тем не менее съедает не больше, чем все они, вместе взятые: ведь он отдает меньше тепла, чем мелкие птички. А когда он покидает гнездо, приемным родителям опять же удобнее разыскивать и кормить его одного, чем шесть или семь своих собственных деток, рассеянных по кустарнику.
Конечно, нам представляется чудовищно жестоким, что кукушка хладнокровно убивает своих братьев и сестер. Но совместно с ними ей бы не вырасти. А вот хохлатой кукушке, обитающей в Испании и Африке, не приходится превращаться в убийцу. Она откладывает свои яйца в гнезда ворон и соек, и этим крупным птицам ничего не стоит выкормить кукушонка без особых хлопот вместе со своим выводком. И вообще не все кукушки ведут жизнь паразитов. В Америке, например, есть кукушки, у которых несколько самок собираются вместе и строят совместное гнездо, в котором и выращивают сообща свое потомство. И в то же время в Южной Америке встречаются утки, которые пристраивают свое потомство на кукушечий манер. Такие утки подкладывают свои яйца в гнезда других уток родственного им вида или даже в гнезда хищных птиц. (В подобных случаях вылупившимся из яиц маленьким «кукушечьим» утятам приходится сразу же удирать со всех ног от приемных родителей, спрыгивать вниз со скалы и пристраиваться к какому-нибудь чужому утиному семейству.)
Даже у шмелей встречаются отдельные виды, которые, подобно кукушкам, проникают в гнезда других старательных и домовитых шмелей, беззаботно питаются накопленными там запасами, а личинок своих оставляют на попечение работниц-шмелей.
Но не всем плоха кукушка. Есть у нее и хорошее. Она, например, заглатывает вредных гусениц, сплошь покрытых ядовитыми ворсинками, которых другие птицы обходят стороной. Ее огромный желудок бывает сплошь набит этими ворсинками и выглядит так, словно бы имеет изнутри шерстный покров. Так что несмотря да всю свою «безнравственность», кукушки для нас, людей, привыкших рассматривать каждое животное с торгашеской точки зрения – а какой от него прок? – все же представляют некоторую ценность…