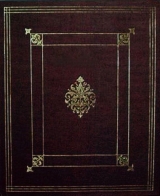
Текст книги "Итальянский ренессанс XIII-XVI века Том 1"
Автор книги: Б. Виппер
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
Если мы сравним фрески капеллы Барди с фресками капеллы Перуцци, то трудно отрешиться от впечатления, что во всех направлениях, которые стиль Джотто намечает во фресках капеллы Перуцци, мастер пошел еще дальше, еще последовательнее в цикле Барди. Его стиль стал еще более возвышенным, абстрактным и еще более плоскостным. Возьмем для примера «Испытание огнем». Святой Бонавентура рассказывает о том, как Франциск, желая обратить султана в христианство, предлагает ему устроить испытание огнем, но перепуганные жрецы отказываются от этого соревнования. В Падуе Джотто, наверно, подошел бы к этой теме с точки зрения ее драматического кульминационного пункта и сделал бы Франциска, восходящего на костер, центральным моментом композиции. Здесь же Джотто трактует тему в отвлеченной, символической форме, разбивая ее на три идейных, генетических фазы. Справа – пылающий костер, на который Франциск собирается вступить; слева – в ужасе удаляющиеся жрецы; и в центре – султан на троне, поворотом головы и жестом руки соединяющий обе группы и в композиционное единство и во временною последовательность. Одним словом, мы видим те же признаки стиля, которые наблюдали в капелле Перуцци. Но теперь они выражены еще сильней, стали еще возвышенней. В цикле Перуцци архитектурные кулисы разработаны более детально и к тому же показаны в сложной косой перспективе. В цикле Барди архитектура всегда строго фронтальна и симметрична и упрощена до роли декоративного обрамления сцены. Так же симметрична, уравновешенна фигурная композиция, причем фигуры сопоставлены почти исключительно или в прямом фасе или в чистом профиле. Аналогичное впечатление мы получим и от другой фрески цикла, изображающей «Смерть святого Франциска». Фон в виде плоской, гладкой стены; справа и слева симметрично дополняющие друг друга два одинаковых крыльца; фигурная композиция разбита на три симметричные группы, причем центр уравновешен чудесным вознесением души святого Франциска на небо. Если в цикле Перуцци фигуры еще воплощают массивность и пластичность падуанского стиля Джотто, то во Фресках капеллы Барди фигуры обратились в совершенно бестелесные, плоские силуэты, очерченные ясными, резкими контурами. Стиль Джотто достигает в капелле Барди максимального классического просветления, но вместе с тем делает решительный поворот в сторону спиритуализма североготических тенденций. Этим поворотом Джотто как бы кладет печать на всю дальнейшую судьбу живописи треченто.
Теперь, когда мы проанализировали на достоверных произведениях Джотто основы и развитие его стиля, мы можем обратиться к обзору тех произведений, которые вызывают известное сомнение в авторстве Джотто, и в первую очередь – к спорной проблеме ассизского цикла. Мне уже пришлось коснуться вкратце этой проблемы, одной из самых спорных, сложных и досадных в истории итальянского искусства. Досадных, потому что памятникам церкви Сан Франческо в Ассизи принадлежит такая важная историческая роль в возникновении итальянского стиля, потому что эти памятники сохранились в таком изобилии, но благодаря отсутствию достоверных данных они до сих пор остаются для нас неразрешимой загадкой. И, надо прибавить, вряд ли эта загадка когда-нибудь будет окончательно разрешена [17]17
Современная наука считает, что над фресками в течение длительного времени трудились мастера по меньшей мере двух поколений: римские живописцы, флорентийцы – Чимабуэ и близкие к Джотто мастера, а также сьенцы – Симоне Мартини и Пьетро Лоренцетти. Обзор проблемы и литературу см. в книгах: В. Н. Лазарев,Искусство Проторенессанса, М., Изд-во Академии наук СССР, 1956, стр. 164–172,239-244; его же,Искусство треченто, М., Изд-во Академии наук СССР, 1959, стр. 168–169, 177–179, 285–286, 288.
[Закрыть].
Перечислю вкратце те памятники, о которых в данной связи может идти речь. В верхней церкви это – двадцать восемь фресок, иллюстрирующих легенду о святом Франциске. В нижней церкви, во-первых, четыре аллегории, написанные над алтарем, на сводах средокрестия; далее – восемь сцен из жизни богоматери и юности Христа; три чуда святого Франциска, наконец, роспись двух капелл легендами о святой Магдалине и святом Николае. Написаны ли рукой Джотто все эти фрески, как думает одна группа ученых, или рука мастера не прикасалась ни к одной из них, как думают другие? И если верно второе предположение, то кто эти выдающиеся живописцы, работавшие под сводами церкви Сан Франческо? Тот, кто пробовал углубиться в литературу, посвященную ассизской проблеме, невольно должен был испытать чувство абсолютной беспомощности, как если бы он попал в безвыходный лабиринт. Одно можно считать безусловно доказанным. Местной, ассизской школы живописи не существовало; в Ассизи работали выдающиеся заезжие мастера со всех концов Италии.
Начнем с самого больного места проблемы – с цикла фресок, посвященных легенде святого Франциска в верхней церкви. Джотто или не Джотто? Возьмем несколько наиболее характерных примеров. Одно из самых совершенных достижений цикла – «Рождественское чудо в Греччо». Легенда рассказывает о чуде, случившемся во время рождественского богослужения, когда граждане города Греччо увидели, как святой Франциск поднял из яслей младенца Христа. Если ближе присмотреться к этой фреске, то ясно бросается в глаза ряд свойств, которые ее отличают от стиля Джотто. Перед нами массовая сцена, подобную которой мы не найдем ни в Капелле дель Арена, ни в церкви Санта Кроче: толпа народа, широкими волнами с трех сторон вливающаяся в пресвитериум церкви. В этой коллективной массовой композиции, лишенной всякого стремления к индивидуальной характеристике, несомненно, сказываются сильные пережитки византийских традиций. Параллельно с отсутствием индивидуальной характеристики обращает на себя внимание и отсутствие того логического единства, той драматической концентрации, которые составляют отличительное свойство живописи Джотто уже в Капелле дель Арена, но еще больше во флорентийском цикле: монахи с увлечением поют, граждане переговариваются между собой, и только несколько фигур, ближе всего находящихся к главному событию картины, обнаруживают к этому событию непосредственный интерес. Если подойти к ассизским фрескам с этой точки зрения, то они безусловно производят более архаическое впечатление по сравнению с творчеством Джотто. Такой вывод как будто бы вполне соответствует внешним историческим данным. Вазари в своей биографии Джотто указывает, что цикл ассизских фресок был исполнен по заказу Джованни де Муро, который был главою францисканского ордена от 1296 до 1304 года. Если признать правильным это утверждение Вазари, то из него вытекает, что цикл ассизских фресок, посвященный легенде о святом Франциске, был исполнен до начала работ Джотто в Падуе и, следовательно, его с полным правом можно считать ранним, юношеским произведением Джотто. Молодость мастера в таком случае объясняет византийские пережитки и недостаток духовной концентрации. Однако такому выводу резко противоречит ряд других важных свойств анализируемой нами фрески. Во-первых, то обстоятельство, что фигуры с гораздо большей свободой, чем это можно наблюдать у Джотто, распределены в глубоком пространстве. У Джотто движения всегда совершаются только на узкой передней полосе пространства, всегда развертываются только мимо зрителя; здесь же движение идет и из глубины пространства, сзади наперед. Второй, еще более решающий момент – архитектурные кулисы. Ни в одной фреске Джотто из падуанского цикла мы не найдем такого подробного и такого реалистического описания архитектурной обстановки и, что еще важнее, – архитектурной обстановки со столь ясно выраженным готическим характером. Архитектурные конструкции Джотто в Капелле дель Арена отличаются совершенно отвлеченным, идеальным характером. Но даже и во фресках Санта Кроче, где Джотто дает больше простора своей архитектурной фантазии, мы встречаем скорее романские, чем готические, архитектурные мотивы. Сделать из этого наблюдения тот вывод, что ассизский цикл фресок написан Джотто после падуанского и флорентийского, мы не можем, разумеется: такому выводу слишком противоречила бы архаичность фигурной композиции. Та же самая смесь передовых и архаических элементов еще больше бросается в глаза в других, не столь удачных достижениях ассизского цикла, например во фреске, изображающей «Смерть святого Франциска». Мы видим вновь массовую композицию, смело расположенную в глубинном пространстве, видим с чрезвычайно реалистическими подробностями трактованный фасад церкви явно готического стиля – то есть все черты искусства более позднего по сравнению с Джотто. И рядом с этим – вытянутые в длину, бескостные фигуры с маленькими головами и крошечными ручками, типичные пережитки византийской схемы. Таким образом, для нас не подлежит сомнению, что гипотеза об авторстве Джотто наталкивается на непреодолимые противоречия. Выход из этих противоречий как будто бы только один: мастер, иллюстрировавший легенду о Франциске в верхней ассизской церкви, не мог быть Джотто. Он должен был принадлежать к поколению, испытавшему влияние сьенской школы и сильнее проникшемуся воздействиями готики, но вместе с тем мастер не обладал самобытной силой джоттовского гения и не сумел преодолеть закоренелые византийские традиции.
Этот вывод усугубляется еще другими обстоятельствами. Более подробное знакомство с ассизским циклом приводит нас к убеждению, что над этими фресками работал не один, а по меньшей мере два, может быть, даже три художника. Возьмем для сравнения первые же две фрески цикла. Трудно отделаться от впечатления, что мы имеем здесь дело с двумя различными живописцами. В первой фреске цикла – «Юродивый предсказывает грядущую славу юному Франциску» – прежде всего привлекает внимание изысканность колорита. Голубая одежда Франциска на фиолетовом фоне архитектуры, на противоположной стороне: в трех фигурах – сочетание красно-бурого, серо-лилового и бледно-зеленого. Перед нами художник, владеющий более сложными смешениями и сочетаниями красок, чем это свойственно среднему уровню тогдашней живописи, перед нами – прирожденный колорист. А этой колористической гармонии соответствует и общее настроение картины – тихое, лирически-мечтательное. С другой стороны, автор фрески «Юродивый предсказывает грядущую славу юному Франциску» был, по-видимому, лишен острого композиционного чутья; центр композиции остается пустым, фигуры робко сдвинуты к самым краям картины и их движения и позы мало содействуют драматической концентрации. Как характерный признак этого художника следует отметить также удлиненные пропорции фигур с маленькими головами и неестественно маленькими руками.
Совершенно иное впечатление оставляет другая фреска цикла – «Святой Франциск дарит свой плащ бедному дворянину». Здесь колорит играет второстепенную роль, преобладают традиционные красочные сочетания, нет изысканных оттенков предшествующей картины. Зато автор этой фрески обладал недюжинным пластическим чутьем, может быть, несколько грубой, но убедительной энергией рисунка и композиции. Фигуры, скорее коренастые, очерчены твердо и резко, в их движениях больше определенности, центральная фигура Франциска почти жестко подчеркнута двумя сходящимися линиями скал. В одном случае – изысканный, немного вялый колорист, в другом – грубоватый, но энергичный пластик. Этот контраст можно проследить по всему циклу, причем он усугубляется тем, что колорист предпочитает для своих композиций сложный архитектурный антураж, а пластик охотнее обращается к упрощенным массам пейзажа. Совершенно очевидно, что только два различных художника были способны на столь различные художественные концепции. Но есть основания думать, что в росписи цикла принимал участие еще третий художник, так как последние три фрески цикла обнаруживают опять-таки новую разновидность художественных приемов. Красноречивый пример этой третьей манеры – «Воскрешение непокаявшейся грешницы». По своему направлению автор этой группы фресок ближе к колористу, чем к пластику, но вместе с тем он обнаруживает и некоторые своеобразные особенности стиля. Фигуры в его композициях отличаются еще более удлиненными пропорциями, а, с другой стороны, масштаб фигур по отношению к размерам картины взят гораздо меньше, чем во всех других фресках цикла. Вследствие этого композиции третьего мастера отличаются обилием пустого пространства. Кроме того, специфической особенностью третьего мастера является почти игрушечный характер архитектуры в виде фантастических павильонов с тонкими и очень высокими колонками [18]18
Как фреска «Юродивый предсказывает грядущую славу юному Франциску», так и «Воскрешение непокаявшейся грешницы» приписывается одному и тому же «Мастеру святой Цецилии».
[Закрыть].
Итак, по-видимому, три мастера иллюстрировали легенду святого Франциска в верхней церкви в Ассизи. Стилистические особенности этих мастеров, более всего напоминающие живописную концепцию римских мозаичистов конца дученто, не только с полной очевидностью доказывают, что в их числе не было Джотто, но заставляют даже сомневаться, принадлежали ли они к школе Джотто. Кто они, мы, к сожалению, не знаем, но скорее всего можно предположить, что эти художники принадлежали к римской школе и, как и сам Джотто, вышли из круга Каваллини или Русути.
Фресковая роспись нижней церкви в Ассизи отличается другим характером. Здесь дух Джотто чувствуется гораздо сильней; здесь мы имеем дело с непосредственными учениками и последователями великого флорентийского мастера. Во всяком случае, роспись нижней церкви в Ассизи не могла возникнуть ранее двадцатых годов XIV века, так как в ней явно использованы уроки падуанского и флорентийского циклов Джотто [19]19
В росписях нижней церкви участвовали мастера, вышедшие из мастерской Джотто, а также сьенцы Пьетро Лоренцетти и Симоне Мартини.
[Закрыть].
Литературные источники называют нам много имен Джоттовых учеников. Так, например, героем новелл Боккаччо и Сакетти часто является веселый и предприимчивый ученик Джотто, Буффальмакко, Гиберти и Вазари называют ряд произведений других последователей Джотто – Пуччо Капанна и Стефано Фьорентино. Однако попытки ученых точнее очертить художественную физиономию этих учеников Джотто и распределить между ними роспись нижней церкви в Ассизи вряд ли можно признать бесспорными, так как сохранилось слишком мало вполне достоверных следов их деятельности. Из всех росписей нижней церкви, несомненно, наименее похожи на Джотто четыре аллегории на сводах средокрестия, хотя Тоде в свое время и оценивал их как самое совершенное из созданий Джотто. Аллегории эти восходят к основному кругу идей францисканского ордена и содержание их в главных чертах намечено уже в религиозной поэзии Якопоне да Тоди. Цикл четырех аллегорий изображает бедность, целомудрие, послушание и заканчивается апофеозом святого Франциска. Напомню первую фреску цикла, изображающую аллегорию «Бедность ». Сама «Бедность »представлена в виде бледной, изможденной женщины, в разорванных одеждах, окруженной терниями. Христос обручает ее со святым Франциском, Любовь и Надежда сопровождают ее с двух сторон, злые мальчики насмехаются над нею и забрасывают ее камнями. Слева юноша жертвует свой плащ нищему, справа ангел взывает к богачам, из которых один держит сокола, а другой жадными руками сжимает кошелек. Нет сомнения, что мастер аллегории многому научился у Джотто; об этом свидетельствует хотя бы центрический характер композиции. Но вместе с тем ему явно не хватает ни драматической силы, ни духовной концентрации Джотто. Простоту Джотто он заменяет перегруженностью, сложной надуманностью деталей. Суровой, лапидарной речи Джотто он стремится придать оттенок жизнерадостный и миловидный, сделать ее более элегантной и декоративной. Создатель четырех аллегорий выписывает тонкие фигуры с изящным, удлиненным овалом лица, они лишены пластической ясности Джотто, но зато с гораздо большим декоративным блеском согласованы с форматом изображения и с его сферической плоскостью.
Есть основания думать, что и серия фресок, посвященная юности Христа и сценам из жизни Марии, которая украшает своды северного крыла трансепта, написана тем же автором. Историк искусства ван Марле, пытавшийся составить каталог произведений этого безымянного ученика Джотто, называет его maestro delle vele (то есть мастером парусов, так как он расписал паруса средокрестия нижней церкви) [20]20
R. van Marie,The Development of the Italian Schools of Painting, vol. Ill, The Hague, 1924, pp. 192–227.
[Закрыть]. Одна из композиций этой серии, изображающая «Юного Христа во храме », отличается всеми качествами мягкого, миловидного, декоративного стиля maestro delle vele. Вместе с тем орнаментальное богатство одежд, сложность архитектурных мотивов и уверенность в их оптической конструкции – все это указывает на очень важный симптом в развитии итальянской живописи после Джотто – на сильное влияние сьенской школы.
Гораздо ближе и непосредственнее примыкает к Джотто мастер, украсивший фресками капеллу Магдалины в нижней церкви. Капелла была выстроена и украшена по заказу Теобальдо Понтано, сделавшегося в 1314 году ассизским епископом и умершего в 1329 году. Эти годы дают, таким образом, хронологические границы возникновения фресок. Кто бы ни был мастер капеллы Магдалины – некоторые исследователи угадывают в нем Пуччо Капанна, другие – Стефано Фьорентино, – во всяком случае, он является самым верным продожателем художественных идей Джотто. В некоторых композициях, как, например, в «Воскрешении Лазаря », мастер почти буквально повторяет падуанскую схему Джотто. При этом он старается превзойти учителя в пластической силе моделировки, в подчеркнутом контрасте света и тени. Это чутье пластической массы, которого лишены все другие ближайшие последователи Джотто, позволяет ему иногда достигать исключительно монументальных эффектов. Фигура Магдалины, перед которой склонился жертвователь, Теобальдо Понтано, мощными формами тела и широким размахом драпировки даже выходит из стилистических границ треченто и предвосхищает образы Мазаччо. Но «мастер Магдалины »еще и в другом отношении обнаруживает своеобразие своего таланта – своей пейзажной фантазией, своей жаждой более просторной арены для действия фигур. В этом смысле особенно интересна фреска с изображением так называемого «Марсельского чуда». Из сложной легенды мастер выхватил две сцены. В левой нижней части картины изображен остров и на нем тело матери с закутанным в ее плащ ребенком, которых воскресила молитва Магдалины; в правой верхней части фрески представлено прибытие святой Магдалины в Марсель. Такой широкой пространственной перспективы, такого разнообразия пейзажных мотивов не знал ни Джотто, ни вообще флорентийская живопись того времени. Нет никакого сомнения, что и здесь мы имеем дело с результатами сьенского влияния. Интересно отметить, как художник борется с противоречиями готического мировосприятия, как он колеблется между джоттовской центрической композицией и средневековыми сукцессивными методами представлений: композиция фрески уравновешена вокруг центрального мотива лодки, пейзаж в правой части фрески развертывается в глубину, в левой части фрески – сверху вниз, а в эту, более или менее реалистическую картину природы фигуры вписаны по всем правилам «обратной перспективы» – больше всего по масштабу ангелы, далее – фигуры в лодке, затем – женщина, лежащая в лодке на острове, и, наконец, – меньше всего, совсем крошечная по масштабу фигурка марсельского купца, причалившего к острову на самом переднем плане. Этот непреодолимый гипноз сукцессивных представлений лишний раз показывает нам, в какой мере опережала свое время джоттовская попытка духовной концентрации события, когда ей противоречили все основы пространственных и временных представлений.
VI
ПОЛОЖЕНИЕ В ИТАЛЬЯНСКОЙ ЖИВОПИСИ после Джотто обыкновенно расценивают как полную остановку развития. Джотто будто бы создал некую священную схему, которая осталась неприкосновенной в течение всего треченто, и последователи Джотто будто бы довольствовались только внесением в эту схему мелких поправок и вариаций. Такая формулировка безусловно искажает значение итальянской живописи треченто. Не схема Джотто определила дальнейшее развитие итальянской живописи, а борьба различных художественных направлений вместе с усилением готических влияний, идущих с севера. Не забудем, как изменилась после Джотто сама историческая обстановка. Ранний флорентийский капитализм столкнулся с феодальным окружением всей Европы, что и привело к длительному кризису флорентийской буржуазии. Банкротство банкирских домов Барди и Перуцци пошатнуло господство крупной финансовой буржуазии. С другой стороны, тирания так называемого герцога Афинского опиралась на мелкие цехи. Это противоречие подготовило восстание «чомпи». Хотя оно было довольно скоро подавлено, но потребовалось несколько десятилетий, пока гегемония крупной флорентийской буржуазии сложилась в устойчивые формы господства династии Медичи (1434).
В этих исторических условиях усилились влияния северной готики с ее мистикой и натурализмом, аристократическими и церковными элементами. И тогда как флорентийская школа треченто взяла на себя роль проводника национальных, синтетических тенденций, симптомы северного готического духа раньше всего проявились в сьенской школе, а затем с новой и еще большей силой хлынули в Северную Италию.
Влияние сьенской школы мы отметили уже в кругу последователей Джотто. Значение Сьены, как руководящего художественного центра Италии, еще решительней определилось с появлением Симоне Мартини. Согласно Вазари Симоне Мартини родился в 1284 году. Хотя не осталось ни одного документального свидетельства, называющего Симоне Мартини учеником Дуччо, нет никакого сомнения, что искусство Симоне Мартини выросло под непосредственным воздействием Дуччо. Ни одного достоверного произведения молодого Симоне Мартини не сохранилось, и впервые мы входим в соприкосновение с мастером только в 1315 году, когда он получил заказ от города Сьены на большую фреску для ратуши, изображающую «Маэста». Симоне Мартини, несомненно, заимствовал общую схему у Дуччо, но изменения, которые он произвел в этой схеме, очень значительны – из византийской иконы он сделал готическую икону. Из отвлеченного, торжественного наслоения голов и нимбов он сделал жизнерадостную, свободную группировку фигур под воздушным балдахином. Благодаря тому что фигуры святых и ангелов поставлены косыми рядами по отношению к плоскости картины и заметно пересекают друг друга, вся композиция приобретает пространственный характер; три ступени определяют различный уровень голов, который у Дуччо оставался совершенно необъясненным. Но вместе с тем Симоне Мартини сохраняет все типичные свойства сьенской школы, столь отличные от флорентийского духа. Никакой массивности, телесности, тяжелой поступи, подобной образам Джотто. Трезвая, немного медлительная натура крестьянского сына всегда оставляет свой отпечаток в его искусстве. Живопись Симоне Мартини рядом с Джотто воплощает утонченные аристократические идеалы. Образы Симоне Мартини полны легкой, почти женственной грации; в его линиях всегда есть особая пленительность округлого изгиба; краски Симоне поражают своей светлой, радостной гармонией. Недаром Франчсеко Петрарка так высоко ценил изысканное искусство сьенского мастера.
По окончании «Маэста» Симоне Мартини получил приглашение к Анжуйскому двору в Неаполь. От 1317 года сохранился документ, из которого явствует, что Роберт Анжуйский выплачивал Симоне Мартини ежегодную пенсию. Из дошедших до нас неаполитанских работ Симоне Мартини особенно интересна одна, представляющая характерный для мастера образец официального придворного заказа. Картина изображает святого Людовика, возлагающего корону на голову Роберта Анжуйского. Людовик, Тулузский епископ, был братом Роберта Неаполитанского, и Роберту стоило больших усилий провести канонизацию своего брата, умершего совсем молодым, в возрасте двадцати четырех лет. Таким образом, картина Симоне, написанная непосредственно после канонизации, является своего рода религиозно-политической декларацией неаполитанского короля. В этой картине Симоне Мартини проявляет все свои блестящие качества придворного мастера. У святого на простой монашеской рясе одет великолепный, вышитый плащ, скрепленный драгоценной пряжкой. На отворотах плаща и в митре повторяются мотивы и краски анжуйского герба. Картина производит исключительно пышное впечатление – драгоценностью тканей, богатством орнаментики, великолепием устилающего пол восточного ковра. Дух готики все сильнее овладевает творчеством Симоне Мартини: тела его фигур становятся все более бесплотными, главное внимание мастера сосредоточено на поверхности, на нежнейшей трактовке лица и рук. Эта мягкая, словно расплывающаяся в нежных переходах поверхность обнаженного тела особенно бросается в глаза в алтарной иконе, исполненной мастером в 1320 году для города Орвьето (ныне – в музее собора). Ее средняя часть, изображающая мадонну с младенцем, обнаруживает все признаки чисто готической концепции: не только стрельчатую форму обрамления, со вписанной в него трехлопастной аркой, но еще более всем форматом иконы, тонким, вытянутым вверх, с тесно примыкающими к раме фигурами.
К 1328 году относится одно из самых важных по историческому значению произведений Симоне Мартини – конный портрет Гвидориччо да Фольяно, написанный для той же залы Сьенской ратуши, что и «Маэста». Гвидориччо, главный сьенский военачальник, только что перед тем одержал блестящую победу над прославленным кондотьером Каструччо Кастракане, терроризировавшим всю Италию, и освободил из-под его ига города Монтемасси и Сассафорте. В благодарность за этот военный подвиг и написан портрет – первый в ряду тех монументальных конных портретов, которыми итальянский Ренессанс чествовал своих кондотьеров. Гвидориччо, с энергичными, почти свирепыми чертами типичного кондотьера, в панцире и маршальской мантии, гарцует на покрытом пышной попоной иноходце. Справа – палатки сьенского лагеря, слева, на вершине скалы, – крепость Монтемасси; всюду развевается сьенское знамя. Фигура кондотьера, придвинутая к самому переднему плану, и своими пропорциями и своей торжественной позой господствует над всем окружающим. Есть нечто демоническое в том, что, несмотря на обилие пейзажных и бытовых подробностей, скалистых уступов и тропинок, палаток и частоколов, усеянных копьями, глаз зрителя не может открыть на картине ни одного живого существа, кроме самого кондотьера. Именно этот пейзаж и составляет главную историческую заслугу Симоне Мартини. Конечно, пейзаж еще очень схематичен, поразительно лишен всяких признаков живой природы; но нельзя отрицать огромного эволюционного шага, сделанного Симоне Мартини по сравнению с Дуччо, Джотто и даже ассизским «Мастером Магдалины ». Симоне Мартини первый почувствовал органическую слитность пейзажа. Его пейзаж состоит не из отдельных кулис, а из последовательного и непрерывного развертывания земной поверхности во всех направлениях. С этого момента проблема пейзажа становится одной из самых излюбленных задач художников сьенской школы.
Несколькими годами позднее, в 1333 году, Симоне Мартини вместе со своим шурином Липпо Мемми пишет знаменитое «Благовещение », хранящееся теперь в галерее Уффици во Флоренции. Эта картина, которую можно рассматривать как вершину сьенской готики, является вместе с тем одним из самых очаровательных, самых грациозных созданий всего итальянского искусства. Липпо Мемми принадлежат фигуры святого Ансануса и святой Джулитты на боковых створках алтаря, центральная же часть написана самим мастером. Мадонна и хрупкими плечами и поразительно длинным разрезом слегка раскосых глаз похожа на даму высшего света, потревоженную внезапным вторжением. Недоступная, замкнутая красота мадонны еще подчеркнута контрастом с ангелом, таким свежим и нарядным, с пестрыми крыльями, развевающимся плащом и полудетским жестом руки, поясняющим слова, которые вылетают из его раскрытых губ. Лилии в золотом сосуде и хор серафимов, похожих на ласточек, дополняют декоративное очарование этой картины, написанной со свойственной Симоне Мартини тончайшей миниатюрной техникой.
До сих пор деятельность Симоне Мартини протекала больше в области алтарной иконы. Теперь он все чаще пробует свои силы в повествовательном стиле фресковых циклов. Переходом к этому повествовательному фресковому стилю служит алтарная икона, посвященная святому Августину и написанная для сьенской церкви Сайт Агостино. В центре иконы изображен святой, на боковых створках – четыре сцены из его легенды. Самый выбор мелкого формата для повествовательных сцен указывает на преемственную связь с Дуччо и его серией маленьких картин на оборотной стороне «Маэста». С таким же, как и Дуччо, увлечением Симоне Мартини развертывает архитектурную обстановку для своих сцен, полную неожиданных просветов и интимных закоулков. Но в одном отношении Симоне Мартини превосходит всех своих предшественников, намечая одну из важнейших проблем живописи Ренессанса. Четыре боковые сцены задуманы в пространственном единстве с центральной картиной: перспектива боковых сцен показана таким образом, что зритель, стоя перед центральной картиной, видит архитектуру створок в соответствующем сокращении слева и справа. Эта попытка оптического объединения пространства, в зародыше заключающая в себе идею центральной перспективы, как мы увидим впоследствии, составляет постоянную заботу живописцев сьенской школы. Что касается самих приемов повествования у Симоне Мартини, то, далеко уступая Джотто в силе драматической концентрации, он очаровывает трогательной интимностью настроения и неожиданной остротой реалистически схваченных деталей. Как пример напомню эпизод из легенды «Чудесного воскрешения ребенка, выпавшего из колыбели», который изображает воскресшего младенца, несущего в церковь благодарственную свечку.
Дальнейшее развитие отмеченных нами свойств мы находим в самом крупном фресковом цикле Симоне Мартини, посвященном легенде святого Мартина и исполненном им для нижней церкви Сан Франческо в Ассизи. Фрески, написанные на двух стенах небольшой готической капеллы, перспективно согласованы и объединены по тому же принципу, как и в алтарной иконе святого Августина, причем завершающая цикл фреска, помещенная высоко на третьей стене, задумана как центральная композиция. Цикл начинается с левой стены. Сначала мы видим святого Мартина в виде богатого горожанина, жертвующего свой плащ нищему; далее – сон святого, в котором ему снится Христос, показывающий ангелам разрезанный плащ Мартина. В третьей сцене Симоне Мартини изображает посвящение святого Мартина в рыцари. Император Юлиан опоясывает святого мечом, слуга надевает ему шпоры; двое других слуг императора символизируют два главных занятия рыцаря – войну и охоту, в то время как музыканты и певцы сопровождают торжество посвящения своим концертом. Обряд посвящения Симоне Мартини описывает с полной верностью обычаю своего времени. В этом сказывается несомненное влияние северной готики. Обратите внимание особенно на музыкантов: с какой тщательностью художник фиксирует все подробности их модных костюмов, с каким вниманием присматривается к их профессиональным жестам. Именно в этом стремлении создать реальную атмосферу события и сказывается главная реакция сьенской школы против отвлеченной, безвременной концепции Джотто. В следующей фреске Симоне Мартини рассказывает о том, как святой Мартин оставляет армию императора и, вооруженный крестом, выступает один против врага. К отмеченным нами реалистическим, жанровым приемам здесь присоединяется чрезвычайно смелое композиционное нововведение. Если в трактовке отдельных пейзажных элементов Симоне Мартини не выходит за пределы схемы, выработанной Дуччо и Джотто, то в овладении общим пространством пейзажа ему удается очень важное завоевание. Сьенский мастер не довольствуется джоттовским размещением фигур параллельно передней плоскости картины, но ставит фигуры в пространстве, одну за другой, допуская смелые пересечения. Еще смелей пространственная концепция в правой части фрески, где головы воинов и силуэты палаток выглядывают из-за гребня скалы. Таким образом начинается столь характерная для дальнейшего развития итальянской живописи тенденция к пробитию плоскости изображения иллюзией глубокого пространства.








