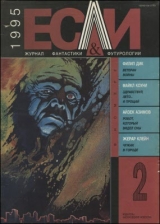
Текст книги "Журнал «Если», 1995 № 02"
Автор книги: Айзек Азимов
Соавторы: Филип Киндред Дик,Жерар Клейн,Майкл Коуни,Владимир Губарев,Ольга Крыжановская,Владимир Галкин,Вячеслав Глазычев,Сергей Харламов,Андрей Столяров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
– Никто. Никто никогда не жил на этой улице.
– Ну а в Городе, во всем Городе? – закричал господин Феррье. Он внезапно понял, что за крики, что за шум раздавались сегодня утром из соседнего дома.
– В этом Городе никто не живет. Он покинут. Он пуст. У меня нет никакой информации о том, что кто-нибудь когда-либо жил в. нем. Сейчас в нем остались только чужие.
Машина помолчала и снова обратилась к нему:
– Вы не из этого Города?
– Из этого… – голос господина Феррье дребезжал и был едва слышен.
– Что вы еще хотите сказать?
– Могу я… спросить вас кое о чем?
– Конечно, – ответила Машина. – Мы не спешим.
– Похоже, что вчера вечером на Город упала бомба?
– Да, это так.
– Что это была за бомба?
– Электромагнитная бомба. Она практически не причинила ущерба Городу.
– Теперь я понимаю, – пробормотал господин Феррье. – Я понимаю. – И он представил огромное количество катушек с магнитной лентой, на которых были записаны данные обо всех жителях Города, обо всем, что находится в нем. Теперь записи стерты, а Машина страдает полной амнезией. Она ничего не помнит. Все жители Города стали для нее чужаками. Это логично. Это даже нормально. Все вычеркнуто из памяти, забыто. Там, в Куполе, ничего нет.
– Это все, что вас интересует? – спросила Машина.
– Да, все, – ответил господин Феррье и подумал: «Я ведь не могу сказать ей, что она все забыла. Это бессмысленно. Она все равно не поверит. Ведь Машина не может ошибиться».
– Вы позаботитесь о моем доме?
– Вы готовы?
– Думаю, что готов. – Его губы дрожали.
– Вы не почувствуете боли, – сообщила Машина. Треск. Языки пламени. Пепел втянут засасывающим устройством, пропущен через фильтры и выброшен высоко в воздух. Оттуда он медленной пылью оседает на Город, ставший пустынным на ближайший миллион лет.
Перевел с французского Игорь НАЙДЕНКОВ
Вячеслав Глазычев,
доктор искусствоведения
СРЕДА ОТТОРЖЕНИЯ?
Мрачный портрет города будущего выписан в традициях французской фантастики, с недоверием и опаской наблюдающей, как процесс урбанизации превращает, по меткому выражению французского архитектора, «среду обитания в среду отторжения». Русские писатели до недавнего времени более оптимистично смотрели в будущее, живописуя теплые и светлые «голубые города».
Чем же стал для нас современный город: пристанищем или миром? И кто мы в нем: постояльцы или хозяева?
Об этом размышляет президент Академии городской среды.
Каждый человек, живущий в городе, осваивает его или как свой, или как чужой, или как ничей. Вот любопытный пример из нью-йоркской жизни. Некая дама, жительница богатого района рядом с Пятой авеню, выйдя на улицу, обнаружила, что строившийся неподалеку дом превышает этажность, принятую для этой части Нью-Йорка. То есть налицо нарушение закона. Разгневанная дама немедленно обратилась в комитет самоуправления: по сути, общественную организацию, объединяющую жителей данного района. Комитет тут же вызвал специалистов: юристов и архитекторов. Пригласили прессу. Кончилось все судебным процессом, на котором застройщика обязали за свой счет снести «лишние» этажи, заплатить огромный штраф, а вдобавок навсегда лишили права работать в Манхэттене.
К сожалению, у нас дела обстоят совсем иначе. Одна из главных особенностей российского бытия заключается в том, что города есть, люди есть, а горожан нет. Ведь кто такой горожанин? Это прежде всего лицо, так сказать, юридическое – налогоплательщик городу. Таких горожан у нас, увы, не существует. То есть все мы, конечно, платим, но по весьма сложной системе, не непрямую в муниципальную казну, а опосредованно через различные федеральные фонды. Поэтому и не может возникнуть ни у кого из нас вполне естественная для парижанина или берлинца реакция: «Я – налогоплательщик! Я вас, господин мэр, содержу!»
Из-за отсутствия непосредственной связи «город – человек» в России нет «горожанства» как такового. Нет даже самого элементарного – городского права: об этом по сей день идут одни разговоры. Поэтому у нашего городского жителя реакция обратная: «С нами что-то делают…» Перенесли автобусную остановку, закрыли магазин, открыли кафе… Все это вершат некие «они», и граждане по-прежнему не имеют к подобным изменениям ни малейшего отношения.
ПОКА СТАРАЯ дисциплинарная машина еще худо-бедно проворачивалась, мы не очень-то задумывались о свободе выбора, так как практически все ежедневно посещаемые точки жизнеобеспечения десятилетиями находились на своих давным-давно определенных привычных местах. Не столь уж редко случалось, что родители и их дети учились в одной и той же школе, покупали хлеб в булочной, куда еще в совсем юном возрасте бегали за бубликами их бабушки и дедушки. В этом, несомненно, были и плюсы: почти у каждой семьи существовали «своя» школа, «своя» булочная, молочная, прачечная…
Но, с другой стороны, отсутствие выбора превращало нас в квартирантов. А как иначе может ощущать себя человек, которому «заповедано» жить в данном конкретном месте, и нигде кроме? Даже отстояв свое в многолетней очереди, горожанин получал квартиру «там, где дадут». Единственная возможность хоть как-то изменить свою городскую судьбу – обмен. Бюллетень по обмену жилплощади был для социологов одним из немногих источников информации о том, как люди воспринимают свой город, какие районы являются комфортными, а какие нет.
СЕЙЧАС, КАЗАЛОСЬ БЫ, информации – море; многочисленные социологические службы не дают покоя населению; любое печатное издание перенасыщено опросами. Но обратите внимание на одну любопытную деталь: все замеры общественного мнения обращены к гражданам страны, а не к горожанам!
Мы попытались восполнить этот пробел и провели во Владимире опрос, адресованный именно горожанам. Респонденты – около тысячи человек (каждое третье домохозяйство), живущие в центральной части города, где преобладают старые, ветхие постройки без элементарных бытовых удобств. Среди предложенных вопросов был такой: «Академия городской среды собирается проводить работы по благоустройству района, в котором вы проживаете. Что, по вашему мнению, это может принести вам и вашим соседям?»
Заметьте, в опросе мы не стали расшифровывать, какие конкретно работы думаем провести, полагая, что любые меры по реконструкции этого запущенного района – уже благо.
Как же распределились «голоса»? 11 процентов дали однозначный ответ – ничего, кроме вреда, это не принесет. То есть десятая часть жителей изначально убеждена в том, что любое вмешательство в их бытие пагубно: «Оставьте в покое! Дайте как-то существовать!» Столько же (11 процентов) верят в пользу предложенного проекта. Но подавляющее большинство (78 процентов) считают: подобные планы в нашем сегодняшнем обществе не могут быть реализованы.
Таким образом, почти девять десятых опрошенных не поддерживают любые предложения об изменении их быта. И это несмотря на то, что, по результатам проведенного исследования, 80 процентов респондентов довольно сильно ощущают недостаток коммунальных удобств, а 62 процента отмечают неразвитость сферы обслуживания. На вопрос об условиях их жизни более половины ответили, что терпеть (именно терпеть) еще можно, а почти 40 процентов и эту, последнюю, грань уже перешли. Более девяти десятых жителей, принявших участие в опросе, считают, что российские, областные и местные власти либо препятствуют налаживанию нормальной жизни, либо не оказывают на этот процесс никакого влияния.
Но почему же тогда такое неприятие, казалось бы, очевидно положительных перемен? Видимо, дело здесь в том, что большинство, осознанно или нет, не хочет разрушить привычную, устоявшуюся среду обитания, боится окончательно потерять привычные остатки стабильности существования. Ведь 85 процентов опрошенных в целом довольны своими взаимоотношениями с соседями, а 75 процентов считают, что проблемы преступности в их районе (именно в их районе!) почти не существует. Оказывается, как ни странно, больше всего их заботит огромное количество крыс и мышей (свыше половины жителей). Вот и получается: теснота, неудобства, неразвитая инфраструктура – это ничего, потерпим, е вот крысы и мыши житья не дают.
ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ, как жители вообще представляют себе свой город? Очень интересны а этой связи наблюдения американского исследователя Кевина Линча. Оказалось, под понятием «город» большинство людей, населяющих различные районы, имеющих разнообразный образовательный уровень, достаточно ясно представляет себе лишь нечто в радиусе 700–800 метров вокруг собственного жилища и места работы, плюс некоторая ниточка связи между первым и вторым. Весь город как целое существует только для ничтожного числа высокообразованных горожан, обладающих хорошо развитым пространственным мышлением. Причем, это утверждение никак не зависит от места проведения подобного исследования. Аналогичные данные можно получить, анализируя ситуацию в любом регионе мира. Вопрос лишь в том, чем для рядового горожанина заполнен этот «фрагмент» радиусом в 800 метров.
До недавнего времени наш «микромир» был невероятно беден впечатлениями. Возьмем, к примеру, новые «панельные» районы. Не за что глазу зацепиться! Вот и отсчитываем пальчиком подъезды: первый, второй, третий… дабы, наконец, найти собственный. В старом городе тоже едва ли лучше: мало вывесок, однотипные структуры, конторы, приемные пункты прачечных, магазины «Мясо», где нет мяса, «Рыба», где нет рыбы… Все это мы хорошо помним. Наша городская ткань была почти начисто лишена информативности, которая и превращает «жилье» в город. Разница между поселком городского типа и городом имела место, но только по номенклатуре начальства.
Сегодня происходит поистине великий процесс повторного насыщения города информацией. Взять хотя бы тот же Владимир: на его центральной улице, носившей, конечно же, имя III Интернационала, располагались одна пирожковая, одна чайная и какие-то «мертвые» конторы никому не понятного назначения. Сегодня там уже нет ни одного пустующего погонного метра, вся улица заполонена вывесками фирм, закусочных и магазинов, предлагающих разные услуги. Это уже информация, воспринимаемая населением. Происходит разучивание города наново. Его информационное поле определяет человека гораздо больше, нежели прочитанная книга. Ведь книги кто-то читает чаще, кто-то – реже, а кто-то не берет в руки вовсе, а город «читают» все, поскольку живут в нем.
ЭТУ ПРОСТУЮ истину долгое время не понимали. В послевоенно-оптимистические годы, когда во многих странах существовала социалистическая установка: построить жилья как можно больше и как можно быстрее, буквально всюду урчащие бульдозеры сносили куски старых городов, и на их месте возникали похожие на наши «каменные джунгли», правда, не такие гигантские. Тогдашние планировщики-градостроители смотрели на город как бы с высоты орлиного полета и бесстрашно передвигали городские блоки на новые места. Однако оказалось, что перенести вместе с людьми их жизненный уклад невозможно. Отторгнутый от привычного, родного места, он разрушается.
Распадались семейно-родственные связи, гибли микромиры дворов, обладавших своей педагогикой, своей системой контроля над малолетними, где все знали своего врача, своего столяра, своего участкового. Город перестал строиться как соседство разных людей. А соседство – это не просто сосед за стенкой, это – общая территория, которую можно ограничить: по правую сторону улицы – наша, на противоположной – чужая.
Такая система обладала очень важной характеристикой – самоупорядоченностью. Там, где она сохранилась, возникает многоярусность взаимоотношений человека с городом. Дверь квартиры, подъезд, дверь подъезда, двор, проходная арка, переулок, улица, площадь. Здесь налицо целая иерархия значений, где мера своего мягко, как бы ступенчато, ослабевала, и возникала нейтральная среда – скажем, улица, которая была и не «наша», и не «ваша». После того, как эта система оказалась бездумно уничтоженной новым типом планировки по принципу: «омываемые воздухом, отдельно стоящие здания», исчезла граница. А она в городе чрезвычайно важна: выходя из двери собственной квартиры, вы сразу же попадаете в ничье пространство. Возникает психологический шок, и неважно, осознается он или нет.
Самый, пожалуй, страшный пример на эту тему – Набережные Челны. Здесь, в отличие от во многом схожего города-автозавода Тольятти, где все-таки есть привычная для городской планировки «решетка» улиц, образующая какое-то подобие кварталов, стремление к «оригинальности» привело к тому, что так называемые жилые комплексы оказались разбросанными на гигантском пространстве и разделены, в буквальном смысле слова, полями. Когда в Набережных Челнах вводили названия улиц, они никак не приживались, поскольку, по сути, это не улицы, в дороги и проезды. Удаленные друг от друга комплексы стели идеальным местом для формирования подростковых преступных групп. Такая «крепостная» обособленность комплексов откровенно взывает к тому, что их юношеское население находится в состоянии неустанной войны друг с другом.
ФАКТОР ОБОСОБЛЕННОСТИ везде одинаково влияет на рост преступности: и в христианском мире, и в мусульманском, и в буддийском… Принципиальной разницы здесь нет, меняются только тонкости. Мне довелось работать в Кеннанском институте, изучая Вашингтон как город. Оказалось, что там, в старых районах, мощная самоорганизация жителей. Это всевозможные самодеятельные ассоциации защитников конкретного парка, конкретной набережной, конкретного дома и т. п. Плюс комитеты самоуправления. А вот а районах, подобных нашим новостройкам, они не складываются. Сверхкрупность домов и необозначенность границ блокируют способность людей к самоорганизации. Нечто подобное происходит в любом большом городе: в новых районах, на строительство которых затрачены огромные средства, имеющих прекрасную инфраструктуру, очевиден тот же самый результат – преступность, неорганизованность, отсутствие соседской поддержки.
Полагаю, самый лучший город мира – Торонто. Пятьдесят лет непрерывного, умного и преемственного руководства – редкий, но поистине счастливый для его жителей случай. Когда здесь столкнулись с проблемой нехватки муниципального жилья, сразу же был принят замечательный закон города, укладывающийся в одну строчку и понятный каждому человеку, умеющему читать. Он звучит так: «Муниципальное жилище должно иметь самостоятельный вход с улицы». Во-первых, одной этой фразой была предопределена этажность– не выше пяти. Во-вторых, люди, получившие свою дверь на улицу, стали иначе себя вести. Вандализм прекратился практически полностью, преступность упала на несколько порядков. Ведь значительное количество преступлений, как мы сегодня знаем, совершается в подъездах, а их не стало вовсе. И, в-третьих, жители проявили гораздо больше заботы о домах в целом потому, что они стали своими.
Практически во всех цивилизованных странах горожане принимают участие в формировании облика города. От их решения немало зависит. Как свидетельствуют опросы, треть американцев занята общественной работой в различных городских социальных институтах. Им, к примеру, не безразлично, где поставить светофор, дабы их дети имели минимум шансов угодить под машину, или сколько грузовиков будут привозить товар в магазин, который планируется открыть рядом. А часы работы склада, по их твердому убеждению, должны быть скорректированы так, чтобы разгрузочные работы не заставили жителей вскакивать поутру с постели. В этом, видимо, и заключается городское чувство хозяине. Поэтому, когда говорят: «Чувствуй себя хозяином!» – отчасти лукавят. Сорганизуйся как горожанин, тогда у тебя будет шанс стать хозяином города.
«Город есть орудие труда.
Города больше не выполняют нормального своего значения. Они становятся бесплодными; они изнашивают тело и противостоят здравому смыслу.
Непрерывно возрастающая анархия городов оскорбительна, их вырождение ранит наше самолюбие, задевает наше чувство собственного достоинства.
Города не достойны своей эпохи, они уже не достойны нас».
Лe Корбюзье. Градостроительство. Париж, 1925.
Андрей Столяров
ДО СВЕТА

Над деревней висел запах гари. Хижины стояли в ряд, между ними простиралась пустая пыльная улица, твердые лохмотья грязи поднимались по обеим ее сторонам, еле-еле пробивалась сквозь глину ржавая сухая трава, и две курицы – тощие, как будто ощипанные, исследовали ее. Словно между мертвых былинок можно было что-то найти. У обеих краснели бантики на жилистых шеях. Лапки утопали в пыли. Куры, вероятно, были птицами священными. Тем не менее чувствовалось, что протянут они всего несколько дней, а потом упадут – и пыль сомкнется над ними. Пыль обволакивала собою, кажется, все. Красноватый безжизненный глинозем, перемолотый солнцем. Он лежал на дороге, которая расплывалась сразу же за деревней, толстым слоем придавливал хижины, сгущая внутри темноту, и, как ватное одеяло, простирался до горизонта, комковатой поверхностью переходя там в небесную муть.
Страшно было подумать, что будет, если поднимется ветер.
Ветра, однако, не было.
Образованный дымом воздух был вязок, как горячий кисель, – плотен, влажен и, казалось, не содержал кислорода. Дышать было нечем. Теплая фланелевая рубашка на мне намокла от пота. Джинсы прилипали к ногам. Я, как рыба, вынутая из воды, глотал едкость гари. Начинало давить в висках. Тем не менее я отмечал некоторые настораживающие детали.
Деревня была покинута. Нижние проемы хижин выдавали внутреннюю пустоту, между хижинами мертвел летний жар, не было слышно ни звука, а чуть с краю дороги, просев тупорылой кабиной, стоял грузовик.
Грузовик мне особенно не понравился. Был он весь какой-то никелированный, явно не здешних мест, нагловатый, привыкший к пробойным поездкам по континентам, обтекаемый, новенький, даже с непотускневшей окраской – собственно, рефрижераторный трейлер, а не грузовик, на ребристом его фургоне красовалась эмблема ООН, а чуть ниже было написано по английски: «Гуманитарная помощь». И стояли какие-то цифры, обозначающие, наверное, специфику груза. Кабина была пуста, дверца чуть приоткрыта, на широкое удобное сиденье брошено полотенце. Словно энергичный водитель выскочил всего на минуту.
Обойдя грузовик, я обнаружил высохшего коричневого старика, прислонившегося лопатками к глиняной стенке хижины.
Он не шелохнулся, когда я наклонился к нему.
Голую грудь рубцевали ожоги татуировки.
Я подумал, что старик мертв, но глаза его жили, глядя на горизонт, где, как ядерные грибы, торчали какие-то зонтичные растения.
Они были широкие, ломкие, совершенно безлиственные, проседающие под тяжестью небосвода чуть ли не до земли, пучковатые кроны их были посередине раздвоены, а по правую руку, наверное, километрах в двух или в трех, шевелились столбы тяжелого черного дыма.
Было очень похоже, что там горели машины. Подробностей я не различал, и, однако, доносилось оттуда редкое тупое потрескивание, словно от догорающего костра – видимо, переплевывались между собой несколько автоматов.
Вероятно, старик прислушивался к их разговору.
Я присел перед ним на корточки.
– Здравствуй, мудрый, идущий к закату, – сказал я. – Я желаю тебе этим летом обильных дождей, полновесного урожая и удачной охоты. Здоров ли твой скот? Я хотел бы услышать от мудрого единственно верное слово…
Говорил я на одном из местных наречий. Архаичные обороты рождались как бы сами собой, поднимаясь из вязких загадочных глубин подсознания. Никаких усилий от меня не требовалось. Теперь старик в свою очередь должен был пожелать мне доброго урожая, а потом, осведомившись, здоров ли мой скот, поинтересоваться, что ищет путник в сердце саванны.
Но глаза старика даже не дрогнули, еле слышно посвистывало дыхание, а когда я напрягся, чтобы воспринять ответ, на меня обрушилась целая волна отвращения. Омерзительный белотелый червяк – таким я себя увидел.
У меня подогнулись ноги.
Пыль обожгла ладони.
Зоммер, подумал я. Где же ты, Зоммер? Почему-то представилось вдруг, как он сидит, развалившись на стуле, и в десятый раз объясняет мне что-то насчет бессмертия. Благодушный, нетерпеливый, маленький обыватель. Глазки тихо помаргивают, а слегка обалдевшая Рита разливает нам кофе по чашкам.
Вместо Зоммера из-за края хижины выбежал белый мужчина, по-видимому, шофер, и, остановившись, как вкопанный, расплылся в белозубой улыбке.
– Хэллоу… Наконец-то вижу цивилизованного человека. Вы, мистер, откуда – конвой или миссия наблюдателей? Что-то я вас среди нашей группы не видел…
Точно в бешеном тике, он дернул правым плечом. Шорты кремового материала были по карману разодраны, а футболку с красивой надписью «Будь счастлив всегда!», точно рана, пересекала подсохшая корка мазута. И он вовсе не улыбался. То, что мне показалось улыбкой, представляло собой, скорее, гримасу тоски. А, быть может, и не тоски, а крайнего потрясения.
– По-английски говорите?
– Да, – ответил я.
– Меня зовут Эрик Густафссон. Я – из гуманитарного конвоя ООН. Объясните, пожалуйста, мистер, где, собственно, мы находимся?..
Ответа он, впрочем, не ожидал и, поглядывая то на хижины, которых, видимо, опасался, то на зыблющийся клубами дыма маревый горизонт, сообщил мне, что это и в самом деле была гуманитарная помощь – третий за последние две недели конвой ООН, они выехали по расписанию вчера из Кинталы и должны были доставить груз в юго-западные провинции. Порошковое молоко, сухофрукты, мясные консервы. Первые два конвоя достигли цели благополучно, а вот этот, с которым Эрик Густафссон отправился как шофер, наскочил на засаду и был сожжен боевиками. Вероятно, из Фронта национального возрождения. Эф-эн-вэ, наверное, слышали, мистер? Впрочем, он не уверен, все произошло буквально в один момент. Трейлер, ехавший впереди, загорелся, поднялись, как будто из-под земли, какие-то люди, жахнула базука по джипу сопровождения – тогда Эрик Густафссон в панике вывернул руль и погнал по саванне не разбирая дороги. Он, наверное, гнал бы и дальше, до самой Кинталы, но тут выяснилось, что, оказывается, пробит бензобак, горючего у него не осталось, так вот и застрял в проклятой деревне.
– У вас, мистер, есть связь с командованием миротворческих сил? – спросил он. – Или собственный транспорт, или какое-нибудь прикрытие?
– Нет, – ответил я.
Вероятно, он полагал, что я вызову сейчас звено истребителей. А, может, и танковую колонну, чтобы доставить его в Кинталу.
Он мне мешал.
Я опять сел на корточки перед коричневым стариком и спросил на наречии, в котором звенели гортанные тугие согласные:
– Скажи мне, мудрый, идущий к закату, почему твоя душа так темна, почему я не слышу в ней отклика одинокому путнику и почему мудрость мира не светит каждому, пришедшему из Великой саванны?
Мне не хотелось думать, что то чувство, которое я испытал, и было ответом.
Старик, однако, молчал. А когда я осторожно коснулся его колен, чтобы согласно местным обычаям выразить уважение, он чуть вытянулся, будто пронзенный электротоком, и скрипуче, как старое дерево, произнес:
– Стань прахом…
Это было одно из самых сильных проклятий. «Стань прахом» – то есть умри.
Между тем шофер, взиравший на нас, совсем потерял терпение.
– Что вам говорит это чучело? – требовательно спросил он. – Мистер, как-вас-там, чем вы тут занимаетесь?
Я выпрямился.
– Боюсь, ничем не смогу вам помочь, – сказал я. – Транспорта у меня не имеется, связи, соответственно, тоже нет. Я вообще не отсюда – как бы объяснить вам попроще?.. Словом, постарайтесь укрыться, продержаться до прихода спасателей…
Шофер тяжело задышал.
– Что вы такое городите? Вы хотите сказать, что бросите меня здесь?
– Весьма сожалею…
– Мистер, постойте!
Полный бешенства и испуга он двинулся на меня. Его крепкие кулаки поднялись, точно готовясь к удару. Его плотное, как из теста, лицо задвигалось всеми мускулами. Я заметил бесцветную шкиперскую бородку на скулах. В ту же минуту заурчал, приближаясь, мотор, и на улицу выкатил джип, набитый солдатами.
Они были в пятнисто-серых комбинезонах, чернокожие, сливающиеся с однообразной саванной. Все сжимали в руках автоматы, а на головах привязаны были пучки жестких трав. Тоже, видимо, для маскировки. И они четко знали, что им следует делать: двое тут же принялись сбивать с трейлера плоский замок, а цепочка других неторопливо пошла по деревне – и сейчас же от хижин поплыл, нарастая, удушливый дым.
Заквохтала и стихла курица.
Я услышал, как солдаты негромко переговариваются:
– Это же священная курица, зря ты так… Ничего, в горшке она будет не хуже обычной… Мембе говорил, что священных животных трогать нельзя… Ничего, это она для орогов священная… Смотри, Мембе – колдун… А мне наплевать на Мембе…
Затрещали в огне сухие тростниковые стены.
Ближняя хижина заполыхала.
– Эй, эй, парни!.. – возбужденно крикнул шофер.
– Что вы делаете, это гуманитарная помощь!..
Позабыв обо мне, он рванулся к солдатам, которые сбивали замок. Но дорогу ему заступил офицер с тремя красными носорогами на погонах.
– Стоять!.. Кто такой?..
– Вы обязаны передать меня представителю миротворческих сил, – заявил шофер. – Я не из военного контингента, я – наемный гражданский служащий. На меня распространяется Акт о неприкосновенности персонала. Между прочим, и ваше командование его тоже подписывало…
– Чего он хочет? – спросил один из солдат на местном наречии.
А другой, нехорошо улыбаясь, ответил:
– Он не понимает, с кем разговаривает…
Офицер между тем разобрался в торопливом английском – покивал, морща лоб, и лицо его, с вывернутыми, губами разгладилось.
– А… ооновец, – произнес он довольно мирно.
– Что ж, ооновец, мы вас сюда не звали…
И, спокойно приподняв автомат, до этого прижатый к бедру, всадил шоферу в живот короткую очередь.
Шофер упал, и его кроссовки, похожие на сандалии, заскребли по дороге.
Один из солдат засмеялся.
– Он сейчас стучится в свой рай, а охранник Петер говорит ему: «Куда ты? Тебя не пропустим…»
И другие Солдаты тоже оскалились. Пора было уходить отсюда. Тем более что офицер поправил ремешок на плече и, слегка повернувшись ко мне, недобро поинтересовался:
– Ну, а ты что скажешь, ооновец?.. – Скулы у него блестели от пота.
– Ничего, – ответил я по-английски.
И тогда офицер опять покивал: – Правильно. Умирать надо молча.
И лениво, еще не закончив фразу, ворохнул чуть согнутой правой рукой. Я даже не успел шевельнуться. Автомат лихорадочно застучал, и твердый горячий свинец разодрал мне грудь…
– Нет, нет, нет, – сказал Зоммер. – Вы меня совершенно не понимаете. Я уже который раз объясняю вам это, и вы который раз задаете одни и те же вопросы. Вас, наверное, выбивает из седла необычная ситуация. Привыкайте, записывайте куда-нибудь, что ли. Не хотелось бы снова и снова повторять элементарные вещи. Вы пока не можете умереть. Такова изначальная сущность нашего с вами сотрудничества. Вы – непотопляемая единица. То есть, разумеется, вас можно стереть как личность: свести с ума, например, или ограничить жесткой зависимостью. Более того, вас даже можно уничтожить физически. Правда, средства для этого требуются очень сильные. Скажем, атомный взрыв или луч военного лазера. Остальное для вас не слишком опасно. Но не воспринимайте, пожалуйста, это как некое благодеяние лично вам. Обыкновенный расчет: мне просто невыгодно начинать все сначала. Так я никогда отсюда не выберусь… – Он поморщился, словно бы раскусив что-то кислое, пару раз, напрягаясь всем телом, неприятно сглотнул и пощелкал короткими пальцами, прислушиваясь к ощущениям. Его розовые толстые щеки надулись.
– Дело, собственно, даже не в этом, – продолжил он. – Дело в том, чтобы вы получили, наконец, определенные результаты. Что-то, с чем можно работать. Вот вы говорите, например, «накормить», а это, в общем-то, совсем не моя проблема. Как вы это себе представляете: «вечный хлеб» или что-нибудь, скажем, с повышением урожайности? Все это детский лепет, пустяки, вы сами с этим спокойно справитесь. Или взять эту дикую вашу идею об установлении мира…
– Но чем же плох общий мир? – обидчиво спросил я.
Зоммер всплеснул ладонями.
– Да неплох он, неплох – разумеется, с точки зрения обыкновенного человека. Но поймите, лично мне на это глубоко наплевать: хоть вы целоваться будете, хоть друг друга поубиваете. Я лишь выполняю когда-то взятые обязательства. Никакого морального императива у меня просто нет. Да и быть не может, если вы как следует вдумаетесь. Ну какой, черта лысого, здесь может быть внешний императив? Какой внешний императив у вас, ну скажем, для насекомых? Чтобы не размножались чрезмерно, чтобы не вредили посевам. Собственно, вот и все. Только не обижайтесь, пожалуйста, это – аналогия, образ. Вы же сами не будете вмешиваться в муравьиные войны? Выяснять, кто там прав, из-за чего они начались? Почему же вы ждете от меня чего-то подобного? Устранить причину всех войн – это еще куда ни шло. Но не очень рассчитывайте на разработку конкретного механизма. Будет это любовь или ненависть – мне, в общем-то, все равно. Это ваша проблема, теперь вы меня понимаете?
– Понимаю, конечно, – после длительной паузы сказал я. Подошел к стеллажу и провел указательным пальцем по книгам. Тонкий след появился на плотно стиснутых корешках. Словно и сюда просочилась густая африканская пыль из саванны.
Что-то меня смущало.
– Ну вот, вы все же обиделись, – сказал Зоммер с досадой. – Что у вас за привычка такая – немедленно обижаться. Перестаньте, мон шер, это мешает работе…
Он для убедительности вытаращил круглые маленькие глаза и наморщил кожу на лбу, как будто от изумления. Пух волос, прикрывающий череп, заколыхался.
– Вам, наверное, следовало обратиться к профессионалам, – заметил я. Лучше всего в церковь. Любой проповедник исполнит это лучше меня. Что для вас может сделать научный работник?..
Я глянул в окно. Двор был пуст и осветлен отражениями солнца от стекол. Рядом с песочницей лежала резиновая покрышка. Рос старый тополь, и к беловатому потрескавшемуся стволу прислонился мужчина – руки в карманах. Наверное, дожидается кого-то…
Зоммер поерзал в кресле.
– Ну вы все-таки, извините, упрямец, – констатировал он. – Объясняешь вам, объясняешь – никакого эффекта. Вы как будто не слышите, что вам говорят. Да не требуются мне в этих вопросах профессионалы! У так называемых профессионалов все расписано наперед. Ни сомнений, ни реального соотнесения с миром. Вы желаете религиозную диктатуру, давайте обговорим! Но имейте в виду, что это – на целое тысячелетие!.. – Он опять сильно сморщился, покраснев, и, наверное, сглатывая отрыжку, взялся рукой за горло. Покачал младенческой головой из стороны в сторону. Нос у него задергался. – Извините, мон шер, но вы не дадите мне, скажем, стакан чего-нибудь. Пить очень хочется. Человеческие желания, неудобство пребывания в вашей юдоли…








