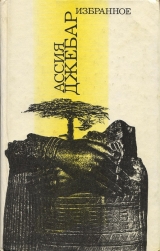
Текст книги "Любовь и фантазия"
Автор книги: Ассия Джебар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Я боялась, как бы меня не заметили с вертолетов. Потом мало-помалу все стихло; война отступила, как кошмарный сон.
Должно быть, я вдруг заснула от усталости. На исходе ночи, незадолго до рассвета, я увидела бредущих одна за другой коз и спокойно идущего следом за ними пастуха – глядя на него, можно было подумать, что ничего не случилось, что это долгое преследование мне только приснилось. «А что с моим братом Ахмедом?» – в тревоге подумала я и спрыгнула с дерева. Пастух остановился и, обернувшись назад, подал кому-то знак. Вдалеке показались четверо мужчин, похожих на партизан, а потом появился и пятый, он стал размахивать руками, пытаясь, видно, привлечь мое внимание.
«Сколько времени потеряно! – подумала я. – Надо пойти поскорее посмотреть, что с братом!»
Мужчины что-то кричали мне, чей-то голос назвал мое имя. Но я уже бежала, ни на что не обращая внимания, и все твердила: «Пойду поищу брата, надо посмотреть, что с ним!»
– Да это же твой брат Абделькадер! – крикнул мне кто-то.
Тут только я поняла, что это был другой мой брат, но я-то хотела отыскать младшего, того, что упал… Я бросилась бежать со всех ног. Аллах, верно, направил меня на истинный путь, и я сразу нашла это место, я первая его увидела.
Ахмед так и остался лежать там, французы взяли все его документы и фотографии, которые он всегда носил с собой. Они сняли с него все, что могли. От его партизанской формы остались только брюки. Старая шерстяная рубашка была разорвана и залита кровью…
Я увидела неподалеку уэд и хотела отнести его туда, но у меня не хватило сил и пришлось тащить его, так что на песке оставался след от его босых йог… Я хотела обмыть его или по крайней мере смочить ему лицо. Набрав в ладони воды, я начала брызгать на него, как во время омовений, а сама плакала, не отдавая себе в этом отчета, рыдала в голос…
В этот момент сзади послышался голос моего старшего брата, Абделькадера.
– Зачем было показывать ей тело? – сердито говорил он остальным. – Разве вы не видите, что она еще ребенок?
– Он упал у меня на глазах! – возразила я, поворачиваясь к нему. У меня на глазах!
И голос мой задрожал.
Крик…
Длинные, отливающие желтизной, волосы девочки окрасились вдруг багрящем. Вечно что-то подозревающие кумушки нарекли ее зеленые глаза «глазами бродячей кошки». Большие зеленые глаза с золотыми искорками… Она явилась на свет после трех мальчиков и была гордостью матери!
Это о ней, тринадцатилетней пастушке, первой дочери в семействе Амруна, судачат соседи и свояки, двоюродные братья и дядья с отцовской стороны, упрекая ее в том, что она хочет быть четвертым мальчишкой, не прячется вместе с другими женщинами, а бежит из дуара, обманув бдительность французских солдат! И вот она заблудилась во время бесконечной погони и взобралась на дерево.
И вдруг осиротела на заре: брат ее пал на рассвете летнего дня, и она, подобно новой Антигоне, пробегает пальцами, окрашенными хной, по его безжизненному, распростертому на траве телу, с которого сорвали одежды.
Укрывшись от зноя в кустах и пахучих травах, течет тонкая струйка уэда. Где-то совсем близко слышится плеск воды. А в нескольких шагах четверо мужчин, став полукругом, с опаской поглядывают на пятого – широкоплечего парня, затянутого в мундир: это второй брат из семейства Амруна. С трудом переводя дух, он протягивает руку к девочке.
Бездыханное тело лежит ничком на земле… Девочка сама притащила его сюда, не дожидаясь, пока придут мужчины. Думая, что одна сможет донести его до воды, она остановилась у первой же отмели… Но лицо, смоченное водой, не пробудить уже к жизни, и она кладет брата на бок, прислонив его к камню.
Она оборачивается к стоящим позади мужчинам, пытаясь возразить им, а может, убедить себя:
– Но ведь он упал у меня на глазах! У меня на глазах!
Она повторяет это, и голос ее звучит то жалобно, то пронзительно. В нем появились какие-то резкие нотки, напоминающие сухой шелест разворачиваемого савана.
Медленно проводит она рукой по. мертвому лицу, прислоненному ею к камню на дне ручья. Но вот она поднимается.
И все вокруг сразу смолкает: природа, деревья и птицы (совсем рядом вспорхнул и сгинул куда-то дрозд). Ветер, взметнувшийся над самой землей, и тот стих. Пятеро мужчин, почувствовав себя лишними, застыли в немом ожидании. И она осталась совсем одна…
Очнувшись от сна, разорвав его сумрачную пелену, она осознает всю важность случившегося, ее пронзает острое чувство непоправимости, ей кажется, будто над ней нависло сверкающее острие косы.
Сует девочки срывается первый протяжный крик. Она распрямляется, в слепящей ясности дня фигурка ее светится еще более светлым пятном, а не окрепший еще голос постепенно набирает силу, уподобляясь парусу, слабо подрагивающему у подножия фок-мачты в ожидании, пока в него вдохнет свою буйную мощь ветер. И вот, словно осторожно расправив крылья, голос взмывает ввысь, так чей же это голос? Голос матери, которая не дрогнула под пытками и не издала ни единого звука, или младших сестер, согнанных за колючую проволоку и все-таки не устрашенных, живущих безумной надеждой, а может, это голос деревенских старух, которые, широко разинув рты и вытянув вперед костлявые ладони, безбоязненно устремляются навстречу похоронному звону? Шепот это или нескончаемый вопль безысходного отчаяния с леденящими душу пронзительными нотами?.. Неужели это и в самом деле голос девочки с покрасневшими от хны и крови брата руками?
При виде пролитой крови стоявшие сзади партизаны вздрогнули. Отныне им ведомо, что они призваны охранять: горестный крик непогребенных мертвецов, которым не дано найти успокоения, зов исчезнувших львиц, неподвластных никакому охотнику… В ясной лазури небес яростный погребальный плач выводит причудливые узоры.
Жалобное стенание то устремляется ввысь, то вдруг сникает; горечь невосполнимой потери как бы рассекает воздух. Над незримым страданием нависает колючая проволока… Тело тринадцатилетней девочки, сотрясаемое рыданиями, начинает раскачиваться взад – вперед, взад-вперед, выражая тем самым бесконечную боль утраты, пастушка словно постигает смысл погребального ритуала. Первого погребального ритуала над прахом первого убитого на ее глазах…
Застыв над пропастью, мужчины молча глядят на нее: это трудно – без трепета внимать нескончаемому горестному плачу, взлеты и падения которого напоминают раскачивание на ветру окровавленного савана. А тот, кого уже нет, упиваясь этим плачем, как бы вновь обретает память и чувствует запах тлена, болотной жижи. Он растворяется в звенящем жару. Неумолчное стенание, причитание-плач оберегают его плоть от гниения. Голос, словно панцирь, укрывает распростертое на земле тело, провожая его в последний путь…
Иссякнув, крик возвращается на землю, замирая в маленьком съежившемся тельце. Но вот девочка вновь распрямляется, взгляд ее вопрошает. Она вовсе не кажется обессиленной, напротив, она, быть может, сильнее их всех.
К ней приближается партизан в военной форме, он обнимает сестру, гладит ей волосы.
Ее зовут Шерифа. Когда через двадцать лет она поведет свой рассказ, то не станет воскрешать в памяти похороны и предание земле тела брата, омываемого водами ручья.
Любовная афазия
В детстве я проводила обычно летние месяцы в приморском селении, где громоздились римские развалины, привлекавшие множество туристов. Девушки и замужние женщины из соседних и прилегающих к ним домов нередко тоже совершают прогулки к тому или иному святилищу… Затем шумливые группы рассеиваются в окрестных полях и лесах.
Один или два мальчика бдительно стоят на страже, а мы, девочки, разделяем компанию родственниц, закутанных в покрывала. И вдруг тревога:
– Мужчина идет!
Среди женщин, расположившихся под смоковницей или оливой, начинается паника, и тут же покрывало, соскользнувшее было на плечо, натягивается на голову. Одна, едва успев продемонстрировать увешанную драгоценностями грудь, снова закутывается с ног до головы, другая встает, желая посмотреть, кто там идет, сама при этом оставаясь невидимой, третья давится от смеха – ее приводит в возбуждение появление любого мужчины.
Тревога порою оказывается ложной.
– Ничего страшного, – заявляет кто-то из женщин, – это всего-навсего француз!
Привычная целомудренная скромность становится в таком случае излишней. Раз прохожий оказался французом, европейцем, христианином, какая важность, если даже он и посмотрит на них, он ведь все равно ничего не увидит! Столкнувшись лицом к лицу с теми, чья миссия на протяжении всей жизни заключается в том, чтобы оберегать от посторонних глаз свой лик, неукоснительно следуя священному завету, перед лицом моих тетушек и двоюродных сестер, во всем подобных мне, чужеземец, решивший, что застал их врасплох, останавливается, чтобы хорошенько разглядеть их, но вот вопрос: видит ли он их? Нет, ему это только кажется…
– Бедняга, – роняет одна из них, когда оказавшийся поблизости незнакомец, подняв глаза, заметит вдруг черную как смоль длинную косу или блеск подведенных насмешливых глаз. Бедняга, как он смутился!
Ибо ему не дано знать: взгляд его, брошенный из-за черты, определяющей границу дозволенного, не может коснуться их. Любые чары тут бессильны, а раз так, к чему им прятаться, нарушая мимолетную радость выпавшей на их долю краткой прогулки?
Так и французское слово для меня. С детских лет чужой язык давал мне возможность открывать мир и его богатства. Но при некоторых обстоятельствах он становился копьем, обращенным против меня. Стоило какому-нибудь мужчине выразить при мне вслух свое мнение о моих глазах, руках или улыбке, тем самым назвав меня, да еще так, чтобы я слышала это, как я тут же ощущала растерянность, которую всеми силами старалась скрыть, давая понять либо жестом, либо внезапной скованностью, либо холодным взглядом, что произошло недоразумение, даже более того непрошеное вторжение. Обычные комплименты или галантные слова не имели надо мной власти и потому обречены были на неудачу.
К тому же мне причиняла боль некая двусмысленность: стремление оградить себя от лести, всячески показывая, что она ни к чему, отнюдь не являлось свидетельством моей добродетели или стыдливой сдержанности. Вовсе нет. Просто, как выяснилось, по сути своей я тоже была женщиной в чадре, только выражалось это не в одежде, а в некой обезличенности. Тело свое, меж тем ничуть не отличавшееся от тела любой европейской девушки, я, вопреки всякой очевидности, считала невидимым и страдала оттого, что иллюзия эта оставалась неразделенной.
Самое безобидное или вполне уважительное замечание, высказанное на чужом языке, должно было, казалось бы, преодолеть нейтрализующую зону молчания… Но как было признаться чужестранцу, становившемуся порой товарищем или приятелем, что такого рода слова утрачивали свой заряд сами собой и не могли проникнуть в мое сознание в силу своей природы и что дело тут вовсе не во мне и не в нем? Слово растворялось, так и не выполнив своего предназначения, вот и все…
Я превращалась в своего рода весталку, заблудившуюся в лишенном волшебства внешнем мире. Ощущая себя невидимой, я улавливала из лестной для меня речи только тон, а порою – несообразность слов. Ответ мой был преисполнен снисхождения к тому, что в силу крайней ограниченности моего опыта, а также наивности в ту пору я почитала весьма распространенным недостатком, свойственным европейскому воспитанию, а именно: многословию и несвязности речи, столь несдержанной в тех случаях, когда дело касалось обольщения. К тому же я была совершенно уверена, притом априори,что избыток любовных слов венчает, словно фейерверк, праздник, соединяющий в себе двойную радость и двойное утоление голода.
Я не замечала, что моя предвзятость знаменовала обращение к – пускай символической, но все-таки чадре. По достижении определенного возраста меня не упрятали, подобно моим двоюродным сестрам, в гарем, и с отроческих лет я жила, предаваясь мечтам, как бы в стороне не вовсе за его пределами, но и не внутри; так, я разговаривала, изучая французский язык, а тело мое тем временем на свой лад приспосабливалось к западноевропейскому образу жизни.
Во время самых обычных семейных торжеств я стала испытывать неудобство, усаживаясь по-турецки, такое положение уже потеряло для меня свой изначальный смысл: смешаться с другими женщинами, дабы испытывать в их кругу взаимную поддержку, теперь это означало сесть, поджав ноги, и только, причем это причиняло неудобства, вот и все.
Помню ночные праздники на террасах, откуда мы, толпа невидимок, созерцали артистов андалузского оркестра с его великолепным тенором. Тот царил над нарядно разодетыми мужчинами, которые знали, что на них смотрят скрытые во мраке женщины, а те в свою очередь издавали в ознаменование этой встречи пронзительный клич, взмывающий время от времени под небеса. Этот извечный крик неизбывной тоски, унаследованный нами от предков, который заставлял вибрировать воздух в глотке, или вызванный радостным подъемом, в моих устах звучал не слишком гармонично. Вместо того чтобы выплеснуться из меня, он разрывал мне душу. И я предпочитала слушать нескончаемый вопль моей матери, похожий и на нежное воркование, и на крик ночных хищных птиц, который поначалу растворялся в многоголосом хоре, чтобы затем взвиться над ним торжествующим вокализом, неустанно солирующим сопрано.
Мое девичье тело начинает незаметно отделяться от этого скопища сбившихся в кучу бесформенных фигур. Оно еще принимает участие в судорожных коллективных танцах, но уже на другой день может приобщиться к иной, более чистой радости, устремляясь на простор солнечного стадиона, где проходят спортивные соревнования или баскетбольный матч. И тем не менее тело это еще недостаточно вооружено, чтобы противостоять чужим словам.
В отношениях с вдвойне противоположным полом – ибо противоположность эта усиливалась принадлежностью к другому клану – меня порою могла тронуть лишь сдержанность чужедальнего воздыхателя. Найти путь к моей душе мог только один вид красноречия, являвшийся в то же время единственным видом оружия, которое способно было поразить меня, – это молчание, и не потому, что оно свидетельствовало о робости или уважении ко мне со стороны того, кто в любую минуту готов был высказать свое чувство, а потому, что воистину выразить это чувство, на мой взгляд, может только молчание. Так воздвигался словесный барьер между мной и мужчиной, становясь исходной и одновременно конечной точкой в наших отношениях.
В XVII веке рыцарь д'Аранда, в течение двух лет находившийся в рабстве в Алжире, говорил об алжирках того времени следующее: «Женщина не проявляет излишней щепетильности в отношении рабов-христиан, ибо считают их незрячими»; и верно, вряд ли стоит скрывать, что подобного рода иллюзия может привести к довольно неожиданным результатам, ибо, оказавшись безоружной перед взором или словом мужчины, на котором лежит запрет, женщина, сбросившая свое покрывало, несомненно, должна испытывать особо острое наслаждение, обнажаясь и чувствуя себя уязвимой, покоренной… Именно «покоренной». Да, женщины, которых довелось узнать рыцарю д'Аранда, охотно принимали любовь чужестранца-раба, пускай и «незрячего».
Что касается меня, то я жила в эпоху, когда уже более века любой, самый последний мужчина находящегося у власти общества воображал себя нашим господином. Поэтому он лишен был возможности рядиться в одежды соблазнителя, дабы таковым предстать в глазах женщин. Ведь, в конце-то концов, сам Сатана вынужден жить с Евой в одном царстве.
Никогда еще гарем, являвшийся олицетворением запрета, будь то само жилище или просто символ, который препятствовал смешению двух противоположных миров, – так вот никогда еще гарем не оправдывал с большим успехом своего назначения служить барьером; можно было подумать, что над моими сородичами, сначала наполовину истребленными, а затем изгнанными со своих земель, над моими братьями, а следовательно, и моими тюремщиками, нависла некая опасность, грозившая утратой их сокровенной сущности, что отразилось даже на их мужском облике…
И эту неосуществимость любви усугубляла к тому же память о завоевании. Когда ребенком я стала ходить в школу, французские слова едва-едва поколебали эту непреодолимую, казалось, преграду. Ибо я унаследовала и несла в себе эту герметичность, замкнутость, и потому уже в отроческие годы мне была свойственна любовная афазия: слова не раз написанные, знакомые слова, как бы ускользали из моей памяти, как только я пыталась выразить с их помощью малейший сердечный порыв.
Если мужчина, с которым у нас был общим родной язык, заговорив со мной по-французски, пытался пойти на некое сближение, слова тут же превращались в некую маску, за которой собеседник, приступая к намечавшейся игре, соглашался укрыться. Вот и получалось, что он сам как бы прибегал к традиционному покрывалу, чтобы осмелиться приблизиться к моей персоне.
Но если я в силу какого-то каприза хотела сократить дистанцию, отделявшую от меня этого мужчину, мне вовсе необязательно было выражать свое расположение мимикой. Достаточно было перейти на родной язык: вернуться к звукам, окружавшим нас в детстве, значило признать не только нашу причастность к одному и тому же миру, но и допустить возможность товарищеских, а может быть, и дружеских отношений, и – кто знает – не случится ли чудо и не возникнет ли чувство любви, как следствие взаимного узнавания.
Друг ли это или влюбленный одного со мной рода, с которым нас связывают воспоминания об одинаковом, утраченном нами детстве, чья память хранит такие же точно первородные звуки и тепло, излучаемое прародителями, а тело следы от ссадин, оставшихся от острых углов, олицетворявших неудовлетворенность, испытываемую всеми его многочисленными двоюродными братьями, соседями, заклятыми недругами, все еще пребывающими, так же как и он, в том самом саду, где царствует запрет, в состоянии летаргического оцепенения, да, братья это мои или братья-возлюбленные неважно, главное, что я могу наконец говорить, прибегая к тем или иным словесным фигурам, намекам, полутонам и акцентам, не опасаясь извилистых поворотов, тихого шепота – предвестника объятий… Наконец-то голос общается с голосом и тело безбоязненно может приблизиться к другому телу.
Голос
Абделькадер и другие партизаны стали внушать мне:
– Твой брат Ахмед пал героем! Такой смерти можно позавидовать!
И они увели меня. Я встретилась с другими девушками.
– Оставайся с нами! – предложили они мне.
– Нет, – ответила я. – Куда брат, туда и я!
И мы ушли вместе. В Бу Харбе мы встретили Нуреддина. Показав на меня, командир сказал:
– Пускай наденет кешебию! [57]57
Кешебия (араб.) – бурнус с капюшоном.
[Закрыть]Нельзя ей находиться в таком виде среди солдат!
Потом мы повстречали Абделькрима, политкомиссара.
С ним мы провели около трех месяцев. Затем мы отправились в Бу Атман, где я снова встретилась с двумя из тех девушек. «Братья» приходили и уходили, а мы трое решили заняться приготовлением пищи. Но в конце концов меня, самую младшую, отправили в партизанский лазарет, чтобы я помогала там.
В лазарете я познакомилась с врачом по имени Ферхат.
– Я научу тебя оказывать раненым первую помощь, – сказал он.
И я осталась с ним и его больными и научилась делать уколы (а теперь я этого не могу по состоянию здоровья: руки у меня дрожат).
Первую ночь я провела в общей палате. На рассвете один раненый, у которого была высокая температура, проснулся и увидел меня. Волосы у меня были тогда очень длинные, и я распускала их по плечам, когда расчесывала. Гак вот он все время бредил и вдруг как закричит:
– Смотрите, смотрите! Ведьма!
Все вокруг засмеялись… Так я и осталась у них. Потом появились и другие санитары. А я, я мыла больных, стирала им белье, потом начала потихоньку делать уколы. Провела я у них целый год.
Но в конце концов мне почему-то не захотелось больше оставаться там. За все это время старший брат навестил меня один только раз. Меня стали уговаривать:
– Зачем тебе уходить? Никто лучше тебя не умеет ухаживать за ренеными!
– Все равно не останусь! – отвечала я. Целый год я ни разу не видела ни женщины, ни ребенка! Одни только раненые партизаны! Да и брат навестил меня всего один раз!
– Разве в этом причина? – говорили они.
– Конечно, не в этом, – соглашалась я, – но делать нечего, на все воля Аллаха! Это он, видно, бросил тень на это место и отвратил меня!
А ведь я любила своих больных. Я даже говорила себе: «Если бы моя мать видела меня, как бы она гордилась мной! Подумать только, я ухаживаю за ранеными!» Часть лазарета находилась под землей – туда помещали раненых, которые совсем не могли двигаться; для остальных же устраивали постель в лесу, под деревьями.
Иногда к нам наведывались командиры: Слиман, Си Джеллул из Шершелла, Си Махмуд (все они потом погибли геройски). Они уговаривали меня:
– Оставайся! Ты хорошо работаешь, ты здесь на своем месте!
Но я заупрямилась и никак не соглашалась остаться.
– Может, кто-то тебе что-то сказал не так? – спрашивали они. Подразумевалось: «Не обидел ли кто тебя?»
– Никто мне ничего не говорил! – отвечала я. Только я не останусь. Не лежит у меня душа, и все тут.
– Куда же ты пойдешь?
– Куда хотите, туда и пошлите, только не оставляйте здесь! Я не хочу больше здесь находиться!
Тогда меня решили перевести в другое место. В день моего отъезда мы с больными плакали вместе!
Меня направили в госпиталь Мимуна, где работал Си Омар. Понадобилось некоторое время, чтобы я привыкла. И вдруг мне говорят:
– Выходи замуж!
– Не хочу я замуж, – заявила я. – Можете убить меня, а замуж я не пойду!
Уж как они старались! Врач, который всему меня научил, пытался урезонить партизан, защищая и меня, и Омара:
– Это же дети! Оставьте их в покое!
Говорят, что врач этот в конце концов ушел от партизан, и как раз из-за истории с моим замужеством. Он ничего плохого не сделал, никого не выдал, просто сдался в плен!..
Так вот они собирались выдать меня замуж за командира! За командира из Музаи. Я упорно отказывалась. Тогда они сказали:
– Если не хочешь идти замуж за этого, ступай за другого. Выбирай кого хочешь!
Я ответила:
– Разве я пришла сюда искать мужа? Нет. И ни за кого я не пойду! Все эти люди – мои братья!
В конце концов они оставили меня в покое. Так я и работала в этом втором лазарете. Потом появилась женщина из городского подполья. Она пришла вместе с мужем и, чтобы ее взяли, сказала, что умеет шить военную форму, хотя это было не совсем так… Ее все-таки оставили у нас. Ночи я проводила вместе с нею. А немного позже появилась еще одна женщина, тоже замужняя.
Через несколько месяцев к нам пришел Си Джеллул из Шершелла вместе со своими помощниками. Они сказали:
– Эта девочка из наших! Мы не хотим оставлять ее здесь! Мы переведем ее к нам в сектор!
Оказывается, они узнали, что я не хочу замуж; мне они ничего не сказали, но отправили меня в Бу Хилаль вместе с партизанами моего района. Там, в лагере, мужчины устраивались на ночь с одной стороны, а женщины, даже те, которые стали женами партизан и не носили военной формы, – с другой… Помню, одна из них, самая старшая, очень привязалась ко мне. Я называла ее джеддой. [58]58
Джедда (араб.) – бабушка.
[Закрыть]
Несколько месяцев спустя нас выдал один партизан. На рассвете лагерь окружили французы. Мы с джеддой встали в то утро первыми и собирались совершить омовение перед утренней молитвой. Как вдруг где-то поблизости я услыхала французскую речь.
– Кто это говорит по-французски? – удивилась я.
– Какой-нибудь партизан! – ответила джедда.
– Не может быть, – сказала я, – ты прекрасно знаешь, что по-французски теперь у нас говорить запрещено.
Выглянув из укрытия, я заметила французских солдат.
– Солдаты! Солдаты! – закричала я и стала будить остальных.
Но тут уже начали стрелять. Один мальчик (кое у кого из женщин были при себе дети), пошатываясь спросонья, едва успел выбраться наружу, и пуля угодила ему прямо в лоб; он замертво свалился к моим ногам. Бедняжечка: один неверный шаг стоил ему жизни! Мы с джеддой бросились бежать. Остальные женщины, не носившие военной формы, решили остаться на месте.
За нами гнались солдаты. Мне удалось спрятаться, и я не вылезала из своего тайника весь вечер и всю ночь. Но на этот раз французы и ночью выслеживали нас, мы попали в окружение. Я сидела, скорчившись, среди кактусов, но меня в конце концов все-таки нашли!
Когда меня вытащили, один парень родом из Менасера (я его не знала, а он, оказывается, как мне потом сказали, играл в оркестре на свадьбах) тут же сообщил французам:
– Это сестра братьев Амрун! Один из них погиб в бою, а другой по-прежнему с партизанами!
Меня спросили, правда ли это. Я подтвердила.
– А где теперь твой брат?
– Я его давно не видела!
На мне была партизанская форма, и офицер приказал:
– Обыщите ее! Может, у нее есть оружие!
Так сказал француз, а конник из арабов, перешедший на сторону противника, который охранял меня, ответил:
– Если у нее есть оружие, тем хуже для нее!.. Хочет убивать, пусть убивает!
– Тут подошел другой перебежчик и сказал, обращаясь ко мне:
– Я тебя знаю! Я видел, как вы с братом перебили двадцать восемь человек! Вы убиваете своих ближних! Вот потому-то я и ушел от вас, решил сдаться!
– Гнусный предатель, – сказала я ему, – и ты еще смеешь так разговаривать! Это ты убиваешь и режешь своих! Мы друг друга не убиваем!.. Это ты продаешь своих и сам продаешься за миску похлебки!
Рассвирепев, он направил на меня свою винтовку и стал угрожать:
– Я убью тебя!
– Убей, – сказала я ему, – убей, если можешь, если ты мужчина! Да только разве ты мужчина, ты предатель! Так убей же меня, девчонку, я даже не женщина, да тебе-то ведь все равно! Убивай, тебе же нравится убивать!
Они продержали меня гам всю ночь. Сначала солдаты решили:
– Мы тебя свяжем!
– Ни за что, – заявила я, никто из вас не посмеет прикоснуться ко мне! Поставьте охрану в несколько человек! Но связать меня – нет!
Они и в самом деле оставили несколько солдат. Утром мне принесли кофе.
– Сначала мне надо умыться!
Они принесли мне воды. Я совершила омовение. Тогда они снова предложили мне кофе.
– Не буду я пить! – заявила я.
Они стали совать мне сухари.
– Не буду я есть!
Взяв сухари, я положила их на землю.
– Ты хочешь оставить их своим «братьям»? – усмехнулся один из них.
– Мои «братья» не похожи на вас, – возразила я, – они не станут продаваться за кусок хлеба!
– Кто приносил вам еду?
– Мы сами!
– Кто доставал вам одежду?
– Мы сами!
Потом они показали мне останки людей, которые, верно, сотрудничали с Францией.
– Кто их убил?
– Я ничего не видела!
– Покажи нам дороги, по которым вы спускались отсюда!
– Я их не знаю, я отсюда не выходила!
– Опиши нам, как выглядят партизаны!
– Такие же точно солдаты, как и вы! А на лица я не смотрю!
– Как же так вышло, что ты, такая молодая, пришла сюда, бросила отца с матерью?
– Партизаны мои братья, они заменяют мне и отца, и мать!
Больше они ни о чем меня не спрашивали, но я все-таки добавила:
– Я не признаю власти французов! Меня воспитывали по арабским обычаям! Мои истинные братья «братья»-партизаны!
Потом они увели меня. Возле какого-то уэда один из перебежчиков тайком передал мне патронташ. Но тут появился офицер, и тот сразу отобрал у меня патроны… Прошло немного времени, и предатель, тот самый, который обвинял и оскорблял меня раньше, подошел ко мне и снова стал угрожать: «Я убью ее!» Но я не испугалась и опять высказала все, что думала о нем, сказала, что «он продался за миску похлебки!».
Тогда вмешался другой перебежчик, по имени Шериф, и сказал ему:
– Оставь ее в покое! Бери пример с французов, несмотря на ее возраст, даже они не решаются с ней разговаривать, ты же ее все время взвинчиваешь, а ведь она твоя землячка!
Тут третий, повернувшись ко мне, предложил:
– А ну, бери винтовку и стреляй сама, бери, тебе говорят!
Я знала, конечно, что он надо мной смеется, но все-таки ответила, не удержалась:
– Думаешь, я не умею стрелять? Хочешь, покажу?
Так мы спорили, а нас тем временем посадили в грузовики. Мы прибыли в казарму Шершелла. Меня бросили в какой-то чулан с выложенным плиткой полом. Я легла и заснула. Потом пришел охранник.
– Хочешь помыться? – спросил он.
Он отвел меня к водоему, дал мне мыло и полотенце. Я помылась и вернулась обратно в камеру. Потом за мной пришли и повели на допрос, который начался сразу же после полудня и продолжался несколько часов… На все их вопросы я отвечала одно и то же:
– Я не признаю вас! Я не признаю власти французов!
Они пытались заставить меня рассказать, где проходили партизанские части, и назвать имена их командиров. Но я неизменно отвечала:
– Я ничего не знаю!
Тогда меня перевели в другую комнату и стали спрашивать:
– Это правда, что Хамданова катиба, [59]59
Военная часть, батальон.
[Закрыть]– (ее так называли потому, что командовал ею Хамдан), – распалась?
Я знала об этом, только им, конечно, сказала совсем другое:
– Нет, неправда! Да вы же сами видели, что в тот день, когда у вас была стычка с нами и столько ваших раненых отвезли в госпиталь, это же был Хамдан! Его катиба спускается с джебеля Шенуа в Бу Хилаль!
Один офицер не выдержал и два раза ударил меня по лицу. Потом они принесли автомат.
– Выкладывай все, что знаешь, иначе мы расстреляем тебя!
– Стреляйте, – сказала я. – Я все равно не боюсь вас! Я даже не женщина, я – девочка, но за меня отомстят мужчины!.. Каждый из них убьет сотню ваших! Стреляйте!
Они принесли хлыст и стали бить меня. Подключили свои электрические аппараты и стали пытать меня.
– Я не признаю вас!
Страха я не испытывала: Аллах обратил, видно, этих французов в тени, потому что я видела только их тени! Я и правда предпочла бы в тот миг отправиться в мир теней!
Вдруг кто-то из них спросил меня:
– Ты-девушка?.. Нам говорили, что такой-то… ион назвал имя командира из Музаи, – хотел взять тебя в жены!
Я поняла, что они узнали об этой истории от бывшего партизана, который нас предал.
– Я не замужем! – ответила я.
В конце концов меня отвели обратно в камеру. Мне дали кровать, одеяло. Принесли тарелку с едой – там было даже мясо – и хлеб с ложкой. И вот, оставшись совсем одна, я вдруг заплакала, слезы текли ручьями, и я никак не могла остановиться! «За что Аллах покарал меня, – в отчаянии думала я, – зачем отдал меня на поругание французам?»
Дверь приоткрылась, и появился охранник, из перебежчиков.
– Не плачь, не плачь! – сказал он мне. – Ты не первая попалась! Сначала, когда тебя допрашивают, это тяжело, очень тяжело, но потом, вот увидишь, они тебя отпустят!
Я не хотела говорить с ним. И он снова закрыл дверь. Я взяла тарелку, попробовала мясо, но откусила два-три кусочка, не больше, потому что опасалась отравиться, хотя была страшно голодна. А к остальному не притронулась. Утром мне принесли кофе. Я попросилась сначала помыться. Меня вывели во двор, к водоему. Мыться пришлось на глазах у всех: я ополоснула лицо, руки до самых локтей и ноги до колен, как во время омовений. Потом распустила волосы, теперь уже не такие длинные, расчесала их и уложила. А они стояли и смотрели на меня!








