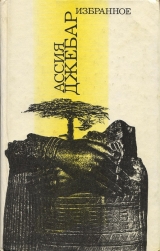
Текст книги "Любовь и фантазия"
Автор книги: Ассия Джебар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Пока рука выводит строчки-лианы, губы шепчут, невольно повторяя их; таким образом срабатывает мнемоническая и мускульная память… Назойливый хор голосов звучит все громче и громче, пока самих ребятишек не убаюкают монотонные звуки их протяжного пения.
Бубнить, раскачиваясь, стараясь не пропустить ударный слог, соблюсти долгие и краткие гласные, самый ритм песнопения, в такт которому двигаются мускулы гортани и торса. Надо уметь управлять своим дыханием на устном экзамене, а там, глядишь, и понимание придет, проделав нелегкий путь. Пение пением, но о правилах грамматики тоже забывать нельзя.
Такое изучение языка требует определенного положения тела, и это помогает развивать память. Как во время спортивных состязаний, детская рука, движимая недетской волей, начинает выводить буквы. «Читай!» Пальцы трудятся над дощечкой, посылая сигналы телу, оно и слуга, и господин одновременно. Губы кончают бормотать, и снова рука начинает смывать, стирая с дощечки написанное, настает минута очищения, слышно, как хлюпает вода, словно совершается смертное омовение. Потом на дощечке появляются новые строчки круг замыкается.
Во время такого обучения тело мое съеживается, как бы повторяя скрытый архитектурный рисунок самого селения, становясь его слепком. Зато, когда я пишу или читаю на чужом языке, оно пускается в путешествие, разгуливает свободно в запретном мире, не обращая внимания на подозрительные взгляды соседей и почтенных матрон, еще немного, и оно, пожалуй, улетит в неведомую даль!
Это параллельное и к тому же столь непохожее одно на другое обучение ставит меня на исходе детских лет в довольно сложное положение, пора было делать выбор (отец сам сделает его за меня, выберет свет, а не мрак). А я в тот момент не подозревала, что это был решающий шаг навстречу свободной жизни со всеми таящимися в ней опасностями, дарованной мне вместо той тюрьмы, где томились мне подобные. Эта неслыханная удача доводит меня чуть ли не до исступления.
Вне дома я пишу и говорю по-французски, и слова мои лишены осязаемой реальности. Я узнаю имена птиц, которых никогда не видела, названия деревьев, на опознание которых мне понадобится потом лет десять, если не больше, названия множества цветов и растений, которые мне доведется понюхать, только когда я окажусь на севере, по другую сторону Средиземного моря. В этом смысле весь словарь казался мне несуществующей абстракцией, экзотикой, лишенной, однако, всякой таинственности, и в результате наступало своего рода омертвение глаза, в чем, правда, никому не следовало признаваться… Сцены из детских книжек, по моим понятиям, были чистой выдумкой: еще бы, ведь во французской семье мать сама приходит в школу за сыном или дочерью, а на французской улице родители как ни в чем не бывало шагают рядом… Так школьный мир существовал сам по себе, вне рамок повседневной жизни родного города, да и моей семьи тоже, утратившей в моих глазах свой неоспоримый авторитет.
Внимание мое приковано к тому, что сокрыто во тьме, да и сама я готова спрятаться под юбкой у матери, которая никогда не выходит на улицу. А где-то там, за пределами нашего дома, веет школьным духом, туда невольно устремляются мои помыслы и пытливый взгляд. И вот, незаметно для меня самой и для всех окружающих, от этого раздвоения чувств у меня начинает мутиться разум.
Голос вдовы
У мужа моего вошло в привычку каждое воскресенье ходить в Шершелл. Однажды он привел оттуда гостя. На другой день было собрание, на котором присутствовало человек пятнадцать, все они пришли к нам с соседних гор.
Гость остался еще на одну ночь, а на другой день ушел обратно в город. Тут как раз начался рамадан. [69]69
Рамадан – месяц мусульманского поста.
[Закрыть]Только, на беду, кто-то нас выдал и сообщил в Гураю о собрании.
Наутро после ухода гостя явились жандармы. Мужчины – мой муж с братьями – ушли тогда на охоту. У нас было два ружья и патронташ, спрятанные неподалеку.
Каид, прибывший вместе с жандармами, стал спрашивать у свекрови:
– Почему твой сын каждую неделю ходит на рынок в Шершелл?
– За покупками и с родными повидаться! – отвечала она.
– Неправда! Я вас прекрасно знаю, родные ваши живут не в Шершелле, а в Нови!
Он спросил, где наши охотничьи ружья. Она ответила, что сын давно уже продал их, на праздник Си М'хамеда бен Юсефа. Так они и ушли ни с чем.
Мужчины наши вскоре вернулись. Но прошло всего несколько дней, и жандармы опять тут как тут, на этот раз они всех мужчин увели в тюрьму. Мой муж вместе с одним из своих братьев просидел там девять месяцев, а потом их приговорили к смертной казни; их обвиняли в том, что они хранили у себя список тех, кто сотрудничал с Францией и кого осудила Революция.
Их было много в той тюрьме, и они решили:
– Ничего, мы за себя постоим!
Однажды утром троим из них удалось задержать охранника, они его убили. С другим охранником случилось то же самое. Один из узников, раненный в ногу, сказал своим:
– Уходите, все уходите! Я остаюсь! Пускай я умру! А вы попытайте счастья. Уходите! Я буду стрелять, и меня убьют!
Они убежали, их было человек пятнадцать-двадцать, и они убежали все вместе. Это случилось в девять часов утра. Была убита даже одна француженка, но почему, мы так и не узнали.
Через два часа солдаты были уже у нас.
– Твои сыновья убили охранников и бежали из тюрьмы! – сказал один из них свекрови. – Скоро сюда придут остальные охранники, и всем вам конец, все вы умрете, и стар и млад, все, вместе со своими кошками!
Они все обыскали, снова спрашивали про охотничьи ружья, потом все-таки ушли. На другой день утром к нам пришел наш родственник, живший на другой горе. Он сказал, что беглецы провели ночь возле уэда Месселмун. Его пошел провожать племянник. Мы, женщины, решили, что будем теперь готовить еды побольше, про запас, на всякий случай…
Потом приходил к нам какой-то парнишка за одеждой. Мы надумали закапывать каждый раз еду, прятать. И вот настал день, когда я смогла повидать мужа, он пришел с мужчиной, которого звали Абдун…
Французы все усиливали охрану. Но каждый раз, как беглецы посылали к нам кого-нибудь из своих, Аллах не оставлял нас своею милостью, да и их тоже!
Однажды ночью собрались все, и один человек отвел их подальше, в Заккар. Так что на следующую ночь мы смогли наконец вздохнуть с облегчением!
Через несколько месяцев наши мужчины пришли повидаться с нами; на этот раз они были в партизанской форме и при оружии. Мы радостно обнимали их и были счастливы и гордились ими!
– Хвала Аллаху! Наконец-то вы спасены!
А жизнь шла своим чередом. Французы поднимались к нам каждый день, почитай, и утром и вечером. Сначала дома сожгли, а потом и за людей принялись! Скот стали уводить, народ убивать… На что нам было надеяться, когда в доме оставались одни женщины?..
Я посчитала за лучшее бежать: перебралась к своим родителям, которые жили на другой горе, да там и осталась. Говорят, солдаты спрашивали потом у моей свекрови:
– А куда подевалась жена лейтенанта? – (Они узнали, что мой муж стал лейтенантом у партизан.)
– После того как вы забрали ее мужа в тюрьму, она не захотела оставаться! Вернулась в свою семью!
Им так и не удалось меня найти до самого конца войны… Я стала опять ходить в горы, помогала партизанам. Мы носили им пропитание, стирали их одежду, пекли хлеб… Ну, а потом муж мой погиб во время сражения, видно, на то была воля Аллаха!
О его гибели я узнала от чужих людей. За неделю до прекращения огня один человек сказал мне:
– Твой муж погиб в стычке под Милианой!
Когда пришла независимость, братья прислали мне письмо, они писали, что он похоронен в Алжире, на кладбище Белькура. Я взяла это письмо и поехала к моей свояченице, жившей в Алжире.
– Кто тебе это сказал? – спросил ее муж.
Я рассказала ему про письмо.
– Покажи! Дай посмотрю!
Наверное, вы станете смеяться надо мной, только я больше не видела этого письма. Как было решиться потребовать его обратно?.. Я знала, что муж мой похоронен в Алжире, потому что после той стычки его лечила одна санитарка. Ее звали «шершеллка», хотя не она, а ее муж был родом из Шершелла. Сама-то она вернулась жить в Милиану.
Год или два спустя я все искала случая повидаться с нею, хотела, чтобы она мне просто рассказала обо всем. И вот как-то надумала я поехать к ней на праздник Сиди М'хамеда, святого покровителя Милианы. Пришла я к бывшей санитарке, решила поговорить с ней. Но пробыла я у нее не больше минуты, пришлось сразу уйти.
Она не смогла рассказать мне всего, потому что я застала ее в самый разгар домашних работ. Но она подтвердила, что и в самом деле лечила его, когда была санитаркой у партизан. Это была женщина средних лет.
Объятия
Стояло лето 1843 года, когда пленники и заложники Сент-Арно были распределены по семьям и размещены в трюмах корабля, отплывавшего из Бона во Францию.
Воображению моему рисуешься ты, незнакомка, о которой на протяжении этого века, вобравшего в себя мои детские годы, по очереди ведут повествование разные сказительницы. Ибо я, теперь уже и я, в свою очередь занимаю место в кружке неустанных слушателей там, возле гор Менасера… Я пытаюсь воссоздать твой образ, невидимка, во время твоего плавания вместе с другими к острову Святой Маргариты, в застенки, ставшие знаменитыми после того, как там побывал «Железная маска». [70]70
«Железная маска» – человек, оставшийся неизвестным, который обречен был всю жизнь носить маску и умер в Бастилии в 1703 г.
[Закрыть]Твоя маска, о прародительница, первой принужденная покинуть родную страну, еще тяжелее, нежели этот романтический металл! Хочу воскресить тебя и твое путешествие, о котором не рассказывается ни в одном из писем французских воинов…
В Боне ты поднимаешься по трапу, смешавшись с пропыленной толпой; мужчины связаны одной веревкой; за ними следуют женщины в белых или серо-голубых покрывалах, за которые цепляются плачущие ребятишки и из-под которых доносится жалобное хныканье грудных младенцев. Тебя везут в изгнание, а ты ждешь ребенка. Верно, ему суждено родиться сиротой, раз не взяли его отца. Ты ощущаешь себя такой одинокой и беззащитной – без отца, без брата, без мужа, – а впереди тебя ждет берег неверных. Но приходится идти, скрывшись в толпе двоюродных братьев, свояков и прочих родственников!
Остальные изгнанницы, так же как и ты, спят в трюме, прямо на полу; они ни разу не видели моря. Оно представлялось им пустыней или долиной, но уж никак не этой колышущейся бездной… В первую же ночь плавания тебя начинает тошнить; на следующий день появились боли.
Во вторую ночь ты чувствуешь, как смерть пожирает надежду в твоем чреве. Ты корчишься в муках, а вокруг собрались двоюродные сестры, старые, молодые и среднего возраста женщины. Они укрывают тебя влажными покрывалами, стараясь уберечь от беды своими молитвами, своим нашептываньем… Без единого крика ты разрешаешься от бремени; ночь полнолуния кажется бездонной, море успокаивается, не ведая, что стало невольным разлучником.
Корабль продвигается вперед, унося с собой сорок восемь заложников. Попутчицы твои дремлют, а ты застыла недвижно, обратив лицо к корме. Тревога снедает тебя.
Как похоронить плод, о мой пророк, всемилостивый спаситель мой!
Старуха, сидевшая рядом с тобой, схватила этот плод словно груду ненужного тряпья.
Моя мертвая птичка, моя кровиночка, о мой глазок, открывшийся во мраке ночи!
Ты рыдаешь, хочешь расцарапать себе лицо, а старуха тем временем бормочет успокоительные молитвы.
– Наша земля в их руках! И море это в их руках! Где схоронить моего мертвого сына? Неужели для нас, несчастных, не найдется больше благословенного исламом уголка?
Просыпаются разбуженные твоим плачем женщины и, подстегиваемые неуемным рвением, хором затягивают нескончаемую суру. Монотонное, протяжное пение не смолкает, и ты в конце концов засыпаешь, прижав к себе завернутый в тряпицу плод. Тебе снится сон, но и во сне тебя не покидает ощущение, будто ты сжимаешь в объятиях свою молодость… Хор пленниц звучит чуть громче…
Потом кто-то трясет тебя во тьме. Чей-то голос зовет тебя:
– Дочь моего родного племени, вставай! Не можешь же ты вечно держать в своих руках агнца, призванного Всевышним!
Ты смотришь, не понимая, в изборожденное морщинами лицо тетки, которая обращается к тебе. В небе за ее спиной пробивается серо-розовый луч нарождающейся зари, окружая сиянием старую женщину.
– Как быть? В какой земле правоверных похоронить его?
И вновь тебя охватывает отчаяние.
– Поднимемся на палубу! Мужчины спят! И мы с тобой бросим ребенка в море!
– Но это же христианское море! – робко пытаешься возразить ты.
– Нет, океан Всевышнего! – говорит в ответ старуха. Все это нива Аллаха и его пророка!.. А сынок твой, я уверена, летает уже, словно ангелочек, в нашем раю!
Две закутанные в покрывала фигуры переступают через тела спящих. И через мгновение руки твои, взметнувшись вверх, бросают за борт сверток.
– Если бы хоть можно было взглянуть в этот момент в сторону родной земли! – жалобно стонешь ты.
– Да хранит нас Аллах всюду, куда ни забросит нас судьба! – подхватывает твоя спутница, провожая тебя на место…
Ты уже не плачешь и никогда больше не будешь плакать! Была ли ты в числе уцелевших, тех, кому десять лет спустя суждено было вновь совершить этот путь, но уже в обратном направлении, и вернуться в лоно своего покоренного племени?
Четвертый такт
Крик во сне
Меня преследует сон, один и тот же, и случается это всякий раз, как днем на мою долю выпадает страдание, малое или большое – неважно. Мне снится моя бабушка по отцу; я вновь переживаю день ее смерти… Я ощущаю себя и шестилетней девочкой, которой довелось испытать тогда это горе, и в то же время женщиной, которой снится сон и которая каждый раз мучительно страдает от этого сна.
Я не вижу ни мертвого тела бабушки, ни самих похорон. Только чувствую свое собственное тело, несущееся по маленькой улочке, ибо я выскочила из отцовского дома, в который постучалась смерть. Я бегу со всех ног по улице, а вокруг вздымаются враждебные стены, опустелые дома. Я устремляюсь к церкви и богатым кварталам, где находится дом моей матери. Рот мой во время бега широко раскрыт… Однако это сон с выключенным звуком.
Бесконечное движение вперед. Управляя моими конечностями, распирая мою грудь, обдирая гортань и упираясь мне в нёбо, неудержимый крик рвется наружу, пытаясь разорвать плотную пелену тишины. Ноги мой словно повинуются какой-то неодолимой силе, а где-то внутри звучат такие слова: «Бабушка умерла, умерла, умерла!»; я несу свою боль и даже опережаю ее каким-то образом, я зову или бегу – не знаю, только я кричу, и крик этот летит вслед несущемуся вперед телу девочки…
Теперь я и в самом деле кричу, а сон, похожий на плотный, обволакивающий туман, все не кончается. Небывалой силы крик. Бабушка тяжкой ношей давит мне на плечи, а между тем на всех бегущих мне навстречу фасадах домов я вижу ее лицо. И тень покойной, запомнившейся мне с раннего детства, распростерлась надо мной. С тех пор как после рождения брата меня выселили из родительской комнаты – мне было тогда полтора года, – я сплю вместе с бабушкой. Как сейчас помню, чтобы я поскорее заснула, старая женщина брала мои ноги в свои руки и долго согревала их, убаюкивая меня.
А через несколько лет она умерла. Эта тихая, ласковая женщина, чей младший сын стал опорой семьи, потеряла голос на моей памяти. Я стала называть ее «моя молчаливая мама», сравнивая ее с теми, другими-матерью, бабушкой и тетками моей мамы, этими горделивыми аристократками, которые жили в атмосфере музыки, ладана и вечного гвалта.
Одна она, немая, молча сжимавшая руками мои ноги, навсегда осталась в моей памяти… Вот почему я кричу, и вот почему в этом сне, преследующем меня на протяжении всей моей жизни, она, оставаясь невидимой, упорно возвращается, и своим безудержным бегом я, девочка, пытаюсь возвратить ей утраченный голос.
А там, внизу, в пышном доме восседает королевой мать моей мамы. Там звучат песни, раздаются громкие голоса. И если послышится вдруг тихий шепот, то это редкий случай, когда появляются мужчины и надо, например, соблюсти приличия во время их еды или сна в общем, когда надо держаться настороже.
Мой сон, продолжаясь, иногда приводит меня и сюда, в эти залитые светом места, к померанцевому дереву возле лестницы, под жасмин, благоухающий у первой террасы. У перил стоят медные горшки с геранью… Я вижу себя сидящей средь толпы приглашенных, закутанных в покрывала, я подавлена, лицо мое пылает. Я смущенно оглядываюсь по сторонам.
И снова я вижу себя бегущей по улочке старого холмистого квартала. Я кричу, но никто меня не слышит – что за наказание! Я кричу, но не оттого, что мне не хватает воздуха, нет, мне кажется, будто я дышу часто и очень шумно.
Опять выскочив из дома в трауре, я во весь дух лечу к жилищу с множеством террас. Я говорю себе, что здесь, в этих местах, где устраивается столько разных праздников, обязательно должна оказаться моя молчаливая бабушка, согревавшая мои ноги своими натруженными, усталыми руками.
В сумраке погребального бдения на первом этаже большого дома бабушка по отцу, худенькая, с добрыми, мягкими чертами, улыбается мне, и лицо ее излучает нежную ласку. Бабушка словно говорит мне:
– Они думают, что хоронят меня, они воображают, будто я умерла! Только ты одна…
Да, одна я знаю, что она воскреснет. Я не плачу, нет, я снова с криком бегу по улицам, между белыми домами, изливая свою любовь в быстром, как ветер, стремительном беге. Простирающаяся передо мной улица идет с уклоном вниз; мальчишки со своими досками на колесиках освобождают мне путь; где-то в самом низу печной запах свидетельствует о том, что происходит под покровом сумерек: корзинки хлеба с анисом уже готовы, они понадобятся во время погребальной церемонии.
Быть может, этот сон дает мне возможность общения с моей молчаливой мамой? Хотя, скорее всего, я пытаюсь отомстить за ее прежнее молчание, которое смягчалось ее лаской в детской постели…
Бедность отцовского семейства я осознала довольно поздно. Мой отец, поступив во французскую школу уже не маленьким, блестяще окончил ее, быстро наверстав упущенное, и вскоре его приняли в педагогическое училище; профессия учителя позволила ему обеспечить свою мать и сестер, которых ему удалось выдать замуж, и только после этого он женился сам.
Из этого прошлого, о котором мне рассказывали, более всего меня поразила такая сцена: моему отцу, девяти – или десятилетнему школьнику, приходилось делать уроки при свете свечи, за низким столиком, возле которого он присаживался на корточки. Я помню этот обветшалый домишко с темными комнатами и маленьким двориком. Образ отца прилежного ученика врезался мне в память и был неотделим для меня от этой убогой обстановки.
В одной из комнат, расположенной немного в стороне, долгое время жила моя тетушка по отцу. Я как сейчас вижу ее, бледной тенью возникавшую на пороге; занавеска на двери наполовину поднята. Откуда-то из глубины, из полумрака доносится голос умирающего, но зов его прерывается приступом кашля… Тетя многие годы ухаживала за своим престарелым супругом, у которого был туберкулез; она ненадолго пережила его, заразившись сама, тетя вскоре после его смерти последовала за ним в могилу.
Вторую сестру отца, которая была помоложе, я помню более отчетливо.
Дом ее стоял неподалеку от дома моей матери. Летом мы, случалось, ссорились с кем-нибудь из двоюродных братьев или сестер, а то и с какой-нибудь юной теткой; не в пример своим подружкам, я не умела пускаться в долгие объяснения, нанизывая одну на другую злые насмешки и колкости или пользуясь образными выражениями нашего диалекта. Из всей крикливой городской детворы меня легче всего было сбить с толку – то ли из-за моей робости, то ли, наоборот, из-за моей гордыни. Мне оставалось одно: покинуть шумный дом, пренебречь заступничеством моей матери и ее подруг, занятых чаще всего вышиванием. В таких случаях я искала спасения у своей тети по отцу: высокая, худощавая, с зелеными глазами, светившимися на ее точеном лице берберки, она, несмотря на кучу детей, заполнявших ее двор, всегда встречала меня с распростертыми объятиями. Приголубив меня, она шла со мной в свою самую красивую комнату, где меня всякий раз завораживала высокая кровать с балдахином… Тетя оставляла для меня особые варенья, сладости, поливала духами мои волосы и шею. «Дочь моего брата», – называла она меня с горделивой улыбкой, и ее нежность согревала меня.
Привязанность эта, безусловно, объяснялась моим внешним сходством с отцом. Женитьба в нашем обществе служит вечной причиной тайных раздоров между двумя семействами… Однако привычное соотношение сил в данном случае было нарушено тем, что родители мои представляли собой вполне современную пару.
Позже, когда я выросла, тетя по-прежнему продолжала называть меня от избытка чувств «дочерью своего брата», и это неизменно вызывало в моей памяти те самые летние месяцы, когда ее добрая улыбка и спокойная уверенность утешали меня.
Существовала ли в этом городе, окруженном истощаемыми эрозией горами, определенная социальная иерархия? Пожалуй, нет, положение в обществе не играло особой роли в силу установившихся между горожанами и окрестными крестьянами дискриминационных отношений, а главное – в силу той сегрегации, причиной которой стал колониализм: небольшая по численности, но зато могущественная группа европейцев мальтийского, испанского или провансальского происхождения держала в своих руках не только власть, но и контроль над единственным видом деятельности, дававшим прибыль, – рыбным промыслом и правом пользования рыболовными судами старого порта.
По улицам города двигались арабские женщины – белые призраки, казавшиеся тем, кто приезжал посмотреть на римские развалины, удивительно похожими друг на друга. Правда, между семьями именитых граждан существовало некоторое различие, ведь недаром же мужчины трудились изо дня в день, добиваясь для своих родных определенного достатка, но истинное уважение завоевывалось главным образом устными преданиями, передававшимися из поколения в поколение и по отцовской, и по материнской линии.
Для меня разница между отцовскими и материнскими предками определялась одним-единственным, но весьма существенным обстоятельством: мать моей мамы много рассказывала мне о мертвых, например об отце и дедушке своей матери. А от бабушки по отцу я узнала только одно: овдовев совсем молодой, она осталась с двумя детьми и ей пришлось снова выйти замуж за человека весьма пожилого, который умер, оставив ей дом и еще двоих детей, один из которых и стал моим отцом.
Бабушка по матери производила на меня определенное впечатление своими танцами во время регулярных сеансов транса, а кроме того, меня привлекал ее властный и в то же время какой-то загадочный голос.
Но и мать моего отца, быть может даже еще с большей силой, владеет моими помыслами, я часто думаю о ней, вспоминая ее ласковые руки, хотя и сегодня меня терзает ее вчерашнее молчание…
Голос вдовы
На этой войне я потеряла четырех мужчин. Мужа и трех сыновей. Они почти разом, все вместе взялись за оружие. Один сын погиб, когда до конца войны оставалось всего-то полгода. Другой пропал в самом начале, я так и не получила от него ни одной весточки и до сего дня не знаю, что с ним сталось.
Мой брат был пятым… Его я вытащила из реки. Я всюду искала его тело и все-таки нашла. Он похоронен на кладбище!
Как-то, когда он был еще жив, мы с ним разговорились.
– Послушай, – сказал он вдруг, – взрыв на уэде Эз-зар-это моих рук дело. И в Сиди М'хамед Уали – тоже. В Бельазме – опять я… Он помолчал, потом добавил: О дочь моей матери, когда я умру, не оставляй меня на съедение шакалам!.. Не хочу, чтобы мой труп растерзали дикие звери!..
Да упокоит Аллах его душу, никогда он ни о чем меня не просил, только об этом!.. Как он сказал, так потом и вышло… В конце концов его поймали. Однажды утром прилетел самолет и стал бомбить нас. А после полудня они убили моего брата. Как только стемнело, мы скрылись.
А у брата, надо сказать, была кобыла. Сам он ходил повсюду, организовывал в народе подпольную сеть. И куда ни пойдет, обязательно возьмет с собой свою кобылу. Когда ему случалось спать на улице, он привязывал ее к ноге.
И вот, скрываясь тогда от преследований, мы очутились на берегу одного уэда. Кто-то сказал мне, что видел неподалеку кобылу моего брата, она лежала и не хотела вставать. А дело было ночью.
На рассвете я пошла искать эту кобылу. Я уже потеряла всякую надежду найти брата. И вот увидела вдруг его кобылу. Она поднялась. Должно быть, она чувствовала, что он где-то рядом… Один человек (крестьянин, которого вскоре убили) сказал мне: «Послушай, мне кажется, твой брат лежит недалеко отсюда, возле ручья!»
Тут как раз опять прилетел самолет бомбить нас. Я побежала и спряталась в воде. А когда самолет улетел, вышла и медленно стала подниматься вверх по течению, так я и шла, пока не отыскала тело брата. Потом побежала позвать кого-нибудь на помощь. Его похоронили на кладбище, в могиле, где лежит моя мать… Тогда еще сыновья мои были живы!
Из всех мужчин нашего семейства удалось похоронить только брата да одного из моих племянников. Вот и все.
Я часто ходила в горы, чтобы повидаться с сыновьями. Младший в особенности часто посылал за мной. Я тут же пускалась в путь и шла из дуара в дуар… «Найдешь меня в таком-то дуаре, – передавал он мне. – Приходи!.. Жду тебя там-то!.. Я совсем обносился… У меня нет ни гроша!.. Такой уж я… Такой уж я!»
Из всей скотины у меня оставался один ягненок. Я его прирезала (начались пожары, и он все равно потерялся бы) и послала сыну целиком, чтобы он досыта поел вместе со своими товарищами… Это тот самый, который шести месяцев не дожил до конца войны, погиб… Какие уж тут слезы, мы все их выплакали! В глазах у нас ни слезинки не осталось, вот потому они и сухие!..
Ну а что касается моего сына, которого я ни разу больше не видела с тех пор, как он ушел к партизанам… Так вот, один из его приятелей прислал мне о нем такую весточку:
«Мать, будь поосторожней, если кто-нибудь от имени твоего сына будет просить прислать ему мыло, одежду или немного денег!.. Позаботься о других своих сыновьях, которые живы!.. А об этом больше не думай!»
А ведь он был такой молодой и всегда все решал сам: «Это надо так, а это вот так!..» Я до сих пор слышу, как он говорил это.
Потом пришла независимость, и мне в деревне ничего не дали. Был один начальник по имени Аллаль, когда он бежал в горы к партизанам, я его прятала у себя какое-то время. Так вот, сразу после войны именно он распределял пустые дома. После того как наш дуар уничтожили, я вместе с другими ушла в город. Но бродяжить мне не хотелось, противно было. Один старик, Си аль-Хаджи, уговорил меня пойти к этому начальнику, чтобы напомнить о себе. Он даже пошел вместе со мной и сам постучал к тому в дверь. Аллаль открыл нам, во дворе у него было много людей, которых я не знала.
Я вошла.
– О Аллаль, где же мои права? – воскликнула я. Сыновья мои сражались, прошли с боями отсюда до самой тунисской границы, а ты тем временем прятался в пещерах да ямах!
Это была истинная правда. И что же, в присутствии всех этих горожан он вдруг заговорил со мной по-берберски! Хотел подчеркнуть этим, что я, мол, деревенская! Но я снова повторила по-арабски, да еще таким тоном, ты ведь знаешь меня:
– Верни мне мои права!
Но мне так ничего и не дали… Видишь, где я теперь живу, да и то еще пришлось заплатить деньги, чтобы поселиться в этой лачуге. «Плати – или не войдешь сюда!» – сказали они мне.
Что поделаешь, мужчин, которые были моей опорой, нет больше, все они ушли!
Шушуканье
Шушукаются здесь, шушукаются там, всюду, где средь поросших молоденькими деревьями холмов стоят заново отстроенные деревушки и снова меж домишек, заполненных орущей детворой, вырастают глинобитные стены и тростниковые изгороди. Я стучусь в каждую дверь, я сажусь на циновку в маленьком дворике, и взору моему открывается все та же гора с опустевшими теперь сторожевыми вышками.
Беседы то тут, то там, всюду, куда приводит меня ниточка родственных связей по матери; та или другая из собеседниц уверяет меня, что на могилы двух святых из моего рода («старика» и «молодого», того, с «черным языком», и другого, молчаливого, возможно – его сына) крестьянки – отвергнутые и бесплодные жены, обездоленные сироты – снова начали ходить на поклон, на исповедь, на сеансы транса, дабы получить благословение этих двух заступников, отца и сына… Говорят они все одинаково нескладно, и волнуют их одни и те же вопросы: не происхожу ли я по матери или по отцу моей матери от этих двух покойных, которые все слышат, чей непробудный сон дарует утешение?.. Да, со мной часто говорят об этом; затаив дыхание, я слушаю голос, доносящийся из полумрака, и стараюсь не пропустить ни единого звука или интонации, сижу не шелохнувшись, пожалуй, я вполне могла бы сойти за святую или проклятую, во всяком случае, могла бы ощущать себя мумией.
Но вот настает момент неизбежных вопросов:
– Сколько лет тебе было?.. Где ты жила?.. Замужем или нет?.. – и так далее.
А потом настает момент, когда единственный по-настоящему волнующий меня вопрос застревает у меня в горле и никак не решается сорваться с губ… Я стараюсь удержаться, не могу найти подходящих слов, стараюсь вспомнить какое-нибудь иносказательное выражение, доброе, ласковое, необидное… А тут еще такая аудитория – четверо или пятеро крестьянок, и все они вдовы войны… Может быть, об этом следует спрашивать наедине? У одной из них на длинной подвижной шее огромный зоб: молвить ей секретное слово, дать понять, что речь пойдет о терапевтах, обменяться советами по поводу того или другого хирурга, той или иной больницы… Говорить с каждой как с себе подобной – осужденной, но не виновной и не пострадавшей. Разделить тусклую печаль, смягчить тон голоса, только не надо ни покорности, ни жалости.
«Мой» вопрос упрямо дожидается своей очереди. Дабы ясно выразить его, надо хорошенько приготовиться; я сижу, поджав ноги, на подушках или прямо на каменном полу, ладони мои раскрыты – чтобы смягчить позу униженного смирения, плечи заранее опущены – чтобы предупредить возможную слабость, колени готовы принять осколки разбуженных чувств, ноги спрятаны под юбкой, чтобы нельзя было убежать с истошным воплем под сень деревьев.
Сказать сокровенное слово, арабское слово «урон» или что-то вроде «обиды».
– Сестра моя, а не было ли тебе какого урона?
Словом этим принято обозначать насилие или отводить его, ну, например, после того как мимо реки, где долгое время пряталась молодая женщина, прошли солдаты, от которых ей не удалось укрыться. Она встретилась с ними. Потерпела от них. «Я потерпела от Франции», – сказала бы тринадцатилетняя пастушка Шерифа, которая на самом-то деле ничего такого не потерпела, вот разве что теперь терпеливо сносит свое тусклое настоящее.








