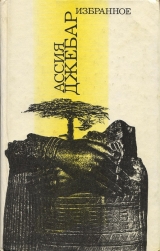
Текст книги "Любовь и фантазия"
Автор книги: Ассия Джебар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Споры, бесконечные обсуждения планов на будущее – все это нисколько не мешало им бодро шагать по улицам Парижа. Предаваясь мечтам об этом самом будущем, жених и принял неожиданное решение об их свадьбе: поскорее отпраздновать свадьбу, а потом – уехать…
Там, у них на родине, прошлой весной, несмотря на отсутствие самих нареченных, состоялась традиционная встреча представителей двух семей. То был день официальной помолвки, как написали им потом, такая церемония давала возможность «заранее» получить свидетельство о браке. Вместо жениха по доверенности расписался его дядя, а что касается невесты, то ей, даже если бы она присутствовала сама, все равно потребовался бы отец в качестве опекуна. Итак, несмотря на их отсутствие, брак был все-таки узаконен; они смеялись над этой формальностью, похожей на комедию.
– Напиши своим родным, – попросил вдруг жених в порыве нежности или тревоги, в которой сам себе не признавался. Скажи им, что мы поженимся ровно через месяц! В конце концов, по закону мы уже женаты!
– Эта квартира владельца книжной лавки – француза, задержанного несколько месяцев назад за то, что он помогал национальной подпольной организации, – пустовала со дня ареста ее хозяина, и потому полиция отменила слежку за ней. Один приятель, выйдя из тюрьмы, дал им этот адрес.
Они решили временно устроиться там. В дни, предшествовавшие свадьбе, будущая супруга после безуспешной попытки растопить старую коксовую печь (в эти морозные зимние утра комнаты наполнялись дымом, но не согревались) погружалась обычно в чтение редкостных книг в роскошных переплетах.
Приехавших к невесте мать и младшую сестру ничуть не смущала чужая обстановка. Брат, почти подросток, был арестован в Лотарингии, его сочли «агитатором» и теперь часто переводили из тюрьмы в тюрьму, так что мать, совсем как западная туристка, привыкла ездить на поездах, летать на самолетах и плавать на пароходах. Каждые три месяца она навещала единственного сына, где бы он ни находился, в любом городе Франции или Наварры.
Женщины приложили все старания, чтобы привести в порядок парижскую квартиру: начистили паркет, отмыли до блеска кухню, приготовили для молодых новое постельное белье, полученное в последний момент, не забыли и о традиционной трапезе, которая по обычаю должна была состояться на другой день после свадьбы. Мать считала, что этот обычай надо непременно соблюсти, и пригласила с десяток друзей и родственников – студентов и иммигрантов, работавших в Париже…
Наблюдая за оживленной деятельностью своей молодой матери, невеста ощущала себя бессловесной статисткой в какой-то игре с неведомыми ей правилами. А мать не уставала перечислять вслух все положенные в таких случаях обряды, неукоснительно соблюдавшиеся в их родном городе, который отсюда, с далекой чужбины, казался нереальным или вообще уже не существующим. Угроза, нависшая над женихом, политическая деятельность которого становилась все активнее, внушала опасения относительно церемонии, назначенной на следующий день. Но какой церемонии?
Девушка вдруг заметила, что ей очень не хватает отца. Хотя, если бы свадьбу праздновали в соответствии с принятыми обычаями, на нее собралось бы многочисленное, но исключительно женское общество.
Однако, согласно той же традиции, в ту минуту, когда женщины свадебного кортежа должны увести невесту, отец, обняв дочь и укрыв ее своим бурнусом, переступает порог вместе с ней. Мать в это мгновение льет неутешные слезы, громко изливая свое горе, словно оплакивает усопшего. В этой суматохе, усугубляемой криками музыкантов и воплями соседок, мать сетует на то, что лишается поддержки в грядущей старости. Хотя в то же время в сердце ее оживают воспоминания о собственных надеждах и мечтах…
Но моя мать очутилась в зимнем Париже, и ей было не до слез. Впрочем, даже если бы свадьба праздновалась там, в доме с множеством террас, принадлежавшем умершей бабушке, и ласковый андалузский тенор вторил бы нежным трелям трехструнной скрипки, рыдающей всю ночь напролет – ведь это волнующая ночь прощания с девичеством, – мой отец все равно не стал бы брать бурнуса, сотканного из чистой шерсти женщинами нашего племени, и обнимать меня, чтобы вместе со мной переступить порог родного дома. Он стремился быть вполне «современным» и ни за что не поступился бы своими принципами в угоду старинным обычаям, хотя и нынешней моды не одобрял. И сколько бы старухи ни убеждали его, пытаясь настоять на своем и внушить ему, что он обязан умилостивить Всевышнего, он все равно бы… Впрочем, к чему эти пустые разговоры, неизвестно еще, захотел бы отец вообще встретиться с женихом, которому все эти годы тайного сватовства вплоть до официальной помолвки казалось, будто он похищает у него старшую дочь?
Ясно было одно: свадебное торжество проходило без доброго согласия моего отца, и не только потому, что он отказывался следовать обычаям, установленным предками. Как ясно было и другое: оба мужчины не смогли бы взглянуть друг другу в глаза из-за всей этой двусмысленности, ни один из них не желал уступать другому, а возможно даже, оба уже ненавидели друг друга, не отдавая пока себе в этом отчета.
Так в Париже, куда доносились отголоски непокорства, проникавшие даже в это временное брачное пристанище, я предавалась воспоминаниям об отце, решив непременно отправить ему телеграмму с торжественными уверениями в своей любви. Я забыла точные слова своего послания, но это было что-то вроде: «В этот знаменательный день я думаю прежде всего о тебе. И я люблю тебя».
Быть может, мне следовало объявить ему во всеуслышание «я-люблю-тебя» на французском языке, объявить открыто и без всякой видимой необходимости, прежде чем отважиться провозгласить это во тьме – только вот на каком языке? в часы, предшествующие свершению брака?
Да, это свадебное торжество непрестанно лишалось чего-то: не было ни пронзительного женского клича – традиционного «ю-ю», – ни гомона толпы закутанных в покрывала женщин, ни дразнящего запаха всевозможных яств всей этой нарочитой суматохи, которая поддерживалась, дабы дать возможность невесте, такой одинокой средь всеобщего возбуждения, проникнуться печалью грядущей жизни…
Для меня брак означал прежде всего отъезд: границы, которые предстояло пересекать второпях, конспиративные встречи, которые заново надо было устанавливать в другой стране. Приезд моей матери и младшей сестренки пробудил в моей душе воспоминания о прошлом. Эти женщины стали для меня воплощением чего-то очень значительного, что подразумевалось само собой, и, когда мы умолкали все трое, никто из нас ни на минуту не забывал о мальчике, томившемся за стенами непрерывно менявшихся тюрем, о моем брате.
И вот наконец я с бесконечной осторожностью подхожу к тому крику, который знаменует собой прощание с девичеством, не преминув вспомнить в ряду прочих символов о крае моего детства. Даже по прошествии двадцати с лишним лет крик этот звучит во мне, словно это случилось вчера, и нет в нем ни боли, ни восторга… Голос какой-то бесплотный, а глаза глядят в летящую пустоту и не торопятся понять…
Крик без всякой фантазии и конного празднества, который мог бы прозвучать на любой свадьбе, даже при отсутствии лошадей в красочных попонах и разодетых всадников. Крик очищающий, крик облегчения, крик, устремленный навстречу свободе. Внезапно оборвавшийся, долгий, нескончаемый, первый крик тела, в которое вдохнули жизнь.
Юноша всегда помнил: как только он переступит порог комнаты святилища вечной любви, его сразу охватит священный трепет и, прежде чем подойти к неподвижно застывшей девушке, он должен совершить положенные молитвы…
Самозабвенно распростершись на полу, с сердцем, исполненным неизбывной любви к Аллаху и его пророку, а также к местному святому, хранителю всего края или племени, мужчина, любой мужчина, следуя священному завету, обязан смиренно помолиться и только после этого имеет право приблизиться к ложу, которое обагрится кровью.
В глазах девушки затаилась улыбка. Как преобразить эту кровь в проблеск надежды, не дав ей осквернить юные тела? Минута мистического сближения. И вот во время этого свадебного торжества в Париже, охваченный тоской по родной земле, жених, войдя в комнату, где стоит новая кровать и прямо на полу лампа, отбрасывающая красноватый свет, сразу направляется к той, что ожидает его, он смотрит на нее и обо всем забывает.
И только спустя несколько часов, лежа рядом с той, что все еще дрожит от волнения, он вдруг вспоминает о неисполненном обряде. Пускай он никогда не молился прежде, но, вступая в брак, он непременно решил это сделать. И теперь его терзает горестное предчувствие.
Наш союз не получит благословения, шепчет он.
Супруга смеется над этой суеверной печалью и пробует успокоить его. Она верит в их любовь и рисует ему радужное будущее. Он обещал, что посвящение ее в таинства любви займет столько ночей, сколько потребуется. И вот в первое же мгновение этой первой ночи он поторопился лишить ее девственности.
И крик этот, крик боли, исполнен тайного изумления. Он набирает силу. Взмывая ввысь, стенание это свидетельствует не только о ране, оставленной копьем, оно выражает внутренний протест.
Удастся ли мне еще хоть раз взлететь на гребень этой волны? Вновь воскресить трепет невольного протеста? Преодолевая собственное сопротивление, тело изливает свой пыл, отдаваясь неудержимо влекущему его бурлящему потоку. Душа воспламеняется, сгорая мгновенно, но какое это имеет значение?
И еще мне хочется рассказать о своей победе над стремлением к тихой ласке, утонувшим в поднявшемся шквале волн. О победе над стыдливостью, над привычной сдержанностью. Краснея, я решилась все-таки сказать сестре с мамой, утешая себя тем, что их нежность ко мне поможет им понять:
– Пожалуйста, оставьте меня в доме одну на эту ночь!.. «Он» отвезет вас переночевать в гостиницу!
Я выразила это желание примирительным тоном… Раз уж судьбе угодно было лишить меня свадебного празднества, шумного гомона гостей и изобилия яств, пусть вокруг не будет никого, и тогда ночь станет безбрежной и бездонной, и я останусь с «ним» наедине так, неожиданно для себя самой, я вдруг заговорила о муже в принятой у нас традиционной манере.
И вот этот крик в конспиративном доме. Я наслаждалась моей победой, ибо жилище не заполонили любопытствующие дотошные женщины, и даже моя мать с сестрой исчезли на некоторое время, так что, поборов заслоны протеста, крик взмыл до самого потолка.
Лампа продолжает гореть… Жених, которого преследует полиция, упорствует в своем отчаянии: он собирался помолиться до этого.
«До чего?» – думаю я, пробираясь по коридору, словно раненая газель, и стараясь не смотреть на себя в зеркала.
До крика, разумеется. Нет, говорю я себе, ни Всевышний, ни волшебное заклинание не в силах защитить эту любовь «до самой смерти», как надеется мужчина. В последующие дни я жадно разглядываю в метро женщин, всех женщин. Меня терзает первородное любопытство: почему все они молчат, почему каждая из них скрывает: ведь любовь это крик, неустанное страдание, которое само себя разжигает в надежде на счастье. Стоит пролиться крови, и все вокруг бледнеет, меркнут краски и воцаряется молчание.
Итак, не было любопытствующих глаз, которым грезится все новое и новое насилие.
Не было традиционного танца мегеры с испачканной простыней, ее смешков, ее балаганной жестикуляции всех этих признаков смерти, которая любит рядиться в одежды любви… Молодая обычно не кричит и не плачет: с широко открытыми глазами она, словно после жертвоприношения, неподвижно лежит на брачном ложе, а мужчина торопится прочь, спасаясь от запаха спермы и благовоний застывшей статуи, поэтому крик замирает на сомкнутых губах…
И в последующие дни тоже не было крови, выставленной напоказ.
Цистра [53]53
Старинный музыкальный инструмент.
[Закрыть]
Долгое молчание, бурные ночи, застрявший в горле крик. Стоны, лавина тонущих в бездне звуков, чистейшей воды родники, где эхом отдаются голоса, неясный шепот, шелест листьев на сплетенных ветках, молодые побеги, звенящие на ветру, и вдруг-рвущийся ввысь голос, обретающий в бездонных тайниках памяти силу, навеянную безумными мечтаниями далеких веков.
Стонет кимвал, его держит в узде тесситура, осколки горестных вздохов бьются о полог ложа, звонкий смех прорезает порой монастырскую тьму, смежаются веки, и сами собой угасают тихие жалобы, заблудившись средь кипарисов несбыточных снов, но не успеет расправить крылья птица сладостной неги, как тонет в пучине корабль желания.
Слова – расплавленный металл срываются с губ, как горячие угли, пылает факел нескончаемой ласки, но вот свинцовой тяжестью наваливается немота, тело пытается обрести свой голос – так рыба ищет воды в пересохшем устье реки.
И снова стенания, нечем дышать, захлестывает волна очистительного окропления, глухая жалоба, потом долгая песнь, песнь торжествующей любви, она взвивается ввысь, захлебываясь от восторга в ночной тиши, нарастают рулады «форте» и внезапно катятся вниз.
Величавые или слабые, едва слышные звуки слагают извечную песнь любви, горячечный бред стаккато.
Стена молчания окружает незыблемый бастион блаженной неги.
И каждую ночь звучит новая песнь. И ее окружает молчание – золото.
Часть третья. Голоса погребенных
И я остался в памяти людской, в сих местах, в сих просторных кладовых…
Блаженный Августин. Исповедь, Х.8
Quasi una fantasia…
Людвиг ван Бетховен. Опус 27. 1 и 2 сонаты для фортепьяно
Первый такт
Двое неизвестных
Два чужих человека оказались в определенный момент настолько близки мне, что на какое-то мгновение мне почудилось, будто мы одной с ними крови, и случилось это не во время обмена мыслями или дружеского разговора. Двое неизвестных случайно соприкоснулись со мной, причем каждый раз это сопровождалось громким криком, и неважно, кто кричал – тот или другой, а может – я сама.
Мне семнадцать лет. В то утро бурлящий город был залит солнцем. Я сворачиваю на улицу, которая убегает куда – то вдаль; и повсюду, в конце любой улицы или маленькой улочки, простирается море – безмолвный зритель. Я кидаюсь ему навстречу.
Произошла самая обычная ссора влюбленных, которая моему воображению рисуется вызовом, и я бросаю этот вызов пространству, а тем временем тайная сердечная рана, самая первая, растет и ширится… Мои глаза устремлены в сияющую синь; странная сила толкает меня вперед, я желаю расстаться со всем на свете, бегу со всех ног, мне хочется улететь. Бурлящий город залит солнцем, город других…
Лихорадочное нетерпение, стремление к абсолюту; бегом спускаюсь по улице вниз. Я еще ничего не решила и даже не успела ни о чем подумать, меня неудержимо влечет вперед этот порыв, и только, но в этот самый момент тело мое метнулось вдруг под трамвай, внезапно вынырнувший из-за крутого поворота.
Как я очутилась возле порта? Не помню. Я уже не помнила себя, просто летела навстречу морю, обуреваемая жаждой забвения, и тут моему взору открылось похожее на гигантскую акварель последнее видение: мачты корабля, пронзившие лазурь небес. Но, прежде чем погрузиться в небытие, я рухнула на железные рельсы, ставшие мне постелью.
Когда через несколько минут меня подняли, средь шума толпы собравшихся вокруг зевак я, медленно приходя в себя после погружения в трагический омут, расслышала один голос, голос кондуктора, который в самый последний момент успел затормозить. И вот в этой утратившей все краски пустоте, сопутствовавшей моему новому рождению, одна деталь приобрела вдруг огромное значение. Меня поразил акцент, с каким потрясенный мужчина все повторял: – У меня до сих пор дрожит рука, посмотрите!
Я узнала говор небогатого люда европейских кварталов города. Мужчина сорвался на крик, снова и снова повторяя эти слова дрожащим голосом. Я широко открыла глаза. Все еще лежа на земле, я все-таки сумела различить фигуру этого мужчины, потом его лицо, склонившееся надо мной: толпа, должно быть, расступилась, пропустив его, чтобы он успокоился. А он так и впился глазами в девушку, которая не двигалась, но все-таки дышала, а значит, была жива.
С тех пор я начисто забыла незнакомца, но голос его, возвысившийся над общим гулом, все еще звучит в моих ушах. Волнение его навек врезалось мне в память.
– У меня до сих пор дрожит рука, – твердил он, – посмотрите!
Наверное, он показывал столпившимся очевидцам свою руку, которая, остановив трамвай, спасла мне жизнь.
Девушку вытащили из-под вагона; она отделалась легкими ушибами, и «скорая помощь» доставила ее в ближайшую больницу. Она сама удивлялась, что это на нее нашло и как это она, словно в полусне, могла решиться пойти «до конца». До какого такого конца? Быть может, то был конец мятущегося отрочества? Очнулась она при звуках голоса кондуктора, чтобы снова погрузиться затем в сумрак неизвестности, ну а потом ее опять закружил вихрь любовной истории. Она никому не рассказывала о том, что произошло, да и что это было – душевный кризис или беспредметный бунт? Познала ли она и в самом деле отчаяние?
Но этот акцент небогатого люда европейских кварталов города, этот говор, облекший голос кондуктора в плоть и кровь, навсегда остался ей близок: смерть, чье крыло едва не коснулось земли, приняла, видно, это обличье.
Долгая история мучительной любви, до смешного долгая. Проходит пятнадцать лет, и тут уж, пожалуй, становится не до смеха. Годы тянутся один за другим, счастье кажется таким обыденным, плоским. Долгий период благополучия, слишком долгий.
Проходит еще два-три года; несчастье кажется таким обыденным, плоским, время словно раскололось, теперь оно отмеряется угрюмым молчанием…
И вот однажды ночью женщина выходит в Париже на улицу одна. Чтобы пройтись, чтобы постараться понять… Найти нужные слова, чтобы больше не витать в облаках, не ждать больше неведомо чего.
Улица Ришелье, десять часов вечера, одиннадцать; сырая осенняя ночь. Постараться понять… Куда приведет туннель внутреннего молчания, немоты? Шагая вперед, начинаешь ощущать упругость собственных ног, покачивание бедер, легкость тела в движении, и видишь наконец просвет в жизни, и расступаются стены, все стены…
Кто-то, какой-то незнакомец, идет вслед за мной уже довольно давно. Я слышу его шаги. Ну и что? Я – одна, совсем одна. Я ощущаю себя полноценной, нетронутой, пожалуй, как «в самом начале», но только вот чего? Ну хотя бы этого паломничества. Впереди – голое пространство, длинная пустая улица принадлежит мне, я свободно шагаю по ней, подчиняясь собственному ритму, и камни стен со всех сторон глядят на меня.
И мало-помалу одиночество этих последних месяцев растворяется в холодном сиянии красок ночного пейзажа, но вот внезапно раздается чей-то голос, он звучит все громче и громче. В нем слышатся отзвуки былых печалей. Чей же это голос, неужели мой? Я с трудом узнаю его.
Сначала нёбо мое обжигает поток горячей лавы, который затем превращается в бурную реку, выплескивающуюся из моих уст и несущуюся как бы впереди меня.
Долгий, монотонный, ни на что не похожий, нескончаемый вопль, нечто вроде осадка, исторгнутого из глубин моего существа, и вот эта расплавленная масса изливается, подобно неведомой смоле, оставляя за собой нагромождение неопознанных обломков… Глядя на себя как бы со стороны, я почти безучастно вслушиваюсь в это отвратительное месиво звуков: тут патока смертных хрипов, гуано из икоты и удушья, запах азота, источаемый неким трупом, задохнувшимся и гниющим во мне. Голос, мой голос (или, вернее, то, что исторгается из моего зияющего рта, разинутого, как при тошноте, или готового затянуть некую скорбную арию), звучит не умолкая. Наверное, надо поднять руку и закрыть ею лицо, чтобы остановить таким образом потерю невидимой крови?
Или по крайней мере уменьшить ее лавину! Здесь, рядом, за этими стенами, сидят в тепле чужие мне люди, а я, я всего лишь бездомная изгнанница, беглянка с другого берега, где женщины передвигаются подобно белым призракам и похожи на мертвецов, погребенных стоймя, потому что им не положено делать того, что делаю теперь я, – выть не умолкая: что за варварский звук, что за дикость, такая же точно дикость, как останки, что достались нам от прошлого!.. Смягчить хоть немного этот хрип, сделать его похожим на речитатив, пускай и неуместный, на что-то вроде заклятья в изгнании.
Улица Ришелье такая длинная и узкая и совсем пустая. Дойти до конца ее и остановиться, оборвав тем самым этот дикий звук, это ламеито, принадлежащее, как ни странно, мне.
А за мной по-прежнему следует незнакомец, о котором я и думать забыла; он замедляет шаг, когда я замедляю свой, и, когда мой сдавленный голос, постепенно стихая, зазвучал чуть помягче, он решился наконец вымолвить:
– Прошу вас, мадам, не кричите так!
Крик застрял у меня в горле. При свете уличного фонаря я поворачиваю к нему свое застывшее лицо: что вообразил себе этот назойливый человек, думает, что я страдаю?
– Оставьте меня одну, пожалуйста!
Сказала я это почти ласково, удивившись волнению этого незнакомца. Я совсем не помню его лица, едва могу вспомнить его силуэт, но голос, в котором звучала мольба, мне слышится и по сей день-такой теплый, взволнованный, что дух захватывало. Взволнованность его объясняется тем, сказал он, что я кричу. Неужели именно это положило конец моему бунту, от которого все во мне клокотало?.. Реакция этого незнакомца внезапно открыла мне многое, и я приняла ее как должное. Ничто уже теперь не в силах причинить мне боль.
– Пожалуйста! – повторила я совсем тихо и невольно отпрянула.
Свет фонаря падает па высокую фигуру и сияющий взгляд мужчины, который пристально смотрит на меня. Я не выдерживаю его взгляда и опускаю глаза. Он уходит. Два тела, потрясенные взаимной печалью, на какую-то долю секунды приблизились друг к другу. Мимолетное видение возможного счастья.
Взволнованная мольба, прозвучавшая в словах этого человека, словно он был моим другом или возлюбленным, помогла мне выбраться из непроглядного мрака на свет. Я почувствовала себя вдруг свободной и отмела прочь ненасытную любовь, несущую омертвение. Смеяться каждый день, танцевать, бродить бесконечно по улицам. Ведь мне, в сущности, ничего, кроме солнца, не нужно.
Итак, два вестника явились мне в начале и на исходе этой мрачной любовной истории. Никто из чужих людей никогда не соприкасался со мной так близко.
Голос
Мой старший брат Абделькадер ушел в горы, с тех пор прошло довольно много времени. И все-таки французы добрались до нас, а жили мы в зауйе [54]54
Зауйа-молельня, небольшая мечеть.
[Закрыть]Сиди М'хамед Аберкан… Французы пришли и сожгли наш дом. Мы остались ни с чем среди почерневших камней…
Второй мой брат, Ахмед, тоже ушел. Мне было тринадцать лет. И снова пришли солдаты и опять наше жилище сожгли. Добрые люди помогли нам отстроиться. Прошло какое-то время – может, с год.
И вот на дороге в соседнем лесу солдаты наткнулись на партизан. В тот же день они ворвались к нам. Они искали «вещественные доказательства» и нашли: у нас хранилась кое-какая одежда «братьев» [55]55
Так называли участников национально-освободительной войны.
[Закрыть]и даже пули. Они забрали мою мать и жену моего брата и в третий раз сожгли наш дом.
А вечером пришли «братья». Они отвели нас в горы, в дуар [56]56
Дуар (араб.) – селение.
[Закрыть]Сиди бу Амран. Мы успели добраться туда еще до рассвета. Партизаны стали искать нам жилье, а мы ходили следом за ними все вместе: женщины, мой престарелый отец и младшие братья.
Сначала тамошние жители не хотели нас принимать.
– Придут солдаты и нас тоже сожгут! Не хотим, чтобы эти люди здесь оставались! Зауйа сгорела, и наш дуар тоже сгорит!
Они долго сопротивлялись. Но Си Слиман и Си Хамид (Си Буалема к тому времени уже арестовали) стояли на своем:
– Эти люди останутся у вас! Ничего не поделаешь!.. Ну а если кто-то из вас боится, что ж, пускай идет к врагам и сдается, если, конечно, захочет… А эти люди останутся здесь!
Так мы поселились там. А связь с «братьями» у нас сохранилась. Мы все работали. Но французы и сюда добрались и все сожгли. Тогда-то сын Хамуда и решил сдаться.
Французы приказали всему населению спускаться вниз, в долину. А мы вместе с нашей матерью, которую уже освободили, все-таки остались на месте. Ночью мой брат Ахмед да упокоит Аллах его душу – отправился на поиски другого пристанища для нас.
Но он не успел отвести нас туда. Незадолго до рассвета нас окружили враги. Они потребовали:
– Спускайтесь вниз, как все остальные!
Когда пришли солдаты и стали поднимать меня, я закричала:
– Не пойду!
Тогда один солдат схватил меня за одну руку, второй за другую, но я все не унималась, кричала. Так меня и вывели из дома.
И вот нас повели вниз. По дороге пришлось переходить уэд, а накануне лил сильный дождь. Вода так и кипела в потоке. Один из солдат поднял мою младшую сестренку, чтобы перенести ее. Она стала отбиваться изо всех сил:
– Не трогай меня!
А это был человек из отряда арабской конницы, перебежчик.
– Это почему же? Мы ведь хотим помочь вам! – воскликнул он, думая, что и в самом деле оказывает услугу.
Тут-то я и вмешалась:
– Она же сказала, чтобы ты не трогал ее, вот и не трогай!
Ну, добрались мы до деревни Марсо. Нас поместили в какой-то клетушке: всюду цемент, и стены серые, и пол такой же… Холод, да еще детской мочой пахнет – так мы и провели ночь.
А наутро к нашей двери подошла старушка, жившая где – то совсем рядом, и прошептала:
– Я ухожу работать в поле! Попросите, чтобы вас выпустили, не сидите там!
Мы вышли. Нас разделили: женщин с ребятишками в одну сторону, нескольких стариков в другую. Потом всех нас отвели на окраину деревни и разместили в палатках. Там, думали они, им легче будет следить за нами.
Прошло несколько дней. Мы наблюдали за охранниками, замечали, в какое время они делают обход. Чтобы как-то просуществовать, нам надо было хоть немножко работать. Кое-кто из женщин ходил собирать колосья, но только на самом краю поля. Маленькие ребятишки плакали целыми днями. Уцелевшую скотину и кур быстро прирезали.
Вскоре с гор мне передали: «Ты нам нужна здесь, возвращайся вместе с одной из твоих сестер!» Я готова была плясать от радости и изо всех сил сжала губы, чтобы удержаться от нашего традиционного «ю-ю».
И еще я узнала, что мой младший брат прятался неподалеку оттуда. Мне удалось незаметно ускользнуть; весь день я искала дорогу и не могла найти. Я совсем выбилась из сил, и вечером мне пришлось вернуться, но я твердо решила снова уйти и снова искать… Через два дня я опять отправилась в путь и стала искать, но и на этот раз все было напрасно. Вернувшись, я застала мать в слезах, она молча вытерла лицо и ни о чем не спросила меня.
На третий раз я нашла, кого искала. Со мной была моя сестра, она младше меня на год. Я тут же спохватилась:
– Ступай назад! Ты должна вернуться!
Я вдруг подумала, что мать останется одна с малышами. Кто ей поможет?.. Только в момент окончательного ухода я поняла это. Сестра неохотно подчинилась мне. Наверное, потом она на меня сердилась.
После нескольких часов пути мы с проводником прибыли к партизанам. Среди них находился мой брат Ахмед. Он обнял меня и сказал так:
– О сестра, как я рад, что вижу тебя, когда гляжу на тебя, мне кажется, я вижу свою мать!
Я заплакала, сама не знаю почему. Я была счастлива, что он жив-здоров, и все-таки плакала, обнимая его…
– С тех пор мы с Ахмедом не расставались. В этой группе партизан были и другие девушки, чуть-чуть постарше меня: две из Шершелла – Насера и Малика – и еще несколько из окрестных сел.
Вскоре один из партизан сдался и привел к нам врагов, но не в первую, а во вторую ночь. На рассвете солдаты окружили нас.
Уж не знаю как, только наши часовые заснули. В ту ночь как раз мой брат Ахмед и еще один партизан отправились за пропитанием. На обратном пути они обнаружили, что враг рядом. Бегом они бросились к нам и стали кричать:
– Выходите! Живее выходите!
Едва мы выбрались из своих укрытий, как началась стрельба. В то утро я чувствовала страшную усталость и не могла бежать, ноги не слушались меня – может, потому, что это была первая моя тревога…
– Беги, да беги же ты! – кричал мой брат, чуть ли не подталкивая меня сзади.
– Не могу! Беги ты первый! Я – за тобой!
– Беги, сестренка! – молил он, уходя, и голос его до сих пор звучит у меня в ушах. – Если тебя поймают, то будут пытать!
Он бежал впереди меня и вдруг упал: пуля попала ему в ухо. Он упал как раз передо мной… Упал лицом вперед и, падая, опрокинул парнишку, который поранился о камень. Но тот сразу вскочил.
Мы с ним снова бросились бежать; я плохо знала местность и старалась не отставать от мальчика. Пули так и свистели вокруг нас. Бежали мы долго; кроме мальчика, я ничего перед собой не видела… Потом я осталась одна; я продолжала бежать вдоль уэда, направляясь к лесу за холмами. И вдруг ощутила тишину вокруг себя; тут я остановилась.
Я пыталась сориентироваться. Оттуда, где я находилась, виднелось несколько хижин, и я подумала: «Должно быть, это Трекеш». А я знала, что люди в этом дуаре были на стороне Франции. Повернув в другую сторону, я пересекла поле и спряталась в роще. Вдалеке послышался какой-то шум, похожий на шум самолета. Я свернулась клубочком и не высовывалась из своей норы.
Неподалеку от этого места сходились две дороги, я видела, как на перекрестке промелькнули мужчины в военной форме и быстро исчезли. Внезапно я закашлялась и страшно испугалась, что меня могут услышать. Тогда я нарвала дубовых листьев (говорят, что они помогают от кашля) и молча стала жевать их. Так я и сидела там, не двигаясь, и даже немного соснула.
Настала ночь. Услышав вой шакала, я проснулась, мне стало страшно. А шакал все выл… Выбравшись из укрытия, я осторожно пошла в сторону одной из дорог. Сначала я заметила вдалеке огонь пожара, а потом на лугу увидела двух или трех брошенных коров. Я остановилась ненадолго, чтобы погреться возле них, но потом испугалась, как бы кто не пришел за скотиной и не выдал меня, и снова двинулась в путь… Чуть подальше я встретила еще несколько коров, которые тоже, наверное, бежали от пожара, но уже в другом месте… Я дрожала от холода, ведь стояла зима, дождя, правда, не было, но в канавах и на камнях лежал снег.
Что делать? Спать на земле, несмотря на холод? Но вокруг бродили кабаны и шакалы. Взобраться на дерево? Я боялась, что засну и упаду вниз… В конце концов, я нашла мощный дуб с крепким стволом и, ухватившись за ветку, пристроилась там. Мне удалось продержаться до утра. Положившись на волю Аллаха, я даже задремала.
Весь следующий день я пряталась, пока не стемнело. Где – то совсем близко гремели новые бои. А я стала похожа на призрак: люди копошились вокруг меня, но мне казалось, что живут они в каком-то ином мире!








