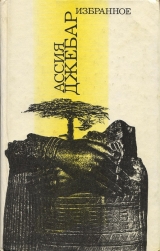
Текст книги "Любовь и фантазия"
Автор книги: Ассия Джебар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
За пределами кладезя в прошлом сокрытых веков как услышать звон тяжких оков?.. Но любовь пробивает дорогу себе, и грядущего зов долетает ко мне, заглушая стенания мертвых, сердце гулким набатом гудит, славя предков, восставших из пепла.
Часть вторая. Клики конного боя
Мне пришлось самому возглавить экспедицию в горные районы Бежайи, где жили берберские племена, уже несколько лет отказывавшиеся платить дань… Проникнув в их край и преодолев их непокорство, я взял заложников, чтоб повиновались впредь…
Набеги капитана Боске из Орана…
Октябрь 1840 года в Оране: с тех пор как в прошлом году возобновилась война с эмиром, французский гарнизон держится все время настороже.
Маленькое пространство – всего-то в два или три лье – вокруг крепости, между двумя лагерями, Мисергин и Смоковница, находится под строжайшим контролем: тут – несколько садиков для маркитантов, там – три несчастных кабаре. Этого едва хватало, чтобы накормить и развлечь солдат удаленных постов, затерявшихся средь пустынной равнины. На востоке, неподалеку от побережья, простирается ферма единственного землевладельца, некоего Дандурье, поселившегося здесь в 1837 году во время перемирия. На западе начинается территория племен дуаиров и смеласов, союзников Франции – прежде, правда, они точно так же поддерживали турецкую власть, служили жандармами по взиманию налогов.
Остальная часть этого края представляет собой бескрайнее плоское пространство, где нередко появлялись отряды, подчинявшиеся Абд аль-Кадиру, который только что еще раз призвал к священному союзу в борьбе против иноземцев. Начинается решающая фаза войны, которая продлится еще восемь лет.
На дорогах, ведущих в Тлемсен, Мостаганем, Арзев, время от времени появляются французские транспортные колонны. Однако ни один европеец не отваживается ступить на окрестные тропы.
Весной того же года обострились франко-алжирские отношения в центре страны: маршал Вале вместе с королевским сыном герцогом Орлеанским пытался сдержать воинственный натиск атласских племен от Шершелла до самой Блиды и Медеа. Те оказывали поддержку регулярным войскам Абд аль-Кадира и его лейтенантам, давая тысячное пополнение. Вале намеревался организовать военную прогулку; однако ему пришлось снова сражаться в ущельях Шиффы, затем он вернулся в Алжир подводить помпезные итоги и приумножать сводки о боевых успехах. Долина Митиджа была очищена, но волнения не утихали.
На западе тридцатитрехлетний генерал Ламорисьер, бывший командир зуавов, 20 августа был назначен начальником Оранской крепости. Два месяца он места себе не находит, изнывая от тоски: каким образом от оборонительных действий перейти к наступательным, причем незамедлительно? Разве Бу Хамди, лейтенант эмира, не атакует дуаиров на их собственной территории? И не препятствует ли он тем самым снабжению довольствием французов?
Ламорисьер, которому арабы дали прозвище «феска», максимально использует разведывательную службу Дома, карты и топографические съемки местности, сделанные Мартемпреем; эта работа по изучению местности велась не одну неделю шпионами Мустафы бен Исмаила, военачальника дуаиров.
Поступили сведения о перемещении за Тлелатом (уэд, впадающий в огромное соленое озеро на юге Оранской области) племен рараба и бени али. Их вожди безоговорочно поддерживали эмира. Двенадцать лье – то есть шестьдесят километров – отделяют их от французских постов: слишком большое расстояние, чтобы решиться на атаку.
Ламорисьер, однако, не прочь попытать счастья: если бы ему удалось захватить стада да к тому же еще – а почему бы и нет? – кормовые запасы весьма богатых противников, это изменило бы атмосферу в гарнизоне и подняло бы настроение войска. Такая победа принесла бы, кроме того, немалую прибыль и обеспечила бы крепость продовольствием на всю зиму.
Молодому генералу не терпится осуществить задуманное, но в Оране полно шпионов. А операция – первый после возобновления военных действий набег из Орана – должна была готовиться в строжайшей тайне, хотя обмануть вражеских лазутчиков не так-то просто. Тем не менее атака намечается на 20 октября.
Два человека поведают об этой экспедиции: капитан Боске, которого Ламорисьер вызвал из Алжира, чтобы сделать своим адъютантом, и капитан Монтаньяк. Его полк прибыл из Шершелла морем 14-го числа того же месяца.
Оба офицера, ничего не ведая друг о друге, поддерживают семейную переписку, благодаря чему нам и стало известно о событиях этой операции, свидетелями и действующими лицами которой им довелось быть. Вместе с ними мы как бы вновь переживаем все боевые походы осени 1840 года, запечатленные в письмах, которые получает мать будущего маршала Боске, и в посланиях, адресованных дяде и сестре Монтаньяка (пять лет спустя, после знаменитой битвы в Сиди-Брахим, он станет героем-мучеником). Посмертная публикация этих сочинений упрочит престиж их авторов, описывающих победный танец завоевателей нашей земли.
Какой земли? А той, что хранит наша взволнованная память. Не ее ли призраки встают за спиной этих офицеров, которые, едва успев сбросить сапоги на привале, берутся за перо, дабы оставить потомкам ежедневную порцию своей корреспонденции?
21 октября в полдень пехота, спаги Юсуфа и кавалеристы – союзники Мустафы бен Исмаила из племени кулугли – получают приказ собраться на юго-восточной дороге, в лагере у смоковницы. В шесть часов вечера перед генералом и его штабом, производившими смотр, предстали удивленные солдаты и офицеры: две с половиной тысячи пехотинцев, семьсот кавалеристов и такое же число туземных всадников (триста пятьдесят спаги и столько же дуаиров), а также две роты саперов и шесть гаубиц.
Ламорисьер, несмотря на скептицизм Мустафы бен Исмаила, отдает приказ выступать: его войска, малознакомые с местностью, должны пройти за ночь по меньшей мере пятьдесят километров, чтобы на рассвете успеть застать врага врасплох.
Колонна мулов, нагруженных пожитками и носилками, заранее приготовленными для сидячих раненых, продвигается вперед в окружении пехоты. В последние месяцы ее оснастили более легким снаряжением в предвидении новой тактики, основанной, по примеру туземной, на быстрых наступательных действиях.
От уэда Тлелат до расположенного неподалеку от местечка Македра оврага, который должен был служить ориентиром, войско продвигается довольно быстро. Кавалерия прикрывает солдат слева, не опережая головную часть безмолвной колонны. Разведчики Мустафы бен Исмаила регулярно вырываются вперед, проверяя, не вспыхнут ли на соседних холмах сигнальные огни, предупреждающие племена гарабасов и улед али. Эти «Сахаб аз-Зерда», а иными словами, «товарищи по разбою», и есть те самые бандитские шпионы, которые промышляют к тому же и кражей лошадей. Добытые ими сведения оплачивались на вес золота. Им была обещана немалая доля добычи.
Добравшись до оврага Македра, три «товарища но разбою» бросаются вперед. Проходит час, а их все нет. Боске, который ходит взад-вперед – от головной части колонны до ее хвоста и обратно, – наблюдая за общим темпом продвижения войска, угадывает беспокойство своего генерала. Быть может, шпионов схватили, а затем убили? И вскоре в ночи исчезает четвертый разведчик – адъютант аги Мустафы.
Колонна пехоты замедляет ход; кавалерия следует сзади. Наконец на своей взмыленной лошади появляется дуаир – белое пятно в рассеивающейся тьме.
– Гарабасы тут. Тревоги не было! Палатки стоят на месте. Они все спят!
Торопливое перешептывание вокруг аги и генерала, который отдает последние приказания. До назначенного времени еще два часа, вот-вот начнет светать, эффект неожиданности, стало быть, обеспечен. Начало набега обещает удачу: нападение, грабеж, а возможно, и уничтожение врага, который, не проснувшись хорошенько, не сможет дать отпора. «Эта ночь будет нашей», – мечтают и тот и другой капитаны… Боске не забывает описать краски занимающейся зари.
По знаку Ламорисьера кавалерия делает бросок вперед: посередине – плотная масса стрелков в черных мундирах, справа от них с развернутыми знаменами – отряд дуаиров во главе с агой Мустафой. Этот крепкий старик, выставив вперед белую бороду и приподняв коренастое тело на золотых стременах, несмотря на свои семьдесят лет, преисполнен воинственного пыла.
– Отряд, вперед! – восклицает он чуть ли не с юношеским задором.
«Насмешливые выкрики, угрозы в адрес будущих жертв, которых они собираются выпотрошить», – записывает Боске, восторгающийся этими приготовлениями к предстоящей схватке. На левом фланге спаги в ярко-красных мундирах во главе с «отступником» Юсуфом взобрались уже на вершину горного хребта. Занимающийся день освещает их силуэты, «похожие на фантастические исчадия ада…»
Через три километра-начало атаки. В поле зрения появляется множество палаток, образующих круг; самые красивые – из белой с вышивкой шерсти – находятся в центре. Весь дрожа от нетерпения, старый Мустафа устремляется к ним. Он надеется застигнуть там врасплох своего недруга, – Бен Якуба, агу племени гарабасов, – но тщетно. Нарушив тихое безмолвие зари, налетчики не обнаружили никого, кроме женщин: накануне Бен Якуб с основной частью своего войска присоединился к эмиру в Маскаре. Полуголые воины прыгают на неоседланных лошадей, остальные – подростки – с ятаганом в руке готовы погибнуть, защищая своих матерей и сестер.
Сплетение опрокинутых тел, которые корчатся в лужах крови, скользят меж разбросанных в беспорядке, перепачканных полотнищ. Глухое ворчание заглушает жалобные стоны, победные клики и вопли ужаса. Языки пламени проворно лижут полуоткрытые сундуки, драгоценности и медные украшения, раскиданные средь первых трупов. Женщины падают в обморок. Спаги Юсуфа рьяно помогают грабежу, начавшемуся еще до того, как кончилась битва.
Стрелки рубят саблями напропалую, продвигаясь по диагонали сквозь огромную толпу, которая бежит куда-то и постепенно рассеивается. Дело дошло и до скотины: огонь, ползущий по земле, и дым пожара подбираются к ней; блеянье овец и рев стоящего в загоне скота нарастают, словно буря, надвигающаяся из-за еще темного горизонта.
Стрелкам не удалось застигнуть врасплох второй лагерь, расположенный двумя лье дальше: все воины племени улед али исчезли вместе с женами старейшин. Только стада остались в центре долины. Подоспевшие дуаиры и спаги в свою очередь принялись рыться в покинутых палатках: как оказалось, поживиться там было особо нечем.
Поползли разные слухи. Тогда офицеры Ламорисьера отдали приказ собраться всем; как утверждали свидетели, один из разведчиков-дуаиров провез будто бы через весь лагерь на своей лошади жену аги гарабасов. Он вроде бы позволил ей бежать, взяв, вероятно, взамен драгоценности, которые на ней были; его самого, конечно, и след простыл.
Не вымолвив ни слова, Ламорисьер направился к самой красивой палатке. Там лежал на спине парнишка лет пятнадцати, глаза его были широко открыты, в груди зияла рана, конечности уже застыли.
– Он отбивался от пятерых солдат, защищая свою сестру! – доносится сзади чей-то голос.
Приближается Юсуф верхом на лошади, его победная тень ложится к ногам генерала. Собравшиеся кучкой пленницы сидят на груде бархата; с явно напускным спокойствием они ждут решения своей участи. Самая старая с открытым лицом надменно смотрит на французов, которые разглядывают их. Боске чувствует, что стоит лишь слово сказать, и она не поскупится на оскорбления. Встав рядом со своим командиром, он внимательно всматривается в безмолвствующих женщин; старуха не опускает глаз.
– Здесь дочь аги, две его невестки и несколько родственниц! – уточняет Дома, который, должно быть, успел допросить служанок, стоящих в стороне.
– Дочь и в самом деле красавица! Она не желает оплакивать брата, она гордится им! – с восхищением шепчет кто-то на ухо Боске.
Ламорисьер спрашивает отрывисто, почему все-таки кое – кого из женщин убили.
– Наши солдаты прикончили в общей сложности семерых, – уточняет кто-то. – Они встретили нас оскорблениями!
– «Скоты, сукины дети!»-кричали эти ведьмы! возмущенно восклицает стоявший рядом с Юсуфом спаги. Тот остается совершенно невозмутим и даже, пожалуй, чуть – чуть усмехается при виде сомнений Ламорисьера. Ибо всем известны сенсимонистские идеи их командира.
Нервно поигрывая тростью, Ламорисьер дрожащей рукой поворачивает лошадь. Он удаляется с перекошенным лицом; его адъютант с невозмутимым видом следует за ним.
Теперь грабеж набирает силу, сопровождаемый только едва слышным шепотом. Кое-где пламя пожара начинает медленно угасать. Крики постепенно замирают, отдаляясь, а ночные туманы тем временем полностью рассеиваются. Занимающаяся заря вступает в свои права, расцвечивая небо, словно ссадинами, сиреневыми и розовыми полосами; но вот мимолетные блики и яркие всполохи растворяются вдруг. Ослепительный свет дня высвечивает силуэты солдат, копошащихся в долине.
«Наша маленькая армия предается пиршеству и радуется, – пишет 1 ноября 1840 года Боске, – Весь город источает дивный запах жареной баранины и куриного фрикасе…»
И добавляет в том же письме:
«Я подробно расскажу тебе об этом; набег – он заключает в себе все: и военный поход, и хитрые комбинации, достойную всяческих похвал энергию пехоты, изнуренной до предела, но ни разу не остановившейся, и превосходный ансамбль нашей великолепной кавалерии… А какая необычайная поэзия во всех деталях сцены, которая служит фоном для набега».
Тринадцать дней спустя Монтаньяк-тоже из Орана – напишет своему дяде:
«Это маленькое сражение представляло собой очаровательную картинку. Стаи легких, как птицы, кавалеристов сшибаются, летают во всех направлениях; а эти крики «ура», эти ружейные залпы, перекрываемые время от времени величественным голосом пушки, – все это являло собой восхитительное зрелище и упоительную сцену…»
Жозеф Боске, который писал обычно матери, на этот раз адресует письмо другу, «своему дорогому Ганеру». Его описание атаки изобилует всякого рода размышлениями; оглядываясь назад, он восхищается гением Ламорисьера, командира, который своим пылом умеет приумножать силы армейского корпуса и яростный порыв «разбойников» Мустафы бен Исмаила.
Наконец-то ветер победы овевает нашего автора – беарнца, и он ощущает себя на носу идущего в бой корабля… Ну а враг? В данный момент ни эмира и никого из его знаменитых красных кавалеристов или чересчур отважных лейтенантов, а также «исступленных» союзников не видно. Развернутая таким образом декорация подчеркивает изумление и растерянность несчастных жертв. Пейзаж, мелькавший перед глазами автора в течение нескольких часов, как бы застывает затем в его рассказе, где воины гарцуют, завидев первые проблески зари – условленный сигнал атаки. И вот насыщенная симфония самой атаки: продвижение вперед яростными рывками, предсмертные хрипы под копытами кобылиц… Кровь бежит ручьем, заливая опрокинутые палатки, а Боске тем временем мешкает, пораженный буйством красок. Он упивается стремительным разворотом событий, однако это опьянение войной, отодвинутой куда-то на задний план, оставляет нас равнодушными.
Наш капитан целиком во власти иллюзии этой достойной истинного мужа увеселительной забавы: слиться воедино с мятежной Африкой, но не иначе как испытывая головокружение от насилия и смертоносной внезапности нападения.
Боске, так же как и Монтаньяк, останется холост: а зачем им жениться, зачем им благопристойная, упорядоченная жизнь, когда воинственный пыл, воскрешаемый словами, заменяет им все. Еще бы, вновь пережить, хотя бы в воспоминаниях, неистовое наслаждение, которое может доставить только опасность, – разве этого мало? К тому же звучные фразы их посланий заключают в себе такой накал страстей, о котором понятия не имеют женщины из почтенных семейств, терпеливо предающиеся тем временем грезам о будущем счастье.
На поверхность этой лихорадочной писанины всплывают порою, словно шлаки, и побочные факты. Взять, к примеру, ту самую женскую ступню, которую кто-то отрезал, дабы завладеть золотым или серебряным браслетом, украшавшим щиколотку. Боске отмечает эту «деталь» как бы вскользь, мимоходом. Или еще семь убитых женщин (да-да, тех самых – зачем, видите ли, им понадобилось, будучи застигнутыми врасплох, оскорблять пришельцев?), они, вопреки воле автора, портят его стиль, став чем-то вроде золотушных струпьев.
Словно любовь к войне и на войне не переставала смердеть, о чем наш беарнец весьма сожалеет! Быть может, зараза, таившаяся в самой декорации в силу ее естественной дикости, перекинулась и на доблестных завоевателей?..
Возможности сойтись с врагом вплотную в жаркой схватке нет. Остаются такие вот окольные пути: то описание изуродованных женщин, то перечисление быков и вообще захваченной скотины, а то еще любование блеском награбленного золота. Главное, убедить себя, что враг ускользает, прячется, бежит.
Но враг, как назло, появляется откуда-то с тыла. Его война молчалива, без всяких словоизлияний: у него нет на это времени. Женщины своим мрачным кличем как бы обращаются к сильному полу, стихийно создавая странный язык, порожденный войной. В этих криках есть что-то нечеловеческое, они тревожат душу своей пронзительностью, таинственные знаки заключены в этой коллективной, дикой песне, ее звуки не дают покоя нашим писакам. И может, поэтому Боске не в силах забыть об убитом подростке, защищавшем свою сестру в роскошной палатке, и вспоминает ступню неизвестной женщины, отрезанную из-за халхала… [31]31
Халхал – золотое или серебряное украшение, которое арабские женщины надевают на щиколотку.
[Закрыть]Такие – то вот второстепенные детали и портят слог целого письма: виной тому неприличие этих кусков плоти, о которых не смогло умолчать послание.
Описывать Африканскую войну, как некогда Цезарь, изысканность стиля которого смягчала апостериорижестокость военачальника, – значит ли это пытаться вновь заполнить опустевший театр?
Плененные женщины не могут быть ни зрительницами, ни действующими лицами спектакля псевдотриумфаторов. Мало того, они попросту ни на что не смотрят. Граф де Кастеллан, сам принимавший участие в таких конных набегах, а потом пописывавший для парижского издания «Ревю дю Монд», не без пренебрежения замечает: эти алжирки шествуют в кортежах победителей, выпачкав предварительно лица грязью и испражнениями. Изысканный хроникер ничего не преувеличивает и не обманывает ни себя, ни нас, но они не только защищаются таким способом от врага, ведь он, кроме всего прочего, еще и христианин, а следовательно – чужой, иноверец, поэтому с ним связано в их глазах все, что находится под запретом! И они спасаются, как могут, пряча свои лица под маской грязи, а если понадобилось бы, то и крови…
Даже порабощенный туземец не чувствует себя побежденным. Он просто не поднимает глаз, чтобы не видеть своего победителя. Он не «признает» его. Никак не называет. А что же это за победа, если у нее нет имени?
Слова ведь тоже служат своего рода прикрытием. При помощи слов воздвигается пьедестал в ожидании триумфа, который готовят себе любые империи, будь то Римская или какая иная.
Эту ежедневную корреспонденцию, отправляемую с бивуаков, вполне можно сравнить с любовной перепиской, ибо та, кому адресуют послания, становится всего лишь предлогом для того, чтобы заглянуть в свою собственную душу, обуреваемую сумятицей чувств… Война и любовь оставляют похожие следы, причиной тому – неуверенность перед лицом того, кто ускользает. А любая неуверенность порождает страх, и тогда, чтобы положить конец страху, начинают писать.
Письма этих позабытых всеми капитанов, которые уверяют, будто их волнуют проблемы снабжения армии или карьеры, и выражают порой свое личное миропонимание, так вот эти письма говорят, по сути, об алжирской земле, как о женщине, которую невозможно приручить. Покоренный Алжир это только фантастическое видение, ибо каждая битва все более отдаляет миг возможного угасания сопротивления.
Эти воины, молодцевато гарцующие на торжественном параде, не могут, несмотря на всю свою элегантность, смягчить боль несущихся им вслед пронзительных криков, моему воображению они рисуются скорбными возлюбленными моей алжирской земли. Страдание подвергшихся насилию безвестных людей, изливающееся таким образом, должно было бы взволновать меня в первую очередь; но почему-то, как это ни странно, меня неотступно преследует мысль о смятении самих убийц, о снедающей их тревоге.
Их слова, заключенные в томах, затерявшихся ныне на полках библиотек, отражают чудовищную действительность того времени, буквально обнажая ее. Этот чуждый им мир, которым они овладевали так, как овладевают женщиной, этот мир непрерывно стонал все двадцать, а то и двадцать пять лет после взятия приступом Неприступного Города… И эти сверхсовременные офицеры, эти изысканные всадники, оснащенные по последнему слову техники, возглавляющие тысячи самых разношерстных пехотинцев, эти крестоносцы века колониализма, слышавшего столько всяких стонов и воплей, упиваются нашей землей, словно плотью. Проникают в нее, как бы лишая ее девственности. И вот уже Африка в их власти, но и теперь она не в силах побороть свое нежелание, заглушить свой стон отвращения.
Стоит ли вспоминать о смерти святого Людовика у стен Туниса или о поражении Карла Пятого в Алжире, отмщенных таким образом: какой смысл взывать к предкам, связанным воедино крестовыми походами и джихадами… [32]32
Джихад (араб.) – священная война, война за веру.
[Закрыть]Французские женщины читают письма победителей чуть ли не в молитвенном экстазе; и это фамильное благочестие окружает ореолом святости предполагаемое обольщение, которое свершается там, по другую сторону Средиземного моря.
I
Первые любовные письма, написанные в дни моего отрочества. Написанное мной превращалось в дневник мечтательной затворницы. Я считала эти страницы «любовными», так как их адресат был тайным воздыхателем; на деле же то были всего лишь опасные письма.
Я описываю время, которое уходит, летнюю жару в наглухо закрытом помещении, наполненные шалостями послеобеденные сиесты. Мое вынужденное молчание временной затворницы придает глубину этому монологу, принимающему обличье запретной беседы. Я пишу, чтобы закольцевать окольцованные дни… Эти летние месяцы, которые я провожу как пленница, не вызывают у меня ни малейшего протеста. Жизнь при закрытых дверях я воспринимаю как каникулярный перерыв. Близится начало школьных занятий, время учебы обещает мне скорое освобождение.
А пока мои послания на французском языке уходят прочь отсюда. Они призваны нарушить это затворничество. Эти так называемые вопреки здравому смыслу «любовные» письма похожи на решетку ставен, сквозь которую сочится солнечный свет.
Тщательно отделанные фразы, нежные слова, которые выводит рука и которые можно было бы прошептать у калитки из кованого железа. О какой тоске поведать другу, удаленностью которого и объясняется эта кажущаяся непринужденность?
Волнение не проскальзывает ни в одной из моих фраз.
Письма – я чувствую это и двадцать лет спустя – скорее старательно скрывали любовь, нежели выражали ее, причем не без веселого смущения, ибо тень отца витала рядом. Девушка, лишь наполовину освободившаяся от предрассудков, воображает, будто это незримое присутствие равносильно живому свидетелю.
– Видишь, я пишу, но это вовсе не «во имя зла», не ради нарушения приличий! А только для того, чтобы сказать: я существую – и затрепетать от этого! Писать – не значит ли это выражать себя?
Я читаю ответы молодого человека в спальне или на террасе и всегда дрожу при этом, ощущая, как бьется мое сердце. От сознания того, что я нарушаю запрет, у меня начинает кружиться голова. Я чувствую, что тело мое готово ринуться за порог навстречу любому зову. Полученное мною послание набухает порою от затаенного желания, которое доходит до меня, но уже не может вызвать ответной реакции. Выраженная в письме страсть как бы переставала существовать.
Задолго до того, как мне исполнилось восемнадцать лет, я перестала посещать начальную школу, но вот однажды я распечатала письмо, в котором приводился текст длинной поэмы Имр аль-Кайса. Отправитель настоятельно просил меня ознакомиться с этими строфами. Мне с трудом удалось разобраться в арабской каллиграфии; я пыталась запомнить хотя бы первые строчки этой «муаллаки», так называемой «застывшей» поэзии. Ни музыка стиха, ни пыл барда доисламических времен не нашли во мне отзвука. Лишь на мгновение блеск шедевра заставил меня закрыть глаза: абстрактная печаль, и только!
Какие же сокровенные слова оставалось мне найти в преддверии моей юности? Я писала вовсе не для того, чтобы обнажить свою душу или высказать заветные мысли, от которых все во мне содрогалось; скорее наоборот, я хотела отвернуться от себя самой, забыть о своей телесной оболочке, ибо отныне к этому побуждала меня гордость и наивная возвышенность духа.
Снедающая меня лихорадка увязает в зыбучих песках пустыни, возникшей из-за отсутствия выразительных средств. Мой не окрепший еще голос ищет и не находит возможности словесного изъявления нежности. И я пробираюсь наугад, на ощупь – раскинув руки и закрыв глаза, пытаясь доискаться истины, сбросить сковавший мои движения покров… Мой секрет свил себе гнездо в самых глубоких тайниках; его незрячая песнь бьется в поисках игольного ушка, сквозь которое можно выпорхнуть, не таясь.
Два или три года спустя во время разлуки с любимым я получаю взволнованное письмо. Мы стали супругами лишь недавно. И тот, кого не было рядом, писал это письмо как в бреду, в порыве отчаянного страдания. Он в подробностях описывал мое тело, жившее в его воспоминаниях.
Я прочла это письмо очарованного один только раз, один-единственный раз. И почувствовала в своем сердце внезапный холод. Мне трудно поверить, что в этом письме речь обо мне; я убираю эти листки в портмоне. И не перечитываю письма. Найдет ли во мне отклик эта будоражащая любовь? Письмо ждет-таинственный талисман, желание, высказанное в ранящих словах, полетевших ко мне из дальнего далека и лишенных ласкающих звуков голоса.
И вдруг эти листки начинают обретать непонятную власть. Происходит нечто странное: я говорю себе, что стенания эти обращены а почему бы и нет? – ко всем другим женщинам, которые никогда не внимали таким словам. К тем, кто задолго до моего рождения оставил мне в наследство свое заточение, к тем, кто никогда ничего не получал, к кому не долетал зов, исполненный желания, или проникнутый мольбой голос. Их избавлением могла стать лишь песнь осажденных.
Поэтому письмо, которое я спрятала, стало как бы моим первым письмом, воплощением канувших в вечность надежд, безымянного ожидания, которое я, сама того не зная, носила в себе.
Эпизод этот имел продолжение. Разлука затянулась. Я задержалась у друзей, в нормандской деревне. Разражается ссора с отвергнутым воздыхателем; сначала я снисходительно улыбаюсь: его заблуждение пройдет, слова его болтливой страсти нисколько не задевают меня. Я прерываю их поток: надо вновь вернуться к товарищеским отношениям, делиться впечатлениями о прочитанных книгах, бродить в новых для нас местах. Мне не хватает мужской дружбы, я хочу продолжить прерванные разговоры… Однако этот нетерпеливый, вынужденный умолкнуть, пробирается в мое отсутствие ко мне в комнату. Вскоре он признается в этом.
– Прекратим эту дружбу, раз она завела нас в тупик! – рассердившись, решаю я.
Он усмехается и как бы в отместку заявляет:
– Я заглянул к вам в сумку!
– Ну и что?
– Я нашел и прочитал одно письмо. То самое, от того мужчины, из-за которого вы отвергаете меня!
– Ну и что?
Безразличие мое притворно: нескромность этого человека потрясла меня. Ожесточившись, я устраняюсь. А он в задумчивости добавляет:
– Какие слова! Я и представить себе не мог, что он вас так любит!
– А вам-то что до этого! – воскликнула я.
Слова, написанные в письме, – да получала ли я их в самом деле? Быть может, отныне они уже предназначались не мне?.. Я спрятала в сумку письмо, ставшее для меня символом утраченной веры, и в последующие недели не перечитывала послания. И вот теперь этот соглядатай поверг меня в смущение. Человек, зачарованный словами другого, того, кто вспоминал о моем теле, этот человек стал в моих глазах вором и даже хуже того – самым настоящим врагом. Значит, я поступила легкомысленно, допустила серьезную оплошность? Мне не дает покоя чувство вины: дурной глаз быть может, это и есть глаз соглядатая?..
Спустя месяц я очутилась на базаре одного марокканского города. Ко мне пристала какая-то нищенка с огромными глазами, на руках у нее был спящий ребенок, головка которого беспечно покоилась на материнском плече. Она попросила у меня монетку, которую я с извинениями протянула ей. Она удалилась. И тут только я заметила, что она унесла мое портмоне, вытащив его из открытой сумки. «Она отобрала у меня письмо!»-тотчас подумала я.
Никаких сожалений я не испытывала; однако символ этот породил в моей душе неясные сомнения: быть может, эти слова, которые она не сумеет прочесть, предназначались ей? Ведь теперь именно она стала предметом желания, воплотившегося в слово, непостижимое для нее.
Через несколько дней другая нищенка весело заявила мне на улице:
– О сестра моя, ты-то по крайней мере знаешь, что сейчас пообедаешь! А для меня это каждый день неожиданность!
Она засмеялась, но в голосе ее чувствовалась горечь. И я снова подумала о письме, которое первая незнакомка стянула у меня, восстановив в какой-то мере справедливость.
Слова любви, которые осквернил чужой взгляд. Я их не заслужила, говорила я себе, раз позволила обнаружить тайну. И вот теперь слова эти отыскали истинное свое место. Волею судьбы они попали в руки этой неграмотной нищенки. Она, верно, скомкала письмо или разорвала его на кусочки, прежде чем бросить в сточную канаву.
Итак, я вспоминаю это любовное послание, вспоминаю его приключения и постигшую его катастрофу. Воспоминание о нищенке внезапно вызывает в памяти образ отца, уничтожающего у меня на глазах первую записку – самое что ни на есть банальное приглашение, – которую я по клочкам вытаскиваю из корзинки. С дерзким упрямством я восстанавливаю текст. Словно отныне мне предстоит восстанавливать все, что разорвут пальцы отца…
Каждое предназначенное мне любовное слово встречало на своем пути отцовскую власть. Каждое письмо, даже самое невинное, прежде чем попасть ко мне, подвергалось строгому досмотру отца. Мои послания, поддерживавшие этот диалог, начавшийся под впечатлением минуты, стали для меня попыткой – или искушением – определить границы собственной моей немоты… Однако память о гаремных палачах жива, и она не дает мне забыть, что любое послание, написанное в полумраке тайком, неизбежно ведет к зауряднейшему инквизиторскому дознанию!








