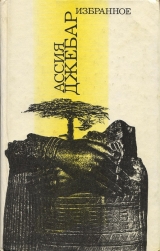
Текст книги "Любовь и фантазия"
Автор книги: Ассия Джебар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
После случая с нищенкой я снова встретилась с автором письма. И зажила так называемой «супружеской» жизнью.
И что же – выставленное напоказ счастье обернулось неизбежным концом нашей бурной любовной истории. Нищенка, укравшая у меня письмо, пока ее ребенок спал у нее на плече, а до нее еще тот посторонний, чьи глаза увидели самые сокровенные слова, стали, один за другим, предвестниками этого смертельного исхода.
Писать перед лицомлюбви. Озарить светом тело, чтобы тем самым снять запрет, помочь сбросить покров… Сбросить покров и в то же время держать в тайне то, что должно оставаться тайной, пока не грянет гром откровения.
Слово все равно что факел, им можно размахивать перед стеной разлуки и отчуждения… Описывать лицо другого, чтобы удержать в памяти его образ, упорно верить в его присутствие, в его чудо. Отказываться от фотографии или любого другого видимого следа. Одно только слово, запечатленное на бумаге, дает нам грозное оружие, привлекая к себе внимание.
И с этой минуты написанное вписывается в диалектику молчания перед лицом любимого человека. Чем больше стыдливость сковывает тела, что находятся рядом, тем упорнее слово ищет путей к полному откровению. Природная сдержанность мешает торопливости жеста или взгляда, случайное касание рук приводит ее в трепет; горделивый отказ от всякого украшательства предполагает непритязательность одежды, а голос тем временем, повинуясь такому же точно порыву, выдает себя целиком, обнажаясь в словах четких, ясных, прозрачных. Он устремляется вперед, вверяет себя безоглядно – так лилии вторгаются в тенистую аллею…
Первый шаг к обольщению – это любовное письмо, в котором речь идет не об излияниях души и сердца, а о точности взгляда. При таком способе общения главное, что меня тревожит, – это сказать не все или, вернее, выразиться не совсем точно. Надо преодолеть лиризм, отказаться от излишнего пафоса; любая метафора кажется мне жалкой уловкой, чем-то вроде малодушия. Когда-то мои предки, мне подобные, проводя время на террасах под открытым небом, загадывали друг другу загадки, вспоминали подходящие к случаю пословицы, испытывали судьбу, читая любовные четверостишия…
И в сущности, сама-то я жажду обрести благодатную сочность языка моей матери, стремлюсь припасть к нему, словно к молоку, от которого некогда меня оторвали. Вопреки сегрегации, доставшейся мне в наследство, слово, исполненное любви-в-настоящем, равносильно для меня появлению ласточек весной.
Когда девочка обращается к отцу, язык ее чрезмерно добродетелен… И потому, быть может, страсть не может, по ее мнению, выражаться в словах, запечатленных на бумаге. Чужеземное слово подобно бельму на глазу, а глаз-то жаждет открытий!
Любовь, если мне удастся выразить ее словами, станет той самой болевой точкой, откуда в любой момент можно исторгнуть отчаянные стоны, погребенные и во вчерашнем дне, и в прошлом столетии. Мне не остается ничего другого, как уповать на вечное кочевье в поисках истинного слова, а пока я, неутомимая путница, наполняю свои бурдюки для дальнего перехода неиссякаемым молчанием.
Женщины, дети, быки, полегшие в пещерах…
Весна 1845 года была отмечена волнениями всех берберских племен, населяющих центральные и западные районы страны.
Эмир Абд аль-Кадир вновь стягивает свои силы к марокканской границе. После пяти лет неустанных преследований враги его – Ламорисьер и Кавеньяк на западе, Сент-Арно с Юсуфом в центральной части и Бюжо в самом Алжире – считают Абд аль-Кадира поверженным. Они уже тешат себя надеждой: не конец ли это алжирского Сопротивления? А тут опять взрыв.
Достаточно оказалось проповеди нового вождя, молодого человека, окруженного ореолом пророческих предсказаний и чудодейственных легенд, – Бу Мазы, прозванного «человеком с козой», – чтобы племена и в горах, и в долинах откликнулись на его зов. Война снова вспыхнула в Дахре: на побережье – между Тенесом и Мостаганемом, во внутренних районах – между Милианой и Орлеанвилем.
В апреле шериф [33]33
Шериф (араб.) – мусульманин, ведущий свой род от пророка, потомок Мухаммеда; знатный, благородный.
[Закрыть]Бу Маза дает отпор двум армиям, наступавшим из Мостаганема и Орлеанвиля. Они, верно, надеялись окружить его в центре горного массива. Он атакует Тенес, направив туда одного из своих лейтенантов. Сент – Арно спешит на помощь, чтобы спасти Тенес. Тут-то и появляется Бу Маза, который чуть было не захватил Орлеанвиль. Вовремя подоспевшая подмога отбила город. Тогда шериф угрожает Мостаганему. Сам эмир не отличался такой скоростью в своих боевых действиях… Был ли этот новый проповедник помощником Абд аль-Кадира, или же, окруженный уже почитанием правоверных, Бу Маза стремился к самостоятельности? Толком ничего не известно, известна только его манера нападать с быстротой молнии.
В Дахре, по которой его войска проходят с музыкой и знаменами, население встречает его как «героя дня», а стало быть, хоть на час, да хозяина. Пользуясь этим, он карает, и порой весьма жестоко, каидов [34]34
Каид (араб.) – чиновник из алжирцев, назначавшийся колониальной администрацией.
[Закрыть]и ага, поставленных французскими властями.
В мае три французские армии переходят в наступление: они чинят расправу над мятежниками, сжигают их деревни и имущество, заставляют их – племя за племенем – просить «аман». [35]35
Аман (араб.) – пощада.
[Закрыть]Более того, Сент-Арно принуждает – и с гордостью пишет об этом в своих письмах – воинов племени бени хиджес сдать свои ружья. За пятнадцать лет ни разу не удавалось добиться такого результата.
Боске, назначенный начальником арабского отдела администрации Мостаганема, весьма доволен этим. Адъютанты Сент-Арно – Канробер и Ришар – следят за этой операцией, отбирают даже старинное оружие, хранившееся со времен андалузского переселения в XVI веке… В мостаганемской тюрьме, называвшейся «Башней аистов», так же как и в древнеримских водоемах, сохранившихся в Тенесе и превращенных в тюремные помещения, заживо гниют сторонники ирредентизма [36]36
Ирредентизм (от итал. irredento – неосвобожденный) – политическое и общественное движение в Италии в конце XIX – начале XX в. за присоединение к Италии пограничных земель Австро-Венгрии с итальянским населением.
[Закрыть]которых в большом количестве берут заложниками.
Начинается июнь месяц. Маршал Бюжо, он же герцог д'Исли, самолично проверил результаты, достигнутые карательными операциями: выступив из Милианы с пятью тысячами пехотинцев, а то и больше, с пятьюстами кавалеристами и тысячью навьюченных мулов, он исходил Дахру вдоль и поперек. Наконец 12 июня он садится в Тенесе на судно и отплывает в Алжир. Для завершения работы и усмирения так и не покорившихся племен внутренних районов он оставляет полковника своего штаба-Пелисье.
Однако войскам, снова направленным из Мостаганема и Орлеанвиля, даже объединенными усилиями не удается взять в кольцо неуловимого шерифа. Поэтому после себя они не оставляют ничего, кроме земли, дабы вынудить мятежного вождя исчезнуть или затаиться.
11 июня, накануне своего отплытия, Бюжо посылает Пелисье, который направляется в края, где обитают племена улед риах, письменный приказ. Кассень, адъютант полковника, приведет впоследствии дословное содержание приказа.
«Если эти мерзавцы укроются в своих пещерах, – предписывал Бюжо, – следуйте примеру Кавеньяка, расправившегося со сбеахами, выкуривайте их оттуда, не зная пощады, как лисиц!»
Армия Пелисье располагает половиной численных сил маршала, в нее входит четыре батальона пехоты, один из которых, стрелковый, а кроме того, кавалеристы, взвод артиллеристов и примкнувший к ним отряд арабской кавалерии под названием «Макзен». [37]37
Так во время колониализма называлось правительство султана в Марокко.
[Закрыть]
В течение первых четырех дней Пелисье атакует племена бени зеруаль и у лед келуф, которых после нескольких сражений ему удается покорить. Остаются горцы – улед риахи, они отступают вдоль берегов Шелифа, увлекая за собой французское войско численностью в две с половиной тысячи.
16 июня Пелисье располагается лагерем во владениях одного из помощников шерифа, в местности, которая носит название Улед аль-Амриа. Сады и жилые строения были полностью уничтожены, дома командиров подразделений сожжены, их стада присвоены.
На другой день улед риахи с правого берега реки вступают в переговоры. Они вроде бы согласны просить «аман». Пелисье называет сумму требуемого выкупа, число лошадей, которых следует поставить, а также ружей, которые надо сдать.
В конце дня еще колебавшиеся улед риахи после обсуждения на своей сходке отказываются сдать оружие. Остальные улед риахи, согласившиеся принять участие лишь в нескольких стычках, возвращаются назад, в свои пещеры, считавшиеся неприступными и послужившими им убежищем еще во времена турецкого завоевания. Пещеры эти находились в отрогах джебеля [38]38
Джебель (араб.) – гора.
[Закрыть]Накмариа, на уступе высотой в триста пятьдесят метров, расположенном между двумя долинами. Там, в подземных углублениях длиной около двухсот метров, выходивших в почти недосягаемые ущелья, прятались в случае необходимости целые племена вместе с женщинами и детьми, стадами и съестными припасами. Эти укрытия позволяли им какое-то время существовать, не опасаясь врагов.
Ночь, предшествующая 18 июня, проходит беспокойно. Хоть Пелисье и приказал вырубить сады вокруг бивуака, туземные воины подползают совсем близко – отсюда множество ночных тревог. Орлеанские стрелки, державшиеся настороже, всякий раз успевали отбрасывать неприятеля.
18 июня на рассвете Пелисье наконец решается: он оставляет часть лагеря под присмотром полковника Рено, а сам направляет в горы два пехотных батальона без вещевых мешков, кавалерию «Макзен», а кроме того, одно артиллерийское орудие и сиденья, прикрепляемые к мулам для перевозки раненых.
В авангарде этого последнего марша гарцуют арабские всадники Хаджи аль-Каима: следуя традиции, они не могут отказать себе в удовольствии покрасоваться перед началом предстоящей схватки. А может, они просто хотели скрыть таким образом свою тревогу, охватившую их перед лицом этих грозных вершин, они-то ведь знали, что там кто-то есть. Некоторые из «примкнувших» (а что, если их толкнуло на это предчувствие грядущей трагедии?), воспользовавшись ночною тьмой, дезертировали. Пелисье настроен действовать быстро.
Командир отряда арабской кавалерии по-прежнему невозмутим. В последние дни он неукоснительно выполнял свою роль проводника, без промедления показывая то или иное селение и все прилегающие владения.
– Вот и пещеры аль-Фрашиш! – кричит он, указывая Пелисье и сопровождавшим его молодому Кассеню и переводчику Готцу на плато, нависшее над выжженным ландшафтом.
– Если все они попрятались в своих пещерах, то мы скоро будем шагать по их головам! – счел вдруг своим долгом уточнить он не без доли юмора.
Полковник Пелисье встречает занимающуюся зарю торжественно, зная, что это предвестие, своего рода увертюра к драме. Грядет трагическая сцена, и ему, командиру, волею судеб предстоит первому появиться средь раскинувшейся вокруг суровой декорации меловых скал, взяв на себя всю тяжесть ответственности.
«Все бежало при моем появлении, – напишет он в своем обстоятельном рапорте. – Направление, по которому следовала часть населения, достаточно ясно указывало местонахождение пещер, к которым вел меня Хаджи аль-Каим».
Пелисье знает толк в стратегии. Он был участником высадки в Алжире и запечатлел свои наблюдения в теоретической работе. Затем он уехал из Алжира и вернулся туда уже в 1841 году, причем сначала в Оран. Слава опережает его, и ему приходится оправдывать ее.
Едва успев расположиться на плато аль-Кантара, которое находится выше пещер, Пелисье посылает своих офицеров на разведку в ущелье, надеясь там отыскать доступ к ним, и в верхней части в самом деле был вскоре обнаружен главный вход. Перед ним помещают гаубицу. Другой, поменьше, замечен чуть пониже. Наблюдение за каждым из этих входов поручено капитану и нескольким карабинерам; кавалеристы держатся под прикрытием, готовые по первому сигналу преследовать возможных беглецов: в авангарде– 6-й отряд легкой кавалерии, рядом с полковником – орлеанские стрелки.
Передвижения эти осуществляются не без некоторых осложнений: улед риахи держались настороже, они прятались под деревьями и среди утесов, чтобы в случае необходимости иметь возможность прикрыть вход в пещеры или отвлечь внимание противника. Им удалось ранить шестерых французов, из них – три офицерских чина; седьмой умер сразу, на месте: то был кавалерист из отряда «Макзен», который спешился, собираясь поближе подойти к ущелью, чтобы сделать последнее предупреждение.
В ответ Пелисье посылает несколько снарядов. Часовые тут же исчезают. Кольцо вокруг беглецов сжимается. Полковник приказывает собрать в кучи хворост и охапки сухой травы, затем все это поджигают; солдаты спускают с кручи горящие снопы, направляя их к верхнему входу. Однако сама пещера расположена чуть ниже, поэтому за весь день добиться желаемого результата так и не удалось. Как только пламя костра начинало угасать, защитники, стоявшие у самого входа, тут же открывали огонь.
Часть войска, оставшаяся в лагере, поднялась в горы еще дотемна, присоединившись к осаждавшим… Пелисье мог оказаться в критическом положении: улед риахи со своими припасами и скотиной продержатся долго, тогда как у французов продовольствия было всего на три-четыре дня… А что, если соседние, уже покоренные племена поймут все возраставшую безвыходность положения Пелисье? Не переметнутся ли они в таком случае во вражеский стан? И как отступать отсюда по горному склону вниз? Кое-кто из арабов вспомогательных частей уже улыбается: их воображению рисуются просторные внутренние помещения пещер, где улед риахи, расположившись со всеми удобствами, должно быть, посмеиваются над ними.
Настала ночь, ночь полнолуния, и тут «через отверстие, до тех пор скрытое от нас зарослями туи, выбрался один араб, которого сразу ранили; в руках у него оказался сосуд для воды…» Из этого сделали заключение, что у беглецов нет воды. Пелисье сразу воспрял духом: он надеется прийти с ними к соглашению путем переговоров, которые возобновляет утром 19 июня; в то же время он выражает решительное намерение применить жесткие меры, если другой возможности не будет.
Было обнаружено еще одно отверстие, которое сообщалось с той частью пещеры, куда вел нижний вход. Его решили использовать как дополнительный очаг. Сильный огонь запылает прямо у отверстий, ведущих в пещеры, и тогда на этот раз дым проникнет во внутренние помещения.
Пока ведется усиленная работа по заготовке хвороста, рубятся деревья вокруг, собирается сухая трава и солома, Пелисье не зажигает костра: он предпочитает сделать последнюю попытку и начинает переговоры.
Беглецы как будто готовы сдаться: в девять часов является первый гонец, затем, после совета, который они держали на своей сходке джемаа, – второй, и наконец третий просит «аман». Они согласны выплатить военную контрибуцию, а следовательно, и выйти из пещер, однако опасаются, как бы их не отправили в Мостаганем, в «Башню аистов».
Удивленный Пелисье (ведь он принадлежал к верховному командованию Алжира и понятия не имел о печальной славе этой тюрьмы) обещает избавить их от такой участи, но безуспешно. Улед риахи, согласившись выплатить до 75000 франков контрибуции, никак не могут решиться поверить ему в отношении этого последнего пункта.
Переводчик по имени Готц направляется к ним, для того чтобы перевести послание Пелисье. Тот снова обещает им свободу. Переговоры длятся еще три часа. Осажденные не хотят отдаваться в руки французов безоружными, они просят, чтобы те отошли от подступов к пещерам. Условие совершенно неприемлемое, полагает Пелисье, заботившийся о своем престиже.
Готц снова пытается убедить их:
– В вашем распоряжении остается не более четверти часа, выходите!.. Ни одного мужчину, ни одну женщину, ни одного ребенка не отправят в тюрьму Мостаганема!.. Еще четверть часа – и стрельба, которая велась у вас над головами, возобновится, тогда пеняйте на себя!
Пелисье в своем рапорте будет настаивать на продлении сроков, на бесконечных проволочках осажденных. «Долготерпению моему пришел конец», – заметит он.
Час дня. Работы по заготовке дров не прекращались даже во время переговоров. Поэтому, когда снова вспыхнет огонь, его будут поддерживать весь этот день – 19 июня – и всю следующую ночь.
Вязанки подбрасываются солдатами с вершины отрога аль-Кантара. Вначале из-за неточного попадания горючего материала огонь, как и накануне, разгорается медленно. Однако Пелисье, предвидя это, разработал до тонкостей весь план и еще рано утром приказал устроить площадки на вершинах утесов, чтобы удобнее было бросать вязанки. Это возымело свое действие. Через час после возобновления операции солдаты бросают свои вязанки «весьма успешно». Кроме того, поднявшийся ветер направляет пламя, и дым почти весь проникает внутрь.
А солдаты и рады стараться, работают не покладая рук. Они будут поддерживать пламя вплоть до 20 июня, до шести часов утра, то есть в течение восемнадцати часов кряду. Один свидетель из числа французов подтвердит:
«Силу огня трудно описать. Пламя высотой в шестьдесят метров, если не больше, поднималось над аль-Кантарой, густые клубы дыма вихрем кружили у входа в пещеру».
Посреди ночи внутри пещер послышались выстрелы, довольно явственно прозвучало несколько взрывов. Потом все стихло. Тишина стояла до самого утра. Огонь постепенно угас.
После возвращения в Алжир Бюжо одолевают заботы политического порядка. В конце концов, совсем неплохо, что мятеж вспыхнул вновь; парижские министерства будут испытывать нужду в нем, «спасителе», который в прошлом году заявил, что Абд аль-Кадир окончательно повержен. Зато теперь появляются все новые абд аль-кадиры, им несть числа, они восстают в каждом районе, и каждый из них еще более «фанатичен» и мужиковат, а с такими вождями французские власти не могут подписывать никаких соглашений.
«Выкурите их всех, как лисиц!»
Так написал Бюжо; Пелисье повиновался, однако, когда в Париже разразится скандал, он не станет разглашать приказа. Это настоящий кадровый офицер: сословный дух в нем силен, чувство долга для него свято, к тому же он уважает закон сохранения тайны.
И все-таки донесение он отправил. «Мне пришлось возобновить работу с вязанками дров», – пишет он. Через три дня, следуя заведенному порядку, он составляет рапорт и, как человек методичный, перечисляет все до последней мелочи: различные этапы переговоров, личные качества каждого из своих гонцов, бесконечное возобновление переговоров – в последний раз у нижнего входа. Им было дано не четверть часа, а «пять раз по четверть часа», – утверждает он… Но те, кто скрылся в пещерах, – сварливые, осторожные, подозрительные – отказались положиться на слово французов. Они, видимо, больше верили в надежность своих подземных укрытий.
Угроза была приведена в исполнение: «Все входы и выходы закрыты». Составляя свой рапорт, Пелисье как бы вновь переживает ту ночь 19 июня, освещенную языками пламени высотой в шестьдесят метров, лизавшими каменные стены Накмариа.
Я тоже в свою очередь попробую восстановить эту ночь и эту картину – «картину каннибалов», как скажет впоследствии некий П. Кристиан, врач, перекочевывавший во время передышки, длившейся с 1837 по 1839 год, из французского лагеря в алжирский и обратно. Однако я предпочитаю обратиться непосредственно к показаниям двух очевидцев. Один из них-испанский офицер, сражавшийся во французской армии и бывший тогда в авангарде. Его свидетельство напечатает испанская газета «Эральдо». Другой – неизвестный солдат – опишет случившееся своей семье, его письмо предаст гласности доктор Кристиан.
Испанец рассказывает нам о высоте пламени – шестьдесят метров, – окружавшего отрог аль-Кантара.
«Огонь, – подтверждает он, – поддерживали всю ночь: солдаты вталкивали вязанки в отверстия пещеры, словно в печь». Неизвестный солдат опишет увиденное с еще большим волнением:
«Какое перо способно передать эту картину? Видеть посреди ночи при свете луны, как военная часть французской армии занимается тем, что разжигает адский огонь! Слышать глухие стоны мужчин, женщин, детей и животных, потрескивание обрушивающихся раскаленных камней и непрерывную стрельбу!»
И в самом деле, окрестную тишину нарушали отдельные выстрелы; Пелисье и его окружение усматривали в этом признак междоусобной борьбы в пещерах. Так вот это раскаленное пекло, которым, словно живой кровожадной скульптурой, любуется армия, отрезало от мира полторы тысячи людей вместе с их скотиной. Неужели этот испанский свидетель, приникнув ухом к полыхавшему утесу, один слышит поступь надвигающейся смерти?..
Воображаю себе детали этой ночной сцены: две с половиной тысячи солдат, вместо того чтобы спать, предаются созерцанию своей неотвратимо приближающейся победы над горцами… Кое-кто из зрителей наверняка чувствует себя отмщенным за множество других бессонных ночей! Африканские ночи! Кроме холода и первозданной природы, которая как бы застывает недвижно в ночной тьме, не дает покоя еще и вой шакалов; невидимый враг, казалось, не дремлет ни минуты; конокрады с их обнаженными, смазанными растительным маслом телами скользят, словно тени, по спящему лагерю, освобождают от пут животных, сеют внезапный ужас, а когда начинается паника, часовые и те, кто спал, в суматохе убивают друг друга. Сколько раз за ночь бьют тревогу! Слово, ее обозначающее, на языке этой страны означает также «львиный хвост» – тем самым туземцы как бы признаются в своем страхе перед царственным зверем – Неназываемым.
Языки пламени продолжают лизать скалистые уступы отрога аль-Кантара. После лавины выстрелов, похожих на отдаленные удары молота, прокатившейся где-то в самом сердце содрогающейся горы, снова воцаряется тишина. В обращенных к горе взорах солдат не отражается ничего, кроме ожидания: когда же камень откроет им свою страшную тайну?
20 июня 1845 года, Накмариа, шесть часов утра.
Когда занялась заря, какой-то неясной тени – мужчине или женщине – удалось выбраться наружу, несмотря на последние угасающие языки пламени. Сделав несколько шагов, тень эта пошатнулась и рухнула наземь, встретив смерть при солнечных лучах.
В последующие часы трое или четверо уцелевших выйдут в свою очередь на поверхность, чтобы глотнуть свежего воздуха, прежде чем испустить дух… В течение утра солдаты не решаются приблизиться: удушливый жар, едкий дым и какая-то праведная тишина окружают подступы к пещерам. И каждый спрашивает себя: что за трагедия разыгралась за этими глыбами, меловая поверхность которых едва поблекла от смрадного налета копоти? «Проблема, – завершает свой рассказ испанец, – была решена».
Пелисье приказывает послать разведчика; согласно рапорту, тот «возвратился вместе с несколькими запыхавшимися солдатами, которые и помогли нам осознать степень причиненного зла».
Разведчики подтвердили Пелисье: все племя улед риах – полторы тысячи мужчин, женщин, детей, стариков, а кроме того, сотни голов скота и лошади – целиком было уничтожено «окуриванием».
Через день после фатального исхода, прежде чем самому войти в пещеры, Пелисье посылает туда саперов и артиллерию: двух офицеров инженерных войск, двух – из артиллерии. А с ними – отряд из пятидесяти человек со всем необходимым снаряжением. Испанский офицер был из их числа.
У входа валялись мертвые животные, уже тронутые гниением, а вокруг них – шерстяные одеяла; вещи и сбруя все еще продолжали гореть… Оттуда, следуя по дорожке из пепла и пыли, солдаты с фонарями в руках проникли в первую пещеру.
«Страшное зрелище открылось нам, – пишет испанец. – Все трупы были обнажены, их положение указывало на те мучения, которые претерпевали люди, прежде чем испустили дух. Кровь лилась у них изо рта. Но еще ужаснее было видеть грудных младенцев, валявшихся среди останков баранов, мешков с бобами и так далее».
Спелеологи этой запрятанной в глубь горы смерти перебираются из одной пещеры в другую; их ожидает все та же картина. «Это ужасная трагедия, – пишет в заключение испанец, – ни в Сагонте, [39]39
Сагонте (ныне Сагунто) – город в Испании, завоеванный в 219 г. до н. э. после длительной и жестокой осады карфагенским полководцем Ганнибалом.
[Закрыть]ни в Нуманции [40]40
Нуманция – город VI в. до н. э. – первых вв. н. э. в Испании, центр сопротивления местного племени кельтиберов римской экспансии.
[Закрыть]не было проявлено столько варварского мужества!»
Но вот вопреки стараниям офицеров кое-кто из солдат тут же принимается за грабеж: хватают драгоценности, бурнусы, ятаганы, снимая все это с мертвецов. Затем разведывательный отряд возвращается к полковнику, который никак не хочет поверить в размеры бедствия.
Посылают других солдат – а время уже за полдень, и это 21 июня, первый день лета 1845 года! Среди вновь посланных находится и тот самый неизвестный, письмо которого было опубликовано П. Кристианом.
«Я побывал в трех пещерах, и вот что я увидел», – начинает он свой рассказ. Так же как и его предшественники, он в свою очередь видит у входа распростертых быков, ослов, баранов; инстинкт толкал их туда, до последней минуты они тянулись к свежему воздуху, который еще мог проникнуть снаружи. Среди животных, а зачастую и под ними находятся тела женщин, детей: часть из них была раздавлена обезумевшей скотиной…
Неизвестный, в частности, останавливается на такой детали: «Я видел мертвого мужчину, колено его упиралось в землю, а рука сжимала рог быка. Перед ним была женщина, державшая на руках ребенка. Нетрудно догадаться, что мужчина этот, точно так же, как и женщина, ребенок и бык, задохнулся в тот самый момент, когда пытался защитить свою семью от взбесившегося зверя».
Этот второй свидетель приходит к тому же выводу: более тысячи мертвых, не считая тех, кто, сбившись в кучу, образовал сплошное месиво, и не принимая во внимание грудных младенцев, завернутых, почти все как один, в туники своих матерей…
Шестьдесят уцелевших сумели выбраться из этой могилы заживо погребенных. Сорок остались в живых, некоторым оказали помощь в полевом лазарете… Десять из них получили свободу!
Пелисье уточняет, что «по ниспосланной провидением случайности самые рьяные сторонники шерифа погибли». Из выживших он оставил у себя жену, дочь и сына Бен Накаха, халифа Бу Мазы в этом районе. То были единственные пленники, которыми он считал возможным гордиться.
В тот день, 21 июня 1845 года, после полудня дым у горного отрога рассеивается. И мне хотелось бы поподробнее разобраться в приказе, отданном тогда Пелисье:
– Вытаскивайте их на свет! Пересчитать всех!
Возможно, утратив над собой вдруг контроль, он мог бы еще добавить с внезапным остервенением: «Вытащим этих дикарей, пускай даже окостеневших или разложившихся, и тогда мы наконец одолеем их, добьемся своего!..» Не знаю, может, и так, я всего лишь строю догадки, основываясь на словах приказания. Но разве цель моего повествования тщетно воображать мотивы действий палачей?
Меня не столько интересуют первые шаги тех, кто, спустившись под землю, отыскивает при свете фонаря задохнувшихся во тьме людей, сколько самый момент извлечения трупов из пещер.
«Их вытащили около шестисот», – отмечает испанский офицер, подчеркивая растерянность полковника, окруженного офицерами своего штаба, остолбеневшими от изумления.
Шестьсот улед риахов лежали на вольном воздухе, бок о бок, независимо от пола и принадлежности к тому или иному сословию: люди знатного рода рядом с последними бедняками, сироты, оставшиеся без отца, вдовы, разведенные, младенцы, привязанные у матери за спиной или вцепившиеся в ее плечи… Мертвецы, с которых сорвали их драгоценности и бурнусы, с почерневшими лицами спят в мертвой тишине, которая уравнивает всех. Никто их не обмоет, никто не укроет саваном; не будет и погребальной церемонии, никто не станет их оплакивать ни дня, ни часа.
Арабы из отряда аль-Каима – те самые, которые три дня назад по своей глупости положили начало этой трагедии, – недостойно покрасовавшись, словно на традиционном конном празднестве, именуемом фантазия, опасливо удаляются; им почудилось, что трупы, сложенные жалкой кучкой, глядят на них, пригвождая к этому скалистому утесу и посылая им вслед проклятия – ведь тела-то их так никто и не предал земле.
Основная часть французского войска оставалась на месте. Поэтому, кроме санитаров и разведывательной группы, кладбища этого не видит никто, солдатам из-за дальности расстояния оно кажется неясным пятном… По рукам ходят награбленные вещи, их тут же перепродают друг другу… Затем все-таки поползли слухи: те из очевидцев, кто входил в подземелье, стали описывать мертвецов, которых не удалось вытащить, потому что они превратились в месиво. И французы призадумались, их воображению рисовалось кладбище, раскинувшееся у них под ногами…
Входил ли в пещеры сам Пелисье? Кое-кто задается таким вопросом. В самом деле, наступил третий день трагических событий – 22 июня, этим числом датируется рапорт полковника. Некоторые утверждают, будто бы он сказал, выйдя оттуда: «Какой ужас!»
Другие уверяют, будто он вздохнул: «Какой кошмар!»
Во всяком случае, в своем официальном рапорте он отмечает:
«Подобные операции, господин маршал, осуществляют только в силу жестокой необходимости, моля при этом Бога, чтобы такое никогда более не повторилось!»
Итак, Пелисье страдает, обращая молитвы к богу… Войско обсуждает исход событий. 22 июня солдаты с радостью узнают о конечных результатах операции: множество окрестных племен, в том числе и улед риахи, оставшиеся на другом берегу Шелифа, а также племена бени зейтун, шазгарт, мадиуна, ашаш-все они посылают к французам своих представителей. Начинают сдавать ружья, приводят и оставляют лошадей в знак своего подчинения.
Некоторые солдаты уже готовы забыть шестьсот извлеченных из пещер трупов, которые «примкнувшие» из отряда «Макзен» предают наконец земле, закапывая в общей могиле. Поздравляя друг друга, солдаты еще и похваляются: в пещеры эти за три века турецкого владычества ни разу никому не удалось проникнуть!
Итак, над этими горными кручами одержана, казалось, бесспорная победа. Однако уже на следующий день, то есть 23 июня, окружающая природа как бы начинает мстить за себя: запах тлена становится таким сильным (к ущелью стаями слетаются вороны и грифы, и солдаты видят, как птицы растаскивают человеческие останки!), что Пелисье в тот же день отдает приказ перенести лагерь чуть подальше…
Словно солнце и лето, вступившее в свои права, сама окрестная природа изгоняли французскую армию прочь.
Надо уходить. Запах становится все невыносимей. Но как избавиться от воспоминаний? И вот мертвые тела под палящим солнцем становятся словами. И слова эти трогаются в путь. В их числе и слова излишне длинного рапорта Пелисье; когда они добрались до Парижа, их зачитали на парламентском заседании, и началась яростная полемика: поношения оппозиции, смущение правительства, бешенство сторонников войны, стыд, обуявший Париж, где зреет революция 48-го…
Канробер, подполковник гарнизона в той же Дахре, поделится позже своими впечатлениями:
«Пелисье повинен только в одном: обладая даром хорошо писать и зная об этом, он в своем рапорте представил весьма красноречивое и реалистичное, пожалуй даже, чересчур реалистичное описание страданий арабов…»








