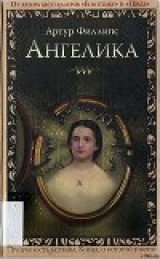
Текст книги "Ангелика"
Автор книги: Артур Филлипс
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
ДЖОЗЕФ ИЗУЧАЛ В ЗЕРКАЛЬНОМ СТЕКЛЕ свое полуобритое лицо. Он украшал его растительностью с тex пор, как уволился из Армии и вернулся в Англию, словно бы именно в Англии желал иметь с отцом самое отдаленное сходство. Баста: ночное прозрение сделалось утром еще явственней, и обаяние прощения взбудоражило Джозефа до крайности. С каждой новой областью, коя очищалась его бритвой, он различал такое множество общих с покойным родителем признаков, что уже не верил, будто они не переполняли его ранее: жестикуляция, черты лица (погребенные доселе под волосами), речевые привычки, даже манера мурлычуще прочищать глотку или выдыхать удивление, Он ощущал подлинное присутствие отца. Не буквальное, разумеется, – скорее он воспринимал некое подобие сочувствия, словно отец просочился через годы и потребовал заслушать свое дело, распыленные извинения, оправдательные объяснения, прочел защитительную речь, заключив ее сдержанной просьбой отсрочить перевод в серые, промозглые коридоры, по коим приговорили скитаться его тень.
Джозеф понимал отца как мужчину, кой некогда вступил в нынешний Джозефов возраст, а значит, разделял с ним соразмерно ущербную мудрость, влечения, несовместные требования к себе и окружающим, настойчивую по потребность принимать решения, не обладая полнотой сведений, и казаться притом источником безупречных суждений. Отец защищал себя, попросту проявляясь в зеркальном стекле. Джозеф прибыл в назначенное место, где призрак отца прождал его долгие годы, выпивая в боксерском павильоне, бреясь в зеркальном отражении.
– В детстве я стоял там, где ты стоишь сейчас, – сказал он Констанс, наблюдавшей с порога за тем, как он вытирает кровь со щеки, – и наблюдал за тем, как его бреют. Лакей или даже моя гувернантка.
– Другие мужчины тоже сбревают в этом году бороды? Не представляю, как ты теперь. Освоиться, я полагаю, будет затруднительно?
Она беспокойно усомнилась даже в этом, хотя его действия затрагивают лишь его одного.
Он довел дело до конца и одевался, когда пришла Ангелика, плутавшая в поисках матери.
– Доброе утро, дитя, – сказал он. – Понравился тебе мой подарок?
– Какой подарок? – спросила она, впервые его замечая.
Он рассмеялся ее очевидному замешательству при виде мужчины, что говорил с нею голосом отца.
– Это ты? Что стало с твоей головой?
Он принял ее в свои объятия, позволив дотронуться до щеки и ей, и ее кукле.
– Принцесса очень довольна, – пропела Ангелика. – Но где твое лицо?
– Это и есть мое лицо. Исчезли только волосы. Они росли на лице не всегда. Когда я был моложе, они не росли.
– Значит, ты теперь моложе?
– Нет, я старею. Мы движемся лишь в одну сторону. Переменяемся и стареем.
– Я тоже переменюсь?
– Разумеется.
Она коснулась крови на его щеке и задумчиво растерла ее между пальчиков.
– Когда я постарею, то буду выглядеть по-другому?
– Разумеется.
– Ты знаешь, как я буду выглядеть?
– Хочешь знать, в самом деле? Хорошо же, взгляни на свою мать. Вероятно, она отображает твою будущую красоту.
– Я буду выглядеть как мамочка?
– Полагаю, это вполне вероятно. Тебе это понравится?
– А тебе это нравится?
– Пришел срок твоему отцу тебя покинуть; оставь его, Ангелика, – вмешалась Констанс, входя под надуманным предлогом и спеша поставить точку на любом приятном взаимодействии отца и ребенка.
– Сколько тебе лет, девочка моя?
– Мне четыре, – немедленно ответила она, выставив в доказательство пять широко расставленных пальчиков.
Он обернулся к Констанс, коя холила порез на его щеке:
– Ты помнишь себя в таком возрасте?
– Едва ли. Учитывая тяготы тех времен, я о них размышляю, представь себе, весьма редко.
– Мне следует считать, что ты была прекраснейшим из детей. Копия женщины, коей ты стала.
Она смела ребенка с его коленей и удалилась.
Он примечал себя в случайном зеркальном стекле и мимолетном окне, включая таковое в лавке Пендлтона: лицо отца зависало над кожаными портфелями и украшало на геральдический манер латунные штемпели. «Я увидал ее в окне, Джо, и цветок в ее волосах». Здесь же Джозеф в свой черед увидел в окне свою жену, и лишь теперь он уловил аналогию. В Лабиринте он радушно принял отклики сослуживцев с примесями изумления и веселья, восторга, издевки, брюзгливой проницательности с брадобрейской моралью, выводимой и гладко выбритыми («Я всегда говорил, что мужчине с бородой есть что скрывать»), и бородачами («Столь крутая перемена есть знак совести, коей настоятельно потребно внимание»), Гарри едва поднял бровь:
– Сегодня с тобой что-то не так. Не пойму что.
Завоевать любовь первой Ангелики надолго было непросто. Он вспоминал, как лежал раздетый в ее постели. Он был болен, и Ангелика заботилась о всякой его потребности, о еде и лекарствах, мыла его. Он вспоминал, как сидел в постели, уже выздоравливая, и обожал няню, коя щекотала перышком овальную вмятину на закруглении его носа, столь дурацкого носа. (Круглый-прекруглый кончик носа, скошенный под малым углом, никуда не делся, по-прежнему добавляя хозяину глуповатого простодушия.)
– Мой большой, сильный, здоровый мальчик, – говорила она, целуя его. – Мой юный английский красавец.
Однако спустя часы или дни она наказывала его за прегрешение, кое он совершил, того не ведая, и приговаривала:
– Я не разговариваю с такими мальчиками, как ты.
Его отец отправился в недельную поездку, и Ангелика не сказала Джозефу ни слова в продолжение трех бесконечных дней, презрев все его мольбы, беснования и слезы.
Отцовское дело – ввоз чая из-за границы – требовало частых отлучек, а атрибуты сего дела – известия о кораблях, декорированные именами восточных портов чемоданы – подразумевали великое приключение. Джозеф с удовольствием пошел бы по стопам отца.
– Ты будешь доктором, – настаивал отец. – Этого желала твоя мать, а она отдала за тебя жизнь.
Она была дочерью и сестрой медиков, но Джозеф не был знаком ни с кем из них, ибо они не торопились с визитами.
Даже когда Джозеф изыскивал в себе мужество поднять больную тему, Ангелика упрекала его: «С какой стати ты желаешь быть на него похожим?» Вопрос оказался риторическим, ибо отцовское дело пошатнулось, когда Джозеф приближался к совершеннолетию, а затем и вовсе расстроилось параллельно со здоровьем отца. Из дома пропадали предметы обстановки и роскоши, слуги исчезали, пока не осталась одна лишь Ангелика, коя заботилась равно об отце и сыне, а между тем Карло Бартоне либо отбывал с цветком в пиджаке, намереваясь блудить по паркам в поисках служанок и прачек, либо возлежал дома, не в силах подняться и даже разговаривать, придавлен грузом скорби куда более тяжким, нежели можно было ожидать ввиду одного только краха его состояния.
Джозеф только-только приступил к изучению медицины, когда злоключения довели Карло почти до могилы и парад стряпчих, заимодавцев и разносчиков скверных вестей беспрерывно обивал их порог. Столкнувшись с экономией, каковая делалась все строже, и предполагая, что отец в итоге потеряет дом, Джозеф оставил медицинский факультет и применил свои ограниченные врачебные познания, дабы завербоваться на госпитальную службу. Отец не мог ни помочь ему, ни воспрепятствовать, и настал день, когда сын явился прощаться. Отец присел в постели.
– Хорошо, что ты пришел, Джо. Когда ты победительно вернешься в Англию завоевателем, все прояснится.
– Меня не будет некоторое время, папа.
– Да, вполне понимаю. – Карло Бартоне сидел, смаргивая утреннее солнце. – Я оставлю наше фортепьяно. Дому, я полагаю, тоже ничто не грозит, – беспечно добавил он. – Я его завещал, так что аресту он не подлежит.
– Кому? У меня его с легкостью отнимут, разве нет?
– Да.
– Кому же тогда?
– Твоей матери. – Вот, значит, до какой степени размягчился его ум. – Где она, к слову говоря? Я желаю супу. – Эти последние слова он произнес на итальянском, раздражившись и натянув одеяло на небритый подбородок. – Ты уже распрощался с нею? Иди же, что ты застыл?
То были последние реплики, коими Джозеф обменялся с отцом, столь очевидно спятившим с ума вследствие невзгод и возраста.
Ангелика была в кухне, она сидела на высоком табурете с картофелиной в руке, ничего с нею не делая и не варя никакого супа.
– Ты уезжаешь? – спросила она.
– Карло нездоровится. Присмотри за ним. Он называет тебя моей матерью.
Ее лицо не дрогнуло, и ровно эта реакция на безумное утверждение окатила Джозефа первой волной боли.
Он не отличался сообразительностью – с той поры он неизменно готов был признать это первым; он не сумел заподозрить то, что в ретроспекции оказалось яснее ясного.
– Его рассудок помрачился.
– Он желает, чтобы ты все знал. – Ее лицо по-прежнему не менялось, хотя она встала и шагнула к Джозефу. – Должно быть, он сего пожелал в конце-то концов.
Джозеф отступал от навязчивой итальянской старухи, а она торопилась повести свой многажды репетированный, многажды сдержанный рассказ до того, как Джозеф сбежит. К финалу она встала между ним и дверью в столовую.
Лишь только английская жена Карло Бартоне понесла, сделавшись недосягаемой для его вожделения, он взамен навестил в комнате внизу (где спала теперь Нора) служанку Ангелику. Та сопротивлялась его намерениям, но в недостаточной мере. Она скрывала свое положение почти до самого конца и прежде срока произвела на свет в той же комнате мальчика; случилось это менее чем через неделю после того, как госпожа Ангелики скончалась, запоздало разрешившись мертворожденной девочкой. Тотчас было решено обставить все сообразно с условностями.
– Что за чушь ты порешь! – бушевал Джозеф. – Ему следовало выставить тебя и твоего ублюдка из дома. – Что ни говори, то был недодуманный ответ, в одной фразе сочетавший спесь, стыд и самообольщение.
Противоречие лишь побудило Джозефа к новым выпадам: – Имей совесть испытывать хоть каплю стыда! Английская сучка – и та устыдилась бы. Шлюха с грязным младенцем прижились в его доме!
Он сказал много больше, оставив ее, когда она, рыдая, извинялась перед ним впервые в его жизни.
Он уехал из Англии на десять лет, воевал и обучался профессии, кою у него похитили, обучался, отпиливая ноги от заходящихся криком тел, тщетно перевязывая слишком широкие и глубокие раны, поддерживая головы мужчин, кои бились в судорогах и захлебывались рвотой в последние свои минуты, стальных мужчин, великанов, искавших утешения. Он яростно бился с собственным невежеством, с отцом и отцовской шлюхой. Он видел матерей и детей, умиравших в погубленных деревнях.
Прощение сделалось его идеей фикс, прощение матери и отца, что скончались до его возвращения в Англию, прощение самого себя, унаследовавшего почти пустой дом, завещанный ему… «э, как же, интересно, сие произносится?» Стряпчий нашел ее имя забавным и провозгласил его, не пожалев иронического акцента.
VIIДо последнего часа дня Джозеф приводил в порядок журналы. Он снабдил инициалами ремарки студентов-медиков, подправил тут и там анатомические термины, дополнил невыразительные описания. Он проверил надежность легких щеколд на загонах и тяжелых затворов на окнах, дважды подергал цепь на входной двери.
Гам лаборатории скоро рассеялся, заместившись шумом улиц вокруг Лабиринта. Невозможно было вполне свыкнуться с преображением целого мира. Даже Джозефа, работавшего в лаборатории дольше других, оно по сей день сбивало с толку. И сам доктор Роуэн говорил о тотальном перерождении звуков: «По правде говоря, половина меня полагает, что первое встреченное на тротуаре существо жалостливо съежится и станет заунывно поскуливать!» Джозеф кивал и улыбался всякий раз, когда доктор выдавал эту остроту.
Он миновал лавку Пендлтона. Когда бы много лет назад он знал, что прелестный розовый бутон за прилавком Пендлтона распустится таким вот образом, стал бы выбор его иным? Он стоял тогда на том же месте. Он мог подчиниться мудрому голосу, английскому голосу, что помнил о его положении (уже умаленном), и обойтись с продавщицей соответственно, но вместо этого другой голос, мертвый и чуждый, превратил Джозефа в пылкого влюбленного, уподобив отцу.
Он мог жениться выгоднее. Он был совсем не богат, однако жил благополучнее, нежели позволяла обычно его должность, и в те безрассудные дни мог на положении вернувшегося «героя» сочетаться браком с сестрами коллег, привлеченными будущностью Джозефа и его подчищенной биографией. Констанс Дуглас, с другой стороны, трудилась в канцелярской лавке, однако захватила воображение Джозефа абсолютно и мгновенно. В тот миг, когда они впервые заговорили друг с другом, он запнулся, пал и обезволился. Он рассыпался перед собой в сумасбродных сравнениях: она была подобна покою, Англии, любви, нарисованной в храме богине. Джозеф не углядел в ней разве что самое очевидное сходство – с чаровницей, коя переменила всю отцовскую жизнь, с похищенной у него английской матерью.
Первое впечатление – это своего рода посул, ибо считается, что один человек встречает другого в типическом расположении духа. Когда мы взамен встречаем кого-то in extremis,[19]19
3д.: в тяжелых обстоятельствах (лат.).
[Закрыть] он или она, в сущности, нам лгут. И вот случился день, когда Джозеф Бартон вошел в лавку Пендлтона, желая обрести футляр с замком, несколько чернильных перьев и жену-англичанку, а девушка за прилавком кротко рассмеялась, смахнула с чела прядь волос и умышленно «взяла себя в руки», дабы обратиться к следующему покупателю, а затем улыбнулась Джозефу. Настроение, в коем она пребывала тем утром, было необыкновенным, но для Джозефа явилось посулом.
Другие настроения, пока что непостигнутые, с необходимостью станут не более чем отклонениями от вероятно преобладающих свойств характера, кои установились тем солнечным утром, насквозь промоченным дождем фатума (словно бы сама погода предупреждала: происходящее не есть норма).
Ибо почти всякий день и уже мучительно долго Констанс была мучима печалью, или страхом, или тревогой, либо, по редким поводам, озарялась добросовестной улыбкой, слабым эхом радости, коя пленила Джозефа утром того непрерывно отдаляющегося дня. Некогда он воображал себе брак с этой женщиной. Она становится за ним, возлагает нежную руку на его локоть, они вперяют взоры в камин. Она осведомляется о его изысканиях, являет жадное любопытство, а то и недюжинный ум, возможно, рождает какую-нибудь безыскусную метафору, коя, в свой черед, вдохновляет Джозефа на новое рабочее прозрение. Она острословит, развлекая его дома за счет идиотов, коих они терпят на людях. Он мог бы расчесывать ей волосы, как расчесывал однажды волосы своей гувернантки. Своей матери.
Он остановился, дабы приобрести для жены обильный пук весенних цветов, осмотрел цветочницу на извечный отцовский манер, но не смог вызвать из памяти ни единой чарующей фразы: их сходство уже меркло. Констанс, в свою очередь, вероятно, восславит цветы и передаст их Норе, чтобы та их подрезала, снабдила водой и должным образом расставила. С тем же успехом Джозеф мог сразу отдать их Норе. Потому он купил второй букет; он насладится вниманием жены сполна.
Откуда-то сбоку послышался голос, и поначалу Джозеф не смог различить в дорожной толпе его источник:
– Да это же Италиец Джо Бартон – или переодетый им Люцифер.
Джозефа словно выскабливали взгляды прохожих, кои возлагали на него ответственность за слова, по-прежнему лишенные владельца.
– Эге, да ты совсем не изменился, всякий волосок на месте.
Только тут он заметил сгорбленную фигуру с непокрытой головой, что отделялась от теней у борта неподвижного экипажа: пожилой бродяга, знавший, однако, имя Джозефа и его древнее прозвище. Голова бродяги запрокинулась назад и вбок; в этом странном движении чудилась угроза.
– Не изменился. Я всегда говорил, что ты среди кровавых черных ублюдков – будто на прогулке с благосклонными красавицами.
Джозеф изучил сощуренные и косившие глаза, отвисший складчатый подбородок.
– Ну же, ответь что-нибудь старинному собрату по оружию, а, Италиец Джо?
Хриплый и ломкий голос не вязался с товарищеской речью, и Джо не узнавал мужчину, приходя в замешательство: как мог он не знать человека, с коим, по всей видимости, сражался в одном строю?
– Столько времени прошло, не припоминаешь, да? Ну же, отзовись наконец, я весь внимание.
Голова вновь дернулась назад и вбок.
– Что вы здесь делаете?
– Могу спросить тебя в точности о том же, мой лютый и кровожадный однополчанин. Пойдем же, выпьем и отужинаем чем бог послал, – добавил старик поспешно, а затем, глянув искоса, оскалился зубами-надгробиями и сказал, растягивая слова: – Поговорим о чудесных зрелищах, кои наблюдались нами под штандартами Королевы.
Джозеф уклонился бы, заподозрив мужчину в попрошайничестве, но старик называл его тем самым именем, упомянул общее прошлое, опознал Джозефа лишь потому, что сегодня утром тот сбрил бороду в приступе вселенского прощения… и отказаться от выпивки было никак нельзя. Джозеф повел старика прочь от мест, где мог повстречать знакомцев; он засунул цветочный лес под мышку стеблями вперед, и за его спиной вспух разноцветный волдырь. Старик припадал на одну ногу и явно старался распрямиться в полный рост, что чуть превосходил рост Джозефа.
– Италиец Джо, ну наконец-то, – ошеломленно бормотал он. – Не верю глазам своим… – Его одежды были грязны, башмаки – ветхи. Джозеф знал, что пора уже признаться, но старик и так все понял. – Никогда бы не подумал, что ты меня забудешь. Я никогда не забывал Италийца Джо Бартона, это невозможно. И не забуду. До самых райских кущ не забуду.
– Вы должны извинить мою память.
Однако старик не ободрял его и по-прежнему не открывал своего имени; он продолжал вкось рассматривать Джозефа и тряс головой, будто желал немедля пробудиться от сна.
– Я ощущаю себя неуютно. Если мы собираемся вместе пить, положите конец моему замешательству.
– Берегите глотки, парни! Италиец Джо говорит, что ему неуютно.
Более благоразумный человек ускользнул бы, одарив нищего извинениями и монеткой, однако именно сегодня Джозеф не высвободился из этой хватки. Возможно, ни в какой иной день его нрав такого не позволил бы.
Он нашел скромную пивную, а имя старика наконец прозвучало – медленно, ернически и отталкивающе, словно само его произнесение должно было обрушить на Джозефа сель горьких воспоминаний: Лемюэль Кэллендер.
Эти сведения, однако, не высекли из памяти Джозефа ни искры, и он пожалел, что не отправился домой, надеясь провести с Ангеликой – он несколько изумился тому, что и в самом деле питает подобную надежду, – несколько минут перед тем, как она уснет.
– Тебе даже имя мое ни о чем не говорит? Ты что, играешь тут со мной?
При всей тяге к воспоминаниям Лем, стоило им сесть, почти умолк, принявшись за еду и выпивку с неприкрытой поспешностью. Нервический тик – ибо это был он – жестоко терзал старика всякие тридцать или сорок секунд, причем затейливость тика – два рывка назад, закрытые глаза, скольжение влево – наводила на мысль скорее о ритуале, нежели о повреждении нервов, словно однажды судороги были облечены смыслом и, раз поселившись в теле, поминутно отдавались теперь бессмысленным эхом.
Лем то и дело обрывал себя, будто вознамерившись заговорить о чем-то важном, однако всякий раз попросту возвращался к еде с рефреном «Италиец Джо меня и знать не знает», пока Джозеф наконец не сообщил старику, что не отвечает данному эпитету и не слышал его уже много лет, с тех самых пор.
– Брешешь? Ты уже не Италиец?
– Собственно, никогда им и не был, сэр. Дурак Ингрэм просто насмехался.
– Ингрэм, значит, тебе памятен? И смотри-ка: одним прискорбным утром Ингрэма разворотило и расплескало ошметками, и он отдал богу душу, а ты, значит, получил ленточки с медальками и заделался таким же англичанином, как я. Понятненько. Ордена грудь не тянут, хоть бы и слеплены из мертвечины, да?
Джозеф идиотически молчал, от оскорбления потеряв дар речи, разумеется, продолжая надеяться, что чего-то недопонял.
– Скажи-ка, на диво английский Джо, ты часто про это думаешь?
– Про что?
– Про тогда.
– Я почти выбросил все это из головы.
– Счастливчик. Тебе там было чудо как хорошо, верно? Прославился, присвоил, опять-таки, кучу добра.
Лем вытер порезанное лицо рукавом пиджака.
– Присвоил? Вы явно ошибаетесь… никакого «добра», как вы…
– Я-то думаю. Все время думаю. Они будто встают перед самыми глазами. Ни с кем говорить не хочется. А еще, Джо, я все время думаю о тебе. Каждый день тебя вспоминаю, всегда вспоминал с тех пор, как в последний раз тебя видел.
Он возложил жесткую ладонь, каждая линия коей была прочерчена и зачернена грязью, на руку Джозефа, потянул ее к стойке. Джозеф избежал хватки, подняв к губам свое пиво.
– Тебе не слышатся отовсюду голоса старых товарищей? Ты не видишь их мельком на той стороне людной улицы? Не теряешь каплю английского довольства, когда вспоминаешь про то, что совершал? Про парней, заплативших за твою славу?
Времени миновало не так уж много; вряд ли оно виновно в том, что Джозеф позабыл такого человека. Джозеф был довольно беспамятлив на имена и лица, он не отличался общительностью, но полагал свое прежнее знакомство с этим Лемом почти невозможным. Что не означало, впрочем, что солдат никогда не встречался с Джозефом или ничего о нем не знал; не исключено, что им руководили дурные побуждения.
– Прошу прощения за вопрос, Лем. Где мы с вами познакомились?
– Ты смеешься надо мной?
– Нет, сэр, конечно же нет.
– О, тебе вскорости все припомнится. Засияет ясненько июньским солнышком, мой дорогой однополчанин.
Джозеф воспринимал скрытый смысл речей старика с запозданием и был на деле чуть горд тем, что по меньшей мере замечал это за собой и знал, что другие (Гарри, например, коему он позднее обрисовал смутившее его столкновение в комедийном ключе) способны видеть людей насквозь, превращая жизнь в род салонной игры. Тем не менее Джозеф в кои-то веки понял, что Лем не желает ему добра, что он грозит Джозефу прошлым, кое тот не мог припомнить, невзирая на все старания.
– Мы определенно знакомы, храбрец Джо, и я знаю, какой из тебя герой. – Старик принялся вновь резать пирог, только медленнее. – Я, знаешь ли, так много хотел тебе всего рассказать, – странным тоном поведал Лем. Что-то пробормотав, он развернулся с неуместной улыбкой и вежливо поинтересовался: – Ты женился, а, Джо? Как возвратился, нашел себе женушку?
– И у нас есть ребенок.
– Ребеночек Италийца Джо! Как это мило. Хотел бы я с ними повидаться, порассказать твоей хозяюшке о твоих тогдашних подвигах. Обо всем рассказать. Надо бы ей знать, да и мальчонке не повредит. У него в папашах сам Италиец Джо, он должен воздать тебе по заслугам. – Он сглотнул и ощерился, явив кладбищенский рот. – А твоя супруга – у ней кожа белая, да? – Он изрек эту пошлость, явно подразумевая взаимное расположение собеседника к низкопробному юмору, точно они вместе просидели у бивуачного костра не час и не два. – Как, неужели твои вкусы переменились? – Старик загоготал. – Она внимает тебе с нежностью. Очень мило.
Ты засыпаешь, склонив голову на нежную английскую грудь, и вроде как все у тебя тихо-мирно.
Джозеф поднялся, оставив достаточную сумму, дабы заплатить за еду старого нищеброда.
– Полагаю, сэр, сейчас мы расстанемся, – сказал он, – и вы окажете мне любезность, приняв ужин с моими наилучшими пожеланиями.
– Я не просил тебя о подачке. – Теперь старик не скрывал отвращения. Он сбросил деньги со стойки, монету за монетой. – Чем тебя просить, лучше сдохнуть.
Джозеф бежал, позабыв букет. За трапезой скучные стариковские угрозы лишь обостряли мысль о доме, и Джозеф прибыл на Хикстон-стрит в странном возбуждении. Почти бегом одолев лестницу, он успел побыть с Ангеликой, засыпавшей без единой жалобы; его бабочки нигде не было. Он посидел возле дочери, успокоился, затем нашел наверху Констанс. Он попытался изложить соображения, кои посетили его этим днем:
– Я достиг возраста, в коем мой отец… вряд ли имеет смысл о том говорить, но теперь я вижу, что он не был порочным. Он молит меня о прощении, обретая со мной сходство, и я едва ли могу отказать. Это было бы бесчувственно.
Если бы Констанс знала обо всем, что он сегодня испытал, она простила бы ему все неудачи, слабости, порывы, она вела бы себя как подобает. Он подступил к ней, дабы всего лишь заключить в объятия. Она бежала от него почти немедленно.








