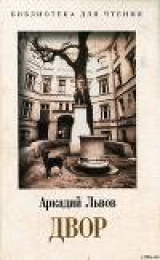
Текст книги "Двор. Книга 1"
Автор книги: Аркадий Львов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
III
Старику Киселису с каждым днем делалось хуже, но он не жаловался. Наоборот, он сам доказывал, что человеку не может всю жизнь быть хорошо: должен прийти час, когда ему станет так плохо, как еще не было, и тогда человек захочет умереть. Клава Ивановна сказала, чтобы Киселис выбросил из головы глупые мысли, он еще будет приходить к ней на могилу, чтобы положить букетик. Потом Клава Ивановна горько вздохнула: она видит Киселиса насквозь – он лучше пойдет с молодой девочкой в кино, чем носить цветы на могилу старухи.
Нет, возразил Киселис, в этот раз мадам Малая ошибается: если на интернациональном кладбище, где евреи лежат вместе с гоями, ему проще будет положить цветы – они будут совсем рядом.
– Ладно, – перешла на серьезный тон Клава Ивановна, – хватит говорить про тот свет, давай лучше про этот. Что тебе принести?
Киселис пожал плечами: ему ничего не надо, у него все есть.
– Слушай, Киселис, – сказала мадам Малая, – не раз води здесь галантерею, а отвечай ясно, что тебе нужно, и мы сделаем.
Киселис опять пожал плечами: ему ничего не надо, у него все есть.
– Хорошо, – уступила Клава Ивановна, – тогда мы сами найдем, что тебе нужно. А глупые мысли выбрось из головы: живые должны думать про жизнь, а про смерть пусть думают покойники – у них есть свободное время. Вчера ЦИК издал постановление, что выборы состоятся двенадцатого декабря. Осталось каких-нибудь два месяца, так что не залеживайся здесь. Правительство дало тебе право голоса, и мы хотим, чтобы ты рассказал молодым, как было при старом режиме. Ты имел право выбирать в городскую думу?
Нет, покачал головой Киселис, в городскую думу он не имел права выбирать и вообще не участвовал в политической жизни.
– О, – воскликнула Малая, – хозяин лавки, коммерсант, и не имел права! Объясни это молодым, а то есть такие, которые думают, что никто им ничего не давал и все само упало с неба.
– В четырнадцатом году, в июле, – улыбнулся Киселис, – я должен был получить, через полковника Котляревского, партию лионского басона. Теперь из басона в моде остались только кисти и бахрома на флагах, а тогда были аксельбанты, позумент, галун…
Киселис поднял брови, глаза стали круглые и веселые, как от вишневки с водкой. Потом он вдруг икнул, раскрыл рот, вышел долгий, не похожий на храп, шуршащий звук, глаза остановились и сделались, как будто стеклянные.
Клава Ивановна побежала за доктором, чтобы Киселису сделали какой-нибудь укол, но доктор, когда взял его руку, сказал, что укола не надо. Клава Ивановна села на табурет, пригладила Киселису ладонями волосы, поцеловала его в лоб и вдруг заплакала. Она пробовала удержаться, закладывала пальцы под зубы, царапала ногтями щеки, но боль не помогла.
Няня принесла простыню, доктор сам накрыл покойника и велел всем выйти. У Клавы Ивановны подкашивались ноги, возле дверей она остановилась, повернула назад, подняла простыню, провела пальцами у Киселиса по щекам, поцеловала его в губы и тяжело застонала:
– Он такой одинокий, никого не имеет, он такой одинокий.
На другой день Киселиса привезли домой. У него была хорошая, метров десять, солнечная комната; когда посередине поставили гроб и с обеих сторон стулья, она показалась меньше, но все равно, сказала Дина Варгафтик, иметь такую комнату на одного человека – многие могут только мечтать.
– Дина, – покачала головой мадам Малая, – это не красиво: в доме покойник.
Колька, Зюнчик и Ося получили от Клавы Ивановны личное задание пройти по этажам и сказать, что выносить будут в три часа. Мальчики стучали в двери ногами и громко кричали, чтобы хозяева хорошо слышали, а те цыкали на них и приглушенными голосами требовали приличий хотя бы в такой день.
Подходить к гробу детям не разрешали: за свой век они еще успеют насмотреться. Мальчики стояли в коридоре, потом Колька принес три свечи, и со свечами они прошли к изголовью.
Старик Киселис лежал, как живой. У него было спокойное доброе лицо, совсем не такое, как раньше, когда они кричали ему: лишенец, получай обратно право голоса! Он замахивался на них своим зонтиком, и теперь нельзя было понять, почему они убегали от него.
– Человек пришел и ушел, как будто его не было, – шептала Аня Котляр, – а пока жив, думаешь, так всегда будет.
Ося плакал, Зюнчик и Колька тоже плакали. У Киселиса было спокойное доброе лицо, они смотрели и старались его не видеть.
В три часа дня Киселиса вынесли во двор, гроб поставили на стулья, застеленные рядном, и стояли молча, пока не пришел Иона Овсеич.
– Товарищи, – сказал он, – сегодня мы провожаем в последний путь старейшего жильца нашего дома, который видел это место, когда здесь еще не было камней, по которым мы ходим, крыши, под которой мы живем, – когда здесь была одна голая земля. Большую часть своей жизни Абрам Киселис жил в условиях царизма, и сегодня мы не будем вспоминать, что не все в жизни покойного тогда нам нравилось. Советская власть не мстила ему, наоборот, она дала ему хорошую светлую комнату, а также работу по специальности в галантерейном магазине, который он содержал в свое время на правах хозяина, другими словами, эксплуататора. А год назад она полностью восстановила его во всех гражданских правах, так что не осталось никакой разницы с остальными трудящимися. На старости лет он был совсем одинокий: единственный брат, Лазарь, в девятнадцатом году убежал за океан, в Америку. Но никто с этим не считался, наоборот, товарищ Малая навещала его до последней минуты, и он умер у нее на руках. Человека не забыли, он мог почувствовать заботу людей, и он готов был ответить на эту заботу, но смерть помешала ему. Когда оставалось жить буквально секунды, он, бывший коммерсант, с горечью вспоминал, что не имел права выбирать даже в городскую думу. В последний миг, перед смертью, человек понял больше, чем за всю свою жизнь. Прощай, дорогой сосед. Прощай, Киселис.
Клава Ивановна расправила черное покрывало с серебряной шестиконечной звездой, мужчины подняли гроб на плечи и пошли к воротам. Здесь стояла маленькая черная подвода с черным передком, черными колесами, черными лошадьми, низкие бортики не давали гробу сползать в сторону.
На кладбище дорога шла по улице Карла Маркса. Когда пересекали проспект лейтенанта Шмидта, встретили роту красноармейцев. Рота шагала в гарнизонную баню, бывшую Исаковича, и пела про щи горячие да с кипяточечком, про штурмовые ночи Спасска и волочаевские дни, а перед похоронами остановила песню: слышно было только, как топают по булыжной мостовой тяжелые красноармейские сапоги.
– Дай бог, чтобы никогда не было войны, – прошептала Аня Котляр.
Дина покачала головой – если бы это зависело лишь от нашего СССР – оглянулась по сторонам, наклонилась поближе к Ане и сказала: между прочим, Исакович, который был караим, держал не только бани. Говорят, он имел еще три или четыре бардака, один – в Красном переулке. В этом переулке целый квартал занимали бардаки, ход был прямо с Дерибасовской.
– Какой ужас! – Аня закрыла лицо руками. – Возле самой Дерибасовской – и люди не стеснялись туда ходить!
– А наша мадам Орлова, – пожала плечами Дина.
– Перестаньте! – возмутилась Аня. – Я не верю.
– Она не верит, – Дина толкнула Аню в бок. – От этого никому ни холодно, ни жарко. Красный переулок до революции тоже назывался Красный: возле каждых ворот висел красный фонарь.
Яма для Киселиса была в левом углу от входа: справа оставался памятник писателю Менделе Мойхер-Сфориму от Одесского губисполкома, братская могила жертв еврейского погрома 1905 года, со стеной чуть не в четверть километра, дальше несли гроб по главной дороге, мимо ряда раввинов и могилы Кангуна, двадцатилетнего командира Красной Гвардии.
Попрощались молча, на душе было тяжело. Чеперуха на обратном пути завернул в погребок ОСХИ. Потом он целый вечер сидел в форпосте и доказывал, что Киселису надо еще завидовать: человек до последней секунды улыбался и мог рассуждать с мадам Малой. Кроме того, ему дали неплохое место, и родственники не выли у него над головой, а его родной брат Лазарь, который, говорят, открыл в Нью-Йорке собственную галантерею, теперь будет иметь на одного наследника меньше. Что тут можно добавить, про такую смерть другие, например, тачечник Чеперуха, могут только мечтать.
– Ципун тебе на язык, – рассердилась Клава Ивановна, – подумай лучше про своего сына и жену, шикер несчастный. Если ты не возьмешь себя в руки, мы сами примем меры.
– Малая, – заплакал пьяными слезами Чеперуха, – не кричи на меня, а то я испугаюсь и буду заикаться, как дети. Я хочу предложить тебе хабар: ты сядешь на тачку, и мы вдвоем съедем по Потемкинской лестнице. Вся Одесса сбежится на бульвар и будет завидовать.
В пятницу, пока не появились звезды субботнего вечера, Соня Граник, с Осей и Хилькой, хотела зайти в синагогу, чтобы сделать пожертвование в память об усопшем. У ворот, большой чугунной решетки из двух створок, Оська вдруг вырвался и побежал домой. Позже в квартире был нехороший разговор, с криками и плачем, слышно было в коридоре, Ефим взял сторону сына, потому что в наши дни стыдно смотреть в глаза людям, когда твоя собственная жена возится с раввинами и темными евреями из Гайсина, ты доказываешь ей, что день – это день, а она все равно как об стенку горохом.
Клава Ивановна похвалила Оську и сказала, теперь она видит, что имеет дело с человеком, который держит свое пионерское слово и не бросает его на ветер. Потом она дала обещание записать Оську в шумовой оркестр: он будет играть на треугольнике, а если найдут, что у него хороший слух, дадут балалайку или мандолину.
– С медиатором? – спросил Оська.
– О, – воскликнула Клава Ивановна, – тебе, как мед, так ложкой! Обойдешься без медиатора.
На другое утро Оська разрезал Хилькину целлулоидовую куклу, сделал себе десять медиаторов, а остатки выбросил в уборную: это было самое надежное место – канализация уходила далеко в море и неизвестно, где кончалась.
Хилька целый день плакала, мама сбилась с ног в поисках, Оська тоже старался изо всех сил, но куклу так и не нашли. Соня объяснила мужу: кукла как в воду канула. В первый миг Оська испугался, а потом испуг прошел, и ему сильно захотелось хлеба с маслом, сверху повидло. Соня обрадовалась: ребенок давно уже не просил сам кушать.
– Китаец, – сказал Ефим, – за сутки съедает мисочку риса, а корейцы кушают соевые бобы, хлеба там вообще не знают.
– Несчастные дети, – вздохнула Соня. – А МОПР им ничего не посылает?
– МОПР не может всем посылать, он не имеет своего банка, – рассердился на жену Ефим. – МОПР дает помощь шахтерам, когда они бастуют.
– А другим разве не надо кушать? – цеплялась за свое Соня.
– Дурацкие рассуждения! – еще больше разозлился Ефим. – Когда всех нельзя накормить, в первую очередь кормят тех, кто на баррикадах не только за себя одного, а за весь рабочий класс, за весь мировой пролетариат.
Тридцатого числа, накануне нового месяца, к мадам Малой опять пришел человек из Сталинского райфинотдела: имеются данные, что Ефим Граник утаивает часть заказов от налога.
– Товарищ, – спросила Клава Ивановна, – у тебя есть лошадь?
– Зачем мне лошадь? – удивился товарищ.
– А я тебе объясню, зачем: у лошади большая голова – крути ей голову. Давай вместе зайдем к Гранику, я тебе открою его шкаф, шифоньер и все мешки, где он держит свои замшевые туфли.
– Уважаемая, – обиделся финагент, – я не пальцем сделанный, и не надо представлять меня дураком, больше чем на самом деле. У вас своя работа, у меня – своя, сегодня вы обязаны помогать мне, а не я вам, и давайте лучше не будем ссориться.
– Послушай, – сказала Клава Ивановна, – я тебе повторяю русским языком: ты не там ищешь.
– Вы ручаетесь своей головой?
Клава Ивановна ответила, да, она ручается своей головой, и тогда товарищ из финотдела сообщил под секретом, что поступило письмо из этого двора, от кого, он не имеет права открывать: это служебная тайна.
– И какому-то паршивому сексоту ты поверил больше, чем мне! – поразилась Клава Ивановна. – Еще раз, и я не пущу тебя на порог. Иди.
Финагент не попрощался, хлопнул дверью, но еще до этого успел сказать, что ее, Малую, тоже надо хорошенько проверить, не вербует ли она заказчиков Гранику. Под процент.
– Дурак! – крикнула ему вдогонку Клава Ивановна. – Первый дурак на всю Одессу.
Из-за финагента у Клавы Ивановны был неприятный разговор с Дегтярем. Он твердо обещал, что финорганы будут поставлены в известность насчет поведения своего сотрудника, но, с другой стороны, как представитель тройки, она, Малая, тоже должна хорошо помнить свое место и ставить на первый план свои обязанности перед советской властью, а не свой гонор. Это не имеет значения, что в данном конкретном случае Малой попался дурак, у нас еще есть дураки, но никто не давал ей права забывать: сегодня этот человек выполняет дело, которое ему поручило государство. Тебе не нравится, как он выполняет, сообщи куда следует. А самоуправства не допускай: у советской власти хватит силы дать любому по рукам.
Клава Ивановна ответила, что не будет оправдываться, но попросила Дегтяря представить себе на минуточку, что он сидит на вокзале и собственными глазами видел, как ушел последний поезд, а через час, когда поезд уже в Раздельной, к нему пристает дурак с билетом на руках: а может, вам только показалось, может, поезд уходит сегодня на час позже?
Иона Овсеич признал пример удачным, но от своего не отступил: всякие параллели, исторические и неисторические, одинаково опасны – сначала как будто становится яснее, а на самом деле они только затемняют факт и отвлекают в сторону. Клава Ивановна открыла рот, видимо, хотела возразить, но Иона Овсеич сказал, хватит, не будем разводить антимонию, и перешел к следующему вопросу – насчет списков избирателей.
Со списками оказалось много осложнений, которые наперед трудно было предвидеть: то имя не совпадает, в паспорте еврейское, а в жизни русское, то год рождения неправильный – у того пол не так записал, этот сам себе прибавил, а некоторые, особенно женщины, просто выдумывают.
– Зачем? – удивился Дегтярь.
– Что значит, зачем? Витрины со списками выставляют на улицу, а женщина стыдится, чтобы все знали, сколько ей лет на самом деле.
– Да, – Иона Овсеич растер ладони и крепко сплел пальцы, – каждому что-то не нравится в собственной автобиографии, каждый хотел бы немножечко изменить и подчистить.
Не удивительно, сказала Клава Ивановна, человек всю жизнь имел над собой хозяина, тот делал все по-своему и никого не спрашивал.
– Малая, – Иона Овсеич закрыл глаза, – у тебя в голове иногда хорошая каша: я тебе – за Ивана, а ты мне – за Петра.
Ладно, вздохнула Клава Ивановна, за Ивана, за Степана, за Петра, а начали с Граника и по дороге потеряли.
– Малая, – Иона Овсеич открыл глаза и опять закрыл, чувствовалось, что человек немного устал, – в художественной мастерской на Греческой требуется специалист. Я звонил туда по телефону.
– Овсеич, – хлопнула себя по коленям Клава Ивановна, – я только хотела просить, а у тебя уже готово! Сейчас я позову Ефима: поговори с ним.
– Нет, – возразил Дегтярь, – звать не надо: пусть утром идет прямо в мастерскую. А если дать ему время думать, он опять будет ждать у моря погоды: человек с детских лет привык кустарничать и не втягивается в коллектив. Мы должны покончить с этой отрыжкой. Любой ценой. Вечером пусть зайдет в форпост – я буду там. Доктор Ланда и Лапидис пусть тоже зайдут.
Следующий день принес новое подтверждение, что Дегтярь видит Граника насквозь: в мастерскую Ефим ходил и ничего плохого сказать не мог, наоборот, только хорошее, но просил время еще подумать, чтобы не получилось с кондачка.
– Ефим Лазаревич, – вежливо обратился Дегтярь, – ты думаешь уже полтора года и ничего не придумал. Какие у тебя основания, что следующие полтора года дадут другой результат?
– Какие у меня основания? – задумался Ефим. – Я вам отвечу: жизнь не стоит на одном месте, и каждый день что-нибудь меняется.
Теперь пришла очередь задуматься Дегтярю, Клава Ивановна сидела как на иголках и вдруг не выдержала:
– Ефим, перестань свои идиотские штуки и нанимайся на работу, чтобы ты был в штате, как все люди!
– Подожди, – остановил ее Дегтярь, – раньше он ответит мне на вопрос: жизнь только с сегодня перестала стоять на одном месте или полтора года назад тоже?
– Э, – сделал пальцем Граник, – Дегтярь хочет поймать меня на горячем, а я ему скажу: завтрашний день – не вчерашний, и не надо сравнивать.
– Нет, – хлопнул по столу Дегтярь, – сравнивать надо, и мы будем сравнивать, а человек, если ему до лампочки выборы в Верховный Совет и сегодня он хочет жить, как вчера, а вчера, как позавчера, так можно вернуться черт знает куда, должен очень крепко подумать раньше, чем вслух сказать слово: всякие поступки и действия начинаются со слова – это мы уже тысячу раз видели, и у нас есть надежный иммунитет.
– И на здоровье, – сказал Ефим, – а я не хочу, чтобы другой указывал мне, как жить. Сталинская Конституция дает мне право жить и работать, где я хочу, и Граник с высокого полета плевал на вашу мастерскую.
– Ефим, – развела руками мадам Малая, – я вижу, что с тобой по-хорошему не выйдет. Если бы твой папа был живой, я бы дала ему совет: Лазарь, возьми длинную палку, и пусть твой сын посмотрит затылком в небо.
– У папы была длинная палка, – засмеялся Ефим, – она достает меня до сих пор.
– А, – схватился за голову Дегтярь, – человек так понимает жизнь и притворяется, как будто ничего не видит!
– Овсеич, – сказала мадам Малая, – ты прав: он видит все в десять раз лучше, чем мы с тобой. Подождем до завтра.
Пришел доктор Ланда, вслед за ним – Лапидис. Иона Овсеич разрешил Гранику идти и напоследок добавил, что с завтрашнего дня его жизнь должна перекрутиться на сто восемьдесят градусов. Лапидис, которого никто не просил вмешиваться, объяснил: чтобы на сто восемьдесят градусов, надо повернуться задом к самому себе. И засмеялся.
– Для чего я вас вызвал? – обратился Иона Овсеич к Ланде и Лапидису. – Я вызвал вас для того, чтобы выяснить насчет агитпункта. По всей стране, от края и до края, широко развернулась избирательная кампания, а вас не видно и не слышно.
– Где не видно и где не слышно? – перебил Лапидис. – У нас на заводе Марти мне уже давно дали нагрузку.
– Допустим, – сказал Иона Овсеич, – но это там, на заводе, а здесь?
– Нелепая софистика! – замахал руками Лапидис. – Там или здесь, какая разница – СССР у нас один!
– СССР один, – подтвердил Иона Овсеич, – это правильно, но люди разные, и во дворе уже говорят со всех сторон, что Лапидиса и Ланды на агитпункте не найдешь днем с огнем.
Лапидис опять замахал руками: какое ему дело до всех этих болтунов и сплетников!
– Лапидис, – тихо произнес Иона Овсеич, – почему у тебя всегда что-нибудь не так? Мы с тобой много лет соседи, ты работаешь и я работаю, у тебя жена и у меня жена, у тебя есть сын, у меня было двое, это уже другой план, но почему так трудно с тобой договориться? Если бы я один, ты мог бы сказать: у Дегтяря паршивый характер. Но ты со всеми хочешь сделать по-своему и навязать свою линию – линию Лапидиса.
– Послушай, Овсеич, – Лапидис даже побледнел от злости, – я тебе не Ефим Граник, и ты брось эти разговорчики. У меня хватает серого вещества, я тебе еще одолжу, а эти разговорчики брось!
– Товарищ Лапидис, – засмеялся доктор Ланда, – ей-богу, вы, как петух. Каждый из нас немножко психолог, но не все говорят вслух, открыто, а Иона Овсеич говорит открыто, в глаза. Я не хочу юлить: да, на агитпункте мы бываем редко.
– Вы! – вскочил Лапидис. – А как вы решаетесь судить обо мне, если сами не бываете?!
– Моя жена руководит детским хором форпоста и не может не видеть, кто приходит, а кто не приходит.
– Короче, – подбил итог Иона Овсеич, – я не собираюсь тебя ловить, Лапидис, но ты сам убедился: всем глаза не закроешь – люди смотрят и видят. Ближе к делу. С завтрашнего дня в нашем форпосте надо открыть консультацию для избирателей, чтобы люди могли получить совет от специалиста. Доктор Ланда дает консультацию по своей специальности, инженер Лапидис – по своей. В середине декады приходит из больницы моя Полина Исаевна – она будет заниматься с отстающими детьми по арифметике. Дни приема не будем устанавливать в приказном порядке: хорошо подумайте и назовите сами – потом менять не будем.
На минуту стало тихо. Клава Ивановна посмотрела на Лапидиса, на Ланду, горько скривила губы и вспомнила старого Киселиса:
– Человек уже был без пяти минут покойник, когда ему сделалось обидно, что все свои годы он был в стороне от политической жизни. Коммерсант, хозяин собственной галантереи, он не имел права выбирать даже в городскую думу! А что такое городская дума, какую она имела власть? Считать, сколько ведер воды выпили казацкие лошади на постое и сколько брать с мужика, который оставил своих вшей в казенной бане. Тьфу!
– Мадам Малая, – улыбнулся Лапидис, – если вам сбросить каких-нибудь тридцать лет, пусть даже не тридцать, пусть двадцать пять, я бы ночь напролет стоял с гитарой в руках под вашим балконом.
– Лапидис, – ответила Клава Ивановна, – теперь я вижу, что мне повезло.
Все смеялись, Лапидис тоже. Когда кончили смеяться, Иона Овсеич обратил внимание, что на все четыре стены в форпосте один лозунг, даже не лозунг, а просто объявление: 12 декабря – выборы в Верховный Совет!
Клава Ивановна с удивлением осмотрелась, хлопнула себя по лбу и дала обещание, что через пару дней претензий к оформлению не будет.
– И еще я тебя прошу, – добавил Иона Овсеич, – чтобы не позже послезавтра избиратели могли прочитать, по каким дням и в какие часы Ланда, Лапидис и Дегтярь будут давать консультации. Я свой день назову потом, чтобы Ланде и Лапидису было удобней.
– Ой, – покачала головой мадам Малая, – Овсеич, ты тянешь, как хорошая лошадь, а годы идут, и моложе никто не делается.
Первое дежурство получилось у доктора Ланды. Он пришел ровно в семь часов, сел за столик, который выделили для консультаций в малом форпосте: дошкольников и октябрят временно перевели в большой форпост. Рядом с Ландой сидела мадам Малая.
Полчаса они говорили между собой о том о сем, потом в дверь заглянула Оля Чеперуха, пошарила глазами, вроде ей кто-то срочно нужен, Клава Ивановна сразу догадалась, что она просто стесняется, надо подтолкнуть ее или прямо взять за руку и подвести к столику.
Клава Ивановна так и сделала, Оля сначала клялась жизнью, что ей ничего не надо, просто она ищет одного человека, но, когда ее взяли за руку и посадили напротив доктора, больше не скрывала правду: она давно уже собирается к врачу, а в поликлинике всегда очередь и надо потерять целый день. По ночам у нее болит сердце, как будто из живота, снизу, прижигают спичкой; иногда начинает жечь под лопаткой, но это уже, наверно, другая болезнь.
– Ты не объясняй доктору, какая у тебя болезнь, – вмешалась Клава Ивановна, – доктор лучше тебя знает, что у тебя болит.
Доктор Ланда напомнил, что он дерматолог, по кожным болезням, а жалобы мадам Чеперухи – по внутренним, то есть к терапевту. Он выпишет ей бром и настойку валерианы, она сегодня еще успеет в аптеку, а утречком пусть запишется к терапевту. Он лично думает, имеется небольшой неврозик, ничего страшного.
– Извините, доктор, я не знаю, что это может быть, но на правой ноге, – Оля погладила себя по бедру, – между мизинцем и пальцем с левого боку, у меня иногда так чешется, что нет силы терпеть.
– Покажите ногу, – приказал доктор. – Туфли и чулки надо снять: я не ясновидец.
Оля вдруг покраснела, как бурак, схватилась за голову и закричала, что она поставила в духовку тесто, наверное, уже все превратилось в золу.
– Нет, – взяла ее за плечи Клава Ивановна, – ты не уйдешь, пока доктор не осмотрит тебя: здоровье человека дороже.
– Клава Ивановна, – взмолилась Чеперуха, – я вас прошу: лучше в другой раз, я сделаю все, как доктор захочет.
– Оля, – погрозил пальцем Ланда, – в другой раз доктор не захочет.
Когда Чеперуха ушла, Клава Ивановна объяснила доктору: на чулке, где большой палец, у нее десятая штопка, в следующий раз она придет в новых чулках. Так начинаются барские штуки.
Да, согласился доктор Ланда, но, с другой стороны, молодая женщина – ее тоже можно понять. Он говорит это не в защиту ей, а так…
– Нет, – перебила его мадам Малая, – когда говорят, что можно понять, один шаг до оправдания. Стыдиться надо грязи, хламидничества, а чистой, аккуратной латки стыдиться не надо.
Доктор Ланда на секунду призадумался и поднял обе руки вверх:
– Сдаюсь.
Ефим Граник пришел, когда из двух часов, положенных доктору Ланде на консультацию, осталось минут пять, не больше. Вообще говоря, это не имело никакого значения, поскольку он пришел с одной-единственной целью: сообщить, что с новой шестидневки нанимается на работу. Но поскольку он уже здесь и доктор Ланда тоже здесь, пусть посмотрит его руки: в последнее время кожа пересыхает, как трава, а когда проводишь пальцем, она просто слазит.
Доктор Ланда сказал, что в течение месяца у каждого человека полностью меняется наружный эпителий, и это вполне нормально, а у Граника, который, наверняка, злоупотребляет бензином, чтобы смывать краску, процесс немножечко гипертрофирован.
– Какой же выход? – спросил Ефим. – Значит, нет выхода?
– Подожди, – остановила его Клава Ивановна, – доктор еще не закончил, а ты уже задаешь ему вопросы и сам отвечаешь.
– Короче, – доктор Ланда взглянул на часы, нахмурился, – надо два раза в сутки смазывать руки глицерином: вечером, перед сном, и утром, перед работой. Хорошо бы еще делать молочные ванночки.
– Молочные? Из чистого молока? – поразился Ефим. – А где вы можете каждый день достать в магазине молоко!
Доктор Ланда захлопнул свой портфель, сказал общее до свидания и хотел уже выйти, но тут Граник вспомнил, что рецепта на глицерин ему так и не выписали.
– На глицерин, – сказал доктор, – не надо рецепта. Если потребуют, в следующий понедельник у меня опять консультация. А вам, Клава Ивановна, персональное спасибо: дай бог каждому врачу иметь такую сестричку.
– Ланда, – крикнула вдогонку мадам Малая, – не забудь принести для агитпункта какие-нибудь плакаты и книжечки по здравоохранению.
На другой день, согласно расписанию, была консультация по строительству и экономическим вопросам. Консультант, инженер Лапидис, явился с опозданием на целый час, и мадам Малая уже не могла найти себе места.
– Наконец! – схватилась она, когда Лапидис переступил через порог. – Твое счастье, что Дегтярь задержался у себя на работе.
Между прочим, сказал Лапидис, он тоже задержался у себя на работе: подводили окончательные итоги по третьему кварталу.
– Сегодня по третьему кварталу? – удивилась Клава Ивановна. – А где же вы были раньше?
– Там же, где сегодня, – засмеялся Лапидис.
– Ой, Лапидис, – покачала головой мадам Малая, – со своими дурацкими шутками ты плохо кончишь.
– Малая, – перевел разговор Лапидис, – ты лучше скажи: у Ани Котляр будут ко мне вопросы по экономике и строительству?
– Смотря какая экономика, – Клава Ивановна за жмурила правый глаз, – и смотря какое строительство.
– Соцэкономика и соцстроительство, – уточнил Лапидис, – меня другое не интересует.
Клава Ивановна заменила в первых двух словах начальные буквы на «п», отчего получился немножко неприличный смысл, и велела Лапидису не вилять хвостом, потому что она все равно видит его насквозь через пиджак, брюки и сподники. Кроме того, пусть он придержит свой язык: у Иосифа еще крепкая рука.
– Но наш бронепоезд стоит на запасном пути! – вдруг запел Лапидис.
Дети, проходя в большой форпост, оглядывались на дядю Лапидиса и крутили пальцем возле виска. Дядя Лапидис весело подмигивал им и, в ответ, тоже крутил пальцем возле виска.
Раньше всех пришла на консультацию Аня Котляр. Под мышкой у нее была книга. Клава Ивановна поинтересовалась, это что-то серьезное или просто какой-нибудь роман. А, махнула рукой Аня, один пустяк, «Отец Горио», Оноре де Бальзака, она уже четвертый или пятый раз читает. Клава Ивановна удивилась: зачем же читать пятый раз подряд одну книгу, если за это время можно прочитать еще четыре?
Слова мадам Малой застигли Аню врасплох, потому что в глубине души она рассчитывала на другое отношение: когда человек пятый раз подряд читает Бальзака, люди удивляются, откуда у него берется терпение.
– Товарищ Малая, – сказал Лапидис, – здесь ты ошибаешься.
– По-твоему! – отпарировала Клава Ивановна.
– Не только по-моему, – хитро подмигнул Лапидис, – по мнению Маркса – тоже.
– Какого Маркса? – вскинулась Клава Ивановна.
– Маркс у нас один, – ответил Лапидис, – и он лично писал в своем письме Энгельсу, что по книгам Бальзака узнал жизнь больше и глубже, чем по книгам ученых-экономистов.
– И у тебя есть это письмо?
В данный момент, ответил Лапидис, письма у него под рукой нет, но найти можно в любой библиотеке. А впрочем, одна секунда, пусть Аня передаст ему книжку.
Лапидис быстро провел пальцем по первой странице, перевернул и громко прочитал вслух: «Маркс хотел написать о Бальзаке отдельную книгу, но не успел».
Хорошо, уступила мадам Малая, допустим, Лапидис говорит правду и такое письмо действительно есть, но теперь у нее вопрос к Ане Котляр: почему она сразу не ответила, как относится Карл Маркс к этому писателю?
Аня пожала плечами: про Карла Маркса написано в предисловии, а она считала, что предисловие не обязательно читать.
– А кто же будет читать предисловие? – поразилась Клава Ивановна. – Дюк?
Аня молчала: она хорошо понимала, что мадам Малая права здесь на все сто процентов, но сразу признать свою вину – для этого тоже надо иметь мужество. От долгого молчания, когда рядом сидят три человека, делается тяжело на душе, и Лапидис весело, как будто в цирке, обратился к публике:
– Уважаемые дамы и господа, а теперь от экономики перейдем к строительству! Какие вопросы будут по строительству?
По строительству, сказала Аня, у нее есть один вопрос: она хочет провести к себе в квартиру самостоятельный кран, чтобы иметь свою воду и ни от кого не зависеть, но она не знает, закон дает на это право или не дает.
– Ты притворяешься или ты в самом деле! – опять поразилась Клава Ивановна. – Здесь агитпункт, человек дает консультацию по выборам в Верховный Совет СССР, а тебя волнует, как завести себе отдельный кран в своей квартире.
– Подожди, Малая, – перебил консультант Лапидис, – вопросы можно задавать всякие – главное, как отвечать. Что же касается конкретно водопровода и отдельного крана, надо объяснить избирательнице Котляр, что в данном случае мы имеем дело с капитальным строительством и на это требуется разрешение райисполкома, а практика показывает, что таких разрешений райисполком не дает.








